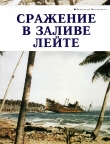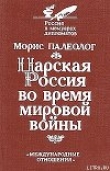Текст книги "Европа в эпоху империализма 1871-1919 гг."
Автор книги: Евгений Тарле
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 43 страниц)
Другими словами, он тоже грозил войной.
Тянуть дело неопределенно долго было нельзя. Параллельно со сношениями, затеявшимися между Россией и Австрией, шли более опасные и острые сношения между Россией и Германией. Через несколько дней после провозглашения аннексии германский посол Пурталес с непосредственностью и поспешной откровенностью, которые характеризовали всегда манеру Вильгельма в тех случаях, когда сила была на его стороне, передал Извольскому следующее: «Россия, несмотря на все заслуги Германии перед ней, все более и более сближается с враждебной немцам группой держав. Кульминационными пунктами такой политики была Алжезирасская конференция и ревельское свидание с королем Эдуардом. Подобная перегруппировка держав заставляет Германию, более чем когда-либо, тесно сблизиться с Австрией и принять за основание своей политики полнейшую солидарность во всех вопросах с Габсбургской монархией». Аннексия Боснии и Герцоговины как месть за англо-русское соглашение – такова мысль этих слов. 23 марта 1909 г. Вильгельм категорически потребовал от России немедленного признания аннексии, и русское правительство принуждено было подчиниться[42]42
Цитированные тут новые и важные документы впервые напечатаны в журнале «Красный архив», т. X, 1925, стр. 41–53 А.М.Зайончковским. Самое соглашение России с Англией А.М.Зайончковский оценивает неправильно: «коварство Альбиона» было не столько в пунктах соглашения 1907 г., сколько в более далеком (и оправдавшемся) расчете на военное участие России в будущей англо-германской борьбе.
[Закрыть].
Так закончилось это дело. Каков был его исторический смысл? Была ли аннексия Боснии и Герцоговины для Германии только средством нанести удар Антанте, доказать России жестоким уроком, что союзники ее не поддержат, что нужно идти не с ними, а с центральными державами? Конечно, нет. Эта цель была, но были и другие мотивы.
Ведь мы уже видели, что с 1898 г. мысль об экономическом утверждении на землях Турецкой империи сделалась, можно сказать, одной из главенствующих в германской политике. Начавшаяся с 1909 г. постройка Багдадской дороги успешно двигалась дальше и дальше, и этот факт повелительно требовал соответственных шагов на Балканах. В самом деле. Путь от Берлина до Багдада должен был всецело находиться либо в руках Германии, Австрии и Турции, либо дружественных им держав. Болгария могла быть другом, но вообще ее позиция в 1907–1909 гг. вовсе еще не была такой ясной, как начиная с 1913 г. Сербия была определенным врагом Австрии и поэтому другом России. Аннексия Боснии и Герцоговины обрекала Сербию на экономическую зависимость от Австрии и на будущее время, а также на политическое бессилие. Тот участок великого пути «Берлин-Багдад», который проходил по Балканскому полуострову, должен был быть обеспечен и с тыла и с флангов, а для этого Австрия вызывалась на активную балканскую политику, и Германия смотрела на свою союзницу как на прямое и естественное свое продолжение.
Разбитая пруссаками в 1866 г., преобразованная в 1867 г. на началах «дуализма», т. е. полной внутренней автономии двух основных частей – Австрии и Венгрии, эта «двуединая» австро-венгерская монархия долгое время обнаруживала неожиданную живучесть. Мечты Бакунина о полном разрушении Австрийской империи, мечты, с которыми он вошел в свою долгую тюрьму и с которыми из нее вышел, не исполнились на его веку. Еще в 1869–1870 гг. (до начала франко-прусской войны) Франц-Иосиф носился иногда с мыслью о союзе Австрии с Францией и о новой борьбе с Пруссией. Но 1871 год решил дело. С тех пор Австрия думает о союзе с Германией как о единственном спасении от славянских восстаний внутри страны и от славянских нападений извне. Ее поддерживала тесная экономическая связанность отдельных частей, но и тут экономически развитые части, вроде Чехии, были в лучшем положении, чем многие другие, и могли считать себя экономически самостоятельными. Австрия, еще с 1879 г. вступившая в союз с Германией, за этот союз держалась очень крепко. Венгрия, управляемая землевладельческой аристократией, в интересах крупного землевладения круто теснила подчиненные ей славянские племена, и вследствие географического ее положения именно через нее Германия больше всего рассчитывала давить на Балканы. В Венгрии, не меньше, чем в Австрии, был развит страх перед русской опасностью, и политика австро-венгерской дипломатии (министр иностранных дел был один, общий для обеих частей империи), поскольку она тяготела к Германии, всегда получала в Венгрии одобрение.
Был, правда, момент передышки в истории австро-русской вражды. Смуты в Македонии, где шло упорное революционное движение против Турции, длились долгие годы. Положение было крайне запутано не только потому, что македонцы хотели избавиться от турецкого владычества, но и потому, что одни из них тяготели к Сербии, а другие – к Болгарии. И вот тогда-то, в 1903 г., мелькнула как будто (на очень короткий срок) программа австро-русского замирения. Дело было в 1903 г., и момент был подходящий: русская дипломатия была стеснена обострением отношений с Японией, а в Австрии начали несколько тяготиться слишком уж назойливой опекой со стороны Вильгельма II и склонны были поэтому несколько смягчить отношения с Россией.
Граф Голуховский, бывший министром иностранных дел Австро-Венгрии в течение 11 лет (1895–1906 гг.), желал мира с Россией и некоторого освобождения Австро-Венгрии от влияния Германии. Но политика эта не увенчалась успехом. Правда, ему удалось заключить в октябре 1903 г. в Мюрцштегге соглашение с Россией о сохранении без перемен положения на Балканах (в Македонии), но последующие события разрушили это хрупкое здание русско-австрийской «дружбы». «Мюрцштеггская программа» предусматривала ряд реформ и мероприятий, которые Турция должна была проводить в Македонии под контролем иностранных держав. Мюрцштеггское соглашение ни к чему реально не привело, и македонский вопрос продолжал оставаться нерешенным. А с 1907 г. отпошения великих держав, поделенных на Тройственный союз и Антанту, приняли такой характер, что уже и речи не могло быть о совместном давлении на турецкое правительство.
Отныне Турция была для Австрии и Германии главным, самым верным другом на Балканском полуострове.
После аннексии Боснии и Герцоговины, конечно, также речи не могло быть и о независимой от Германии политике Австро-Венгрии. Но, со своей стороны, и в Германии понимали отчетливо, что союз с Австрией абсолютно необходим, и Вильгельм, очень много тогда говоривший, что он «секундант в блестящем вооружении» при Австрии, что у него «нибелунгова верность» (eine Nibelungentreue) относительно Франца-Иосифа и т. д., подобными заявлениями хотел лишь окончательно укрепить существующий факт. Уже в изгнании, в 1924 г., Вильгельм, вспоминая довоенные годы, говорил Альфреду Ниману, что Австрия была единственным союзником и что без нее Германии грозила полная изоляция. Но он же признал, что, раздираемая национальными противоречиями и враждой, Австрия никак не могла быть «полновесным союзником». Мало того. Именно после аннексии Боснии и Герцоговины Австрия привыкла (но об этом Вильгельм молчит, хотя этот факт вполне выяснен), даже не очень справляясь с германским правительством, брать на себя инициативу во всем, что касалось увеличения ее преобладания на Балканском полуострове. И Франц-Иосиф, и наследник престола эрцгерцог Франц-Фердинанд, и граф Берхтольд, бывший в последнее время министром иностранных дел, тоже хорошо понимали, до какой степени Австрия нужна Германии, и делали свои выводы. При этом, преувеличивая мощь своего «секунданта в блестящем вооружении», они проявляли такую смелость, о которой до аннексии Боснии и Герцоговины даже и речи не было.
Опаснее всего было то, что Вильгельм не только не сдерживал австрийской инициативы в таких случаях, но всегда ее приветствовал: это было как раз то, что ему казалось нужным – ответственность не на нем, а на Австрии, он же поставлен пред совершившимся фактом, и тут уж ничего не поделаешь – нибелунгова верность вступает в свои права. А результат – дальнейшее внедрение Германии и Австрии на Балканском полуострове. Вильгельм оправдывается теперь тем, что иначе Австрия попала бы под влияние короля Эдуарда VII, который уже делал тайные шаги, чтобы привлечь ее к Антанте[43]43
Niemann A. Wanderungen mit Kaiser Wilhelm II. Leipzig, 1924, стр. 55: Unsere Loyalitat hat ihren Lohn erhalten als Konig Eduard VII vergeblich versuchte Kaiser Franz-Joseph zu bestimmen sich der politischen Einkreisung Deutschlands anzuschliessen.
[Закрыть]. Во всяком случае создавшееся положение грозило большими опасностями. Но пока ликование в империалистических кругах Германии и Австрии было полное: аннексия Боснии и Герцоговины казалась счастливым прологом к овладению (сначала экономическому) всем Балканским полуостровом, далее – всей азиатской Турцией.
Была ли достигнута другая цель? Ослабело ли сцепление отдельных частей в Антанте? Конечно, нет. Тут и сомнений быть не может. Правда, пи Англия, ни Франция не только не желали воевать из-за Боснии и Герцоговины, но даже и дипломатически почти вовсе не поддерживали Россию, но именно после унижения и поражения, испытанного в 1908 г., и особенно в марте 1909 г., когда нужно было подчиниться ультимативному требованию Вильгельма и признать аннексию, русская дипломатия окончательно и бесповоротно перешла в лагерь Антанты. Образ действий Вильгельма II ставил пред Россией альтернативу: или безусловно подчиниться воле Германии, и притом без надежды на какое-либо вознаграждение, так как именно на Балканском полуострове и в Малой Азии упрочение влияния Германии и Австрии было одной из главных целей всей германской политики, и это подчинение непременно вызвало бы вражду с Англией, расторжение франко-русского союза, закрытие Парижской биржи для русских займов, полную изоляцию России, или же, напротив, окончательно слить свою политику с политикой Англии и Франции, окончательно сделаться звеном во враждебной цепи, окружившей Германию. Русская дипломатия выбрала второе. Этот выбор тоже таил в себе страшные опасности, но при существовавших условиях и тенденциях он был почти неизбежен. А помимо всего с каждым годом мысль о захвате Константинополя все больше выдвигалась на первый план в русской политике.
Барон Грейндль (бельгийский посланник в Берлине) выразил мнение дипломатов Тройственного союза, когда писал по поводу этого дипломатического поражения России, что «машина, выстроенная королем Эдуардом для обуздания Германии, потерпела неудачу при первой же попытке пустить ее в ход». Аннексия Боснии и Герцоговины важна со всемирно-исторической точки зрения именно как вторая по времени попытка расколоть Антанту. Барон Грейндль хоронил Антанту преждевременно. Если Антанте не удалось отстоять Боснию и Герцоговину, то и Германии не удалось расколоть Антанту. Напротив, отношения между Англией, Францией и Россией стали еще более близкими. И самое тревожное было то, что враждебность во всех трех странах против Германии стала сказываться гораздо более откровенно и часто.
Итак, после попытки 1905 г. разбить Антанту в Марокко, после попытки 1908–1909 гг. разбить Антанту в Боснии и Герцоговине германское правительство всякий раз видело, что и его дипломатическая полупобеда (на Алжезирасской конференции 1906 г.) и дипломатическая полная победа (подчинение России ультиматуму Вильгельма II 23 марта 1909 г.) одинаково не могли разрушить Антанту. Напротив, после 1905–1906 гг. Франция еще теснее сблизилась с Англией, после 1908–1909 гг. Россия еще теснее сошлась с Англией и Францией. Нужно было предпринять третью пробу. На пути, который выбран был германской дипломатией, остановки пока быть не могло. Ведь Антанта была вечной угрозой. За первыми двумя попытками должны были последовать новые и новые.
Ближайшая (третья) произошла в том же (1908) году, через несколько времени после того, как была опубликована декларация об аннексии Боснии и Герцоговины. Самый инцидент, послуживший непосредственно поводом, случился даже несколько раньше – в конце сентября 1908 г., но развитие его падает на октябрь и начало ноября. Это – так называемое «дело о дезертирах», тесно связанное с общим вопросом о французской политике в колониях.
2. Дело о дезертирах в Касабланке
Следует сказать, что Франция переживала в эти годы при первом министерстве Клемансо (1906–1909 гг.) время боевого выступления социальной реакции. Жорес назвал кабинет Клемансо «министерством социального консерватизма». В последующем изложении мы еще вернемся к этой эпохе, а пока отметим одну сторону дела, непосредственно сюда относящуюся. Если в чем-нибудь совершенно сходились как революционно и активно настроенные синдикалисты, так и парламентская фракция социалистической партии, руководимая Жоресом, то прежде всего в резко отрицательном отношении к колониальной политике правительства и особенно к тому слабо замаскированному завоеванию Марокко, какое велось с 1906 г. под флагом корректного выполнения постановлений Алжезирасской конференции. Не следует удивляться тому, что за все время существования Третьей республики, когда колониальная политика Франции отличалась такой необычайной активностью, когда захваты колоссальных территорий следовали за захватами, впервые со стороны социалистов возник определенный, резкий протест только по поводу Марокко. И завоевание Туниса в 1881 г., и завоевание Индокитая в 1884–1885 гг., и постепенное завоевание Конго и центральноафриканских владений (1880–1893 гг.), и завоевание Мадагаскара (1894 г.), и другие более мелкие экспедиции и завоевания проходили, правда, с жертвами (и иногда немалыми), но – за вычетом столкновения с англичанами в Фашоде в ноябре 1898 г. – ни разу все эти колониальные предприятия не грозили вовлечь страну в войну с какой-либо первостепенной европейской державой (да и конфликт в Фашоде уладился сравнительно очень быстро). Конечно, социалисты разных оттенков – они тогда еще не слились в объединенную социалистическую партию (Parti Socialiste Unifie) – при случае указывали, что народная кровь и деньги тратятся без нужды и пользы, что предпринимаются трудные экспедиции и избиваются туземцы, захватываются земли и эксплуатируются целые племена во имя обогащения кучки хищников, «акул» (les requins du capitalisme), во имя интересов биржи, экспортеров, в интересах более выгодного помещения капиталов и т. д. Было время, когда не только социалисты, но и буржуазные радикалы восставали против далеких колониальных походов. Так, тот же Клемансо яростно боролся в средине 80-х годов против Жюля Ферри, протестуя против экспедиции в Индокитай, затеянной Ферри; но тут одним из главных аргументов было еще и указание на опасность отвлекать внимание страны от германской границы, от «дыры в Вогезских горах», откуда всегда могло последовать новое немецкое нашествие. Но во всяком случае пока колониальная политика не грозила прямо европейской войной, протесты против колониальных предприятий не были никогда сколько-нибудь сильными, длительными и заметными во Франции.
Теперь, в 900-х годах, с мароккским вопросом все шло совсем по-иному. Впервые Франция столкнулась на почве колониального соперничества не с Англией, а с Германией, с которой у нее было столько счетов в самой Европе. Германские промышленные и торговые круги, германские биржевые деятели, стоявшая за ними всеми германская дипломатия ни за что не хотели отступить от мароккского дела. По идее Гольштейна, разделяемой и канцлером Бюловым, Марокко должно было стать той постоянной французской раной, притрагиваясь к которой, Германия могла влиять на Францию. У Германии были свои экономические интересы в Марокко. И братья Маннесманы и другие торговцы и промышленники из Германии всячески побуждали свое правительство энергичнее действовать против постепенно проводимого французского захвата. В 1905 г., как мы видели, дело дошло до угрозы войной; в 1906 г. прошла Алжезирасская конференция; в 1907–1908 гг. в Германии опять поднялись жалобы, что французы очень мало считаются с ограничениями, наложенными на них в Алжезирасе, и постепенно все же внедряются в Марокко. Тогда Жорес повел систематическую и энергичную кампанию против правительства. Его главный аргумент был тот, что рисковать из-за Марокко неисчислимыми жертвами новой войны с Германией – бессмысленное преступление. Синдикалисты со своей стороны повели антимилитаристскую пропаганду, мотивируя это тем, что единственная сила, которая может сдержать колониальных хищников и идущее за ними правительство Клемансо, – это страх всеобщей забастовки в момент мобилизации и страх революционного движения в войсках.
За этим движением в Германии внимательно следили. Решено было опять «притронуться к мароккской ране» и опять здесь испытать прочность Антанты.
Предлогом послужило следующее происшествие. Во французской Северной Африке существует с 1832 г. большой постоянный отряд (около 6 тысяч человек в мирное время), называемый «иностранным легионом». Формируется он из кадровых офицеров и добровольцев, принимаемых лишь по признаку пригодности к военной службе. Никаких при этом бумаг, рекомендаций не требуется, никаких справок не наводится, и человека только спрашивают, под какой фамилией он желает числиться. Жизнь в легионе довольно тяжелая, условия службы трудные, опасности постоянные, дисциплина самая жестокая, с обильным применением смертной казни. Влечет людей туда надежда после нескольких лет выслуги получить новые, незапятнанные бумаги, паспорт, начать новую жизнь; влечет также небольшое, но аккуратно выплачиваемое жалованье. С давних пор среди массы пришлого люда и иностранцев, заполняющих этот легион, значительный процент составляли именно немцы, и в Германии давно велась пропаганда против иностранного легиона.
В сентябре 1908 г. из иностранного легиона бежало несколько рядовых (дезертирство вследствие тяжелой службы и жестокой дисциплины там дело обычное). Дезертиры укрылись в доме немецкого консула в г. Касабланке (в Марокко). Спустя некоторое время консул решился переправить их тайком на немецкий пароход, но французские власти остановили их в порту, отбили от сопровождавших их чинов германского консульства и отвели в тюрьму. Возгорелось крупное дело. Сначала Вильгельм II потребовал безусловных извинений за оскорбление консульства, освобождения арестованных дезертиров немецкого происхождения (там были и другие) и т. д. Клемансо (глава кабинета) предписал министру иностранных дел Питону не только отклонить всякие извинения, но еще требовать наказания германского консула за укрывательство дезертиров. После очень напряженных и ведшихся в весьма неприязненном тоне переговоров обе стороны согласились передать дело на разбирательство в Гаагский трибунал. Но Вильгельм II неожиданно уже после этого приказал германскому послу Шену явиться к Клемансо и требовать еще до решения гаагского суда освобождения дезертиров и следствия по поводу столкновения в порту, на предмет предания суду французских чипов, задержавших дезертиров. Клемансо отказал наотрез. Тогда посол Шен явился к Клемансо с сообщением, что ему велено либо немедленно требовать удовлетворения, либо вечером выехать из Парижа. Клемансо отказал вторично и столь же категорически.
Посол не уехал, и через некоторое время французское правительство было уведомлено, что Вильгельм согласился окончательно передать дело на гаагское разбирательство (которое впоследствии кончилось в общем в пользу французов). Несколько недель во Франции и Германии царило сильное беспокойство, которое рассеялось лишь в ноябре 1908 г., когда опасность войны исчезла. В начале февраля 1909 г. Франция и Германия подписали частичное между собой соглашение, или, вернее, декларацию, относительно Марокко: Германия снова признавала за Францией особые политические интересы в Марокко, а Франция объявляла, что она не будет противодействовать экономическим интересам Германии в этой стране. Туча опять временно рассеялась. Инцидент с дезертирами тоже не разрушил, а скрепил Антанту: как раз после того как Клемансо отказал германскому правительству в извинениях, к нему явились английский и русский представители и от имени своих правительств выразили сочувствие и полное одобрение его образу действий.
Именно с этого времени в германской прессе впервые заговорили о том, что не следует преувеличивать силы французского антимилитаристского течения. Неуступчивость Франции произвела впечатление. Опять речь пошла о неспособности и ошибках германской дипломатии. Беспокойство возрастало.
И как раз тогда разразился памятный политический скандал, который внезапно заставил Германию громко заговорить о том, о чем до тех пор многие там не хотели думать.
Глава IX
ГЕРМАНИЯ И АНТАНТА ОТ АННЕКСИИ БОСНИИ И ГЕРЦОГОВИНЫ ДО АГАДИРСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
1908–1911 гг
1. Движение в Германии против Вильгельма II в ноябре 1908 г
В ноябре 1908 г. произошло событие, которое публицист Максимилиан Гарден полушутя, полусерьезно назвал «ноябрьской революцией», не подозревая, что ровно через десять лет произойдет настоящая ноябрьская революция, которая в один день опрокинет трон Вильгельма и уничтожит монархию в Германии. Но если в 1908 г. ноябрьский взрыв негодования, прямо направленный против Вильгельма II, и не был революцией, то он представлял собой нечто совсем необычайное по силе и внезапности, а также по некоторому несоответствию внешнего повода прямым и отдаленным последствиям. Сразу почувствовалось, что дело идет не только об очередной бестактности (как бы в самом деле нелепа и вредна она ни была), совершенной Вильгельмом, а о том, что с ним желают рассчитаться по очень длинному накопившемуся за ним счету. В ноябре 1908 г., правда, до полного расчета еще не дошло (к величайшему несчастию для Германии), но Вильгельму припомнили многое. Припомнили и отставку Бисмарка, и провокационные речи против социал-демократии, и неудачу во всех попытках разрушить Антанту, и безрезультатность его внешней политики вообще, и личные непрерывные вмешательства в дипломатию, и непозволительную в государственном человеке болтливость. Характерно, что в этом общенародном (ни один класс, ни одна партия не стали на защиту Вильгельма) хоре осуждений, язвительных насмешек, негодования громче всех звучали голоса органов крупных промышленников, представителей торгового и банкового капитала, голоса людей, больше всего стоящих за «активную» внешнюю политику.
Дело в том, что в английской газете «Daily Telegraph» 28 октября 1908 г. появилась беседа Вильгельма II с корреспондентом этой газеты. До сих пор тайна, как ее пропустила цензура канцлера и министерства иностранных дел, куда она была своевременно представлена. По-видимому, они ее просто не прочли; это явствует из их довольно путаных объяснений впоследствии. В этой беседе Вильгельм жаловался на враждебность Англии к Германии (причем называл англичан взбесившимися мартовскими зайцами); хвалился своей дружбой к Англии; рассказывал, как он в эпоху бурской войны отклонил секретное предложение Франции и России о совместном выступлении против Англии, как он послал для лорда Робертса выработанный план скорейшей победы над бурами; намекал, что германский флот предназначен для действий в Тихом океане (т. е., значит, против японцев) и т. п. Не говоря уже о том, что многих возмутили эти признания относительно времен бурской войны, так как при свете этих признаний известная поздравительная телеграмма Крюгеру в 1896 г. являлась настоящей, обдуманной провокацией, но можно было опасаться сильного ухудшения в отношениях с Японией. Наконец, разоблачение тайных переговоров с Россией и Францией в прошлом, естественно, должно было затруднить впредь всякий доверительный подход к Германии со стороны любой державы. Словом, вся эта беседа была крайне вредна для престижа и интересов Германии.
В первые дни ждали опровержения по существу, указания на то, что беседа выдумана корреспондентом. Но когда убедились, что беседа подлинная, тогда и разразилась, как сказано, буря и в прессе, и в парламенте. «Возбуждение, возникшее теперь, длительно и велико, – заявил в рейхстаге представитель консервативной партии, – несправедливо было бы связывать его исключительно с последними сообщениями. Здесь дело идет о неудовольствии, которое накапливалось годами даже в тех кругах, у которых никогда не было недостатка в верности к императору и империи». Точь-в-точь то же самое говорили социал-демократы и все промежуточные партии. Единодушие было полное и в самом деле изумительное. А главное все-таки – при всей нелепости этой беседы с корреспондентом английской газеты, слишком уж велика (и необъяснима одним этим фактом) была обрушившаяся на Вильгельма гроза. Никто решительно не стал на его сторону. Только тон варьировался: у социал-демократов преобладали язвительность, ирония, сарказм; у буржуазных радикалов и либералов – тоже насмешка, но более смягченная, и указания на недопустимость дальнейшего «личного режима» и безответственных действий императора; у консерваторов – гнев и чувство горького разочарования, долго сдерживаемого и скрываемого. Они говорили об ударах, которые наносятся монархическому принципу самим же носителем короны.
Осуждение было всеобщим и в Германии, и за ее пределами. Впрочем, я нашел одно исключение: русского посла в Берлине графа Остен-Сакена. Вот что мне привелось вычитать в его доверительном донесении Сазонову, писанном не в 1908, а в 1910 г., по поводу одного социал-демократического запроса: «Сознание совершенной два года тому назад умеренными партиями непростительной ошибки, когда под влиянием слепо увлеченного общественного мнения даже бывший канцлер не нашел перед парламентом слов защиты для ограждения своего монарха, – подготовило ныне иную почву для обсуждения интерпелляции[44]44
Интерпелляция – особый вид официального запроса депутата парламента правительству или какому-либо члену правительства по определённому вопросу, право парламента официально задавать вопросы правительству. Отличие интерпелляции от других видов депутатских запросов состоит в том, что ответ сопровождается прениями, заканчивающимися принятием резолюции с изложением мнения парламента по поводу ставшего предметом интерпелляции действия или линии правительства в целом и вынесением парламентом вотума доверия или недоверия. – Andreyka:)
[Закрыть] социал-демократической партии»[45]45
АВПР. Верлин, 16/29 ноября 1910 г.
[Закрыть]. Но, кроме этого запоздалого на два года и очень уж конфиденциально высказанного сочувствия русского посла, никаких иных симпатий германский император не возбудил. Остен-Сакен оказался тут несравненно более крепким германским монархистом, чем все германские монархисты с канцлером Бюловым во главе.
Вильгельм сильно и сразу оробел. Он до того испугался, что, как рассказывает в своих записках гофмаршал Цедлиц-Трютцшлер, приказал своему камердинеру телефонировать канцлеру Бюлову, что он отказывается от престола. До этого дело не дошло (камердинера адъютанты не допустили до телефона), но Вильгельм беспрекословно согласился подвергнуться очень большому унижению: 17 ноября (1908 г.) канцлер князь Бюлов заявил в весьма определенных выражениях в заседании рейхстага, что «глубокое возбуждение и болезненное сожаление, вызванные опубликованием этой беседы» (с сотрудником английской газеты) побудят его величество «впредь даже в своих частных разговорах придерживаться той сдержанности, которая необходима для единообразной политики и для авторитета короны». Не довольствуясь этим, Вильгельм поспешил еще на другой день после этого обещания опубликовать, что он считает «своим важнейшим императорским долгом обеспечить устойчивость политики империи при соблюдении конституционной ответственности» и что он «поэтому одобряет объяснения имперского канцлера в рейхстаге и уверяет его в своем продолжающемся доверии к нему».
Буря в печати и в рейхстаге после этих униженных извинений и обещаний улеглась. Но впечатление и воспоминание уже никогда не могло изгладиться. Император после ноября 1908 г. стал выступать с речами гораздо реже, чем прежде, говорил меньше, избегал сенсационных тем и очень уж громких слов, стал больше помалкивать о божественном происхождении своей власти, ни слова уже не говорил о верховенстве своей воли, обо всем том, о чем он всю жизнь так любил говорить. Вся эта история лишний раз показывает, до какой степени нелепо говорить, что рейхстаг был «бессилен» добиться парламентаризации государственного строя или иных способов дальнейшего ограничения императорской власти. Рейхстаг всего мог бы добиться, если бы захотел. Но он не хотел, т. е. собственно, кроме социал-демократов и, быть может, еще нескольких человек из левых буржуазных партий, никто в рейхстаге не хотел настоящего уменьшения монархической власти, так как считалось, что она может пригодиться для борьбы против социал-демократии. Там, где рейхстаг в самом деле чего-нибудь хотел, он добивался всегда и всего. Вильгельм II в ноябре 1908 г. доказал своим поведением, что он не в состоянии оказать даже и тени сопротивления, когда видит против себя настоящий гнев, настоящую волю, и что нет предела его готовности пойти на любое унижение, если этим можно отвести от себя грозу. С удивлением прочли в Европе, что император всецело и торжественно путем особого сообщения одобрил все, что сказал канцлер в рейхстаге, а ведь в этой речи Бюлова были, между прочим, и такие слова: «Я ручаюсь, что это (т. е. словоохотливость императора – Е.Т.) больше не повторится и что будут для этого приняты все требуемые меры, без несправедливости, но и не считаясь ни с какими лицами». И на такое публичное унижение шел монарх, двадцать лет перед этим твердивший, что он ответственен только перед богом и что его воля должна быть выше всего, и что он – «единственный господин» в стране.
Но была одна сторона во всем этом происшествии, которая особенно важна для понимания дальнейшего. При всех дефектах интеллектуальной организации германского императора у него нельзя отнять одной способности, тесно связанной с могуче развитым в нем чувством самосохранения: он необыкновенно быстро угадывал, чего именно требует в данный момент та сила, к которой выгоднее всего приспособиться ему лично. А в данном случае все было довольно ясно. Уже по тому, кто именно больше всего на него негодовал, он мог сообразить, чем именно он не угодил; тем более, что вся империалистически настроенная пресса, т. е. большинство всей буржуазной печати, не делала из этого особой тайны. От него требовалось больше энергии во внешней политике, от него требовалось «не похоронить будущее германского народа», т. е. от него ждали шагов, которые обеспечили бы будущее германского капитализма, колонии за морем, политику экономического захвата Турции, ждали подготовки борьбы с Антантой, которая, в самом деле, стояла угрозой пред Германией, новых и новых попыток разрушить Антанту, которая «застилает солнце» германскому народу. Это писали те, кто ого только что беспощадно прижал к стене и унизил и кто мог с ним это сделать снова и снова. А некоторые социал-демократы писали, что развитие германского капитализма полезно и для германского рабочего класса и что нужно противодействовать захватам Франции и Англии. Что есть еще и другие социал-демократы, которые пишут и говорят о старой революционной программе, это он тоже знал, но с ними можно было пока не считаться, они были в меньшинстве, и их голос не был так слышен. Вывод был сделан. Он был сделан очень услужливо пангерманской прессой, которая в 1909–1911 и следующих годах усвоила себе тон резкой оппозиции правительству и императору за его трусость пред Антантой, за его «миролюбие» и уступчивость. Этот тон после ноябрьской истории 1908 г. стал принимать все чаще оттенок личных выпадов против Вильгельма. Довольно прозрачно намекали изредка, что нападают на личность монарха, а не на принцип монархизма, и что если кто не может быть вождем своего народа в борьбе за «место под солнцем», тот должен уступить престол достойнейшему (т. е. кронпринцу).