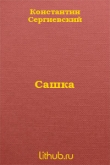Текст книги "Назовите меня Христофором"
Автор книги: Евгений Касимов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
НА ЗЛАТОМ ПЕСКЕ СИДЕЛИ…
По берегу бродили чайки – здоровенные, как деревенские гуси. Песок был серым, море – тусклым. Голый негр одиноко делал китайскую гимнастику, старательно поднимая светлые пятки.
Я глубоко вдохнул еще раз сырой йодистый воздух и пошел в таверну «Красный рак». На маленьких высоких террасках никого не было. Я сел за тяжелый деревянный стол и стал смотреть на море. На серо-зеленой равнине кое-где вспыхивали длинные белые барашки волн и тут же гасли. Слева небосвод постепенно наливался золотым и розовым светом.
Подошел хмурый, как утро, официант. Я, чрезвычайно стесняясь, попросил кофе. Официант монотонно стал перечислять способы приготовления: эспрессо, американа, туркеш, араби… Вот-вот, сказал я, по-арабски! Официант с трудом сдержал зевоту, зачем-то поправил пепельницу и немедленно сгинул.
Полчаса я разглядывал пустое море, плотоядно поглядывал на пачку «Честерфилда» и грустно думал, что, наверно, официанты всех стран похожи друг на друга. Как цыгане.
Мой официант возник, словно Фауст, со сложным прибором, из которого валил крепкий кофейный пар. Потертая чеканная турка с крышечкой была чересчур торжественно водружена на стол, официант сделал несколько танцевальных па вокруг стола, но как-то быстро обмяк и, уже откровенно зевая, поинтересовался, не желаю ли чего еще. Какую-нибудь русскую газету, сказал я и, достав груду истрепанных левов, отсчитал за кофе – и втрое больше за утреннее беспокойство. Официант скользящим шагом кинулся во тьму таверны.
Тягучий кофе буквально вывалился в чашку. Черенки гвоздики плавали, как разбитый такелаж на картине Айвазовского. Запахло медом, корицей, восточным базаром, тысяча и одной ночью – ибо черен был этот напиток, как тысяча и одна ночь. К такому кофе нужен бы кальян, а не тонкая сигарета.
Официант с напряженным лицом принес вчерашнюю «Комсомолку».
В газете писали, что террористы захватили Буденновск. Сопоставив маршрут полета, географию Ставрополья, время, я вдруг понял, что когда бандиты входили в город и началась пальба, наш самолет находился как раз над этим районом на высоте девять с половиной тысяч метров.
Кофе был приторно сладким. Свет с Востока разлился во всю ширину, море засверкало, и полоска пляжа загорелась белым золотом. Оказалось, что таверна окружена странными цветущими деревьями.
В полдень жара стала неимоверной, и я спрятался под огромный полосатый зонт. В синем прохладном небе птеродактилями шныряли дельтапланы, таская на своих хвостах обморочных теток и боевитых коротконогих мужичков. Вдоль берега гоняли на гидроциклах бронзовые атлеты в пиратских повязках. Дети копошились в песочке, строя волшебную страну Авалон. Мимо надменно прошла белокожая дива, внеся легкое смятение в ряды страждущих легкой и быстрой любви курортников. Впрочем, пыл их быстро угас под грозными взглядами четырех амбалов, которые сопровождали диву – однако на изрядном расстоянии.
Какой-то папарацци, обмотавшись удавом, предлагал сделать моментальное фото. С удавом, понятно.
Вышла на пляж большая немецкая семья. Две белоголовые фройляйн быстро скинули лифчики и плюхнулись на лежаки, подставив солнцу грудки в куриных пупырышках. Мутер тоже намеревалась растелешиться, но, видно, прикинув, что будет очень сложно пристроить все свое разъезжающееся добро, оставила эту затею. Фатер же вертел головой по сторонам и чему-то таинственно и сладко ухмылялся. Над всеми возвышался зоркий гроссфатер, увалившийся в шезлонг в рубахе и штанах. Он мусолил черную сигару, надвинув соломенную шляпу на лоб, и мрачно наблюдал за белокурыми бестиями.
– Сыграем в шахматы? – Он был похож на врача. Такой же участливый, но цепкий взгляд. – А плечи-то надо маслом смазывать. И первое время больше в тени находиться.
Я узнал его. Мы летели одним самолетом. Он был в клетчатом дорожном костюме и большой клетчатой кепке. Я его окрестил «инспектором Варнике». Сейчас он был в клетчатых плавках, но сходство со знаменитым детективом исчезло.
Мы расставили фигуры. Мне выпало играть черными. Я сразу представил их дикими и необузданными османами, а белые фигуры противника – ромейскими когортами. Пешечная фаланга сминала мои ряды. Я предпринял глубокий конный рейд в тыл, но попал в засаду и был разбит.
Солнце сдвинулось, сдвинулась тень от зонта, и плечи мои горели.
Мы договорились о матче-реванше на завтра, и я пошел в гостиницу.
В прохладном номере я лежал на узкой кровати и чувствовал, что меня начинает знобить. Ноги немного опухли. Хотелось пить.
Я нечаянно попал в райский сад, подумал я. Придется привыкать к этой непривычной жизни.
Где-то в северных городах еще не сошел снег, а здесь – безмятежность и покой разлиты в пронизанном золотом и синевой воздухе. И диковинные цветущие деревья, которым нет названия, стоят за окном.
2002
ТРИ ЧЕРТОВКИ
Я высадился у Дворца дожей, сошел на берег и огляделся. Действительно – Лев, Книга. Светило солнце.
На скоростном лифте я поднялся на Колокольню и обнаружил там телефон-автомат. Алло, сказал я, да, все хорошо, приехал. Венеция у меня под ногами.
Я пересек площадь Сан-Марко, нырнул в какую-то расщелину и уже через пять минут впал в обморочное состояние. Я шел с маниакальным упорством по бесконечным узким улочкам – все вперед, вперед, – разглядывал красное и золотое стекло и белое и желтое золото, буквально вываливавшееся из витрин, я шел наугад по средневековому городу – пока не вышел к мосту Риальто. Большой Канал источал йодистый гниловатый запах, у самого берега вода всхлипывала, хлопала, взбивая грязноватую пену. Я постоял у самой воды, потоптался, поплевал цинично, и сумрачный лабиринт города опять принял меня. И пошел я туда не знаю куда. Через час блуждания в жидком сером свете тело мое стало истончаться и зеленеть. Волшебный клубок где-то потерялся, закатившись, видно, в сточную канаву. И я оттолкнулся от каменного дна и всплыл над красными кирпичными крышами, залитыми золотым светом. Вдохнув теплого воздуха, я огляделся, выбрал направление и обвалился обратно в мрачное ущелье. Закурив, я уверенно пошел к небольшому окраинному парку.
В парке обнаружилась славная картинка: на деревянной скамье – ну точь-в-точь наши бомжи – расположились двое обтрюханных венецианцев с литровой бутылью вина и какой-то нехитрой закуской на картонной тарелочке. Но в отличие от наших эти не сжимались под любопытными взглядами, глаза не опускали долу, и жесты их были широки и свободны, и речь – веселой и плавной. Третьим в компании был важный памятник.
– Чего уставился? – заворчал по-итальянски бомж в белом брезентовом плаще.
– Гуляю коло памятничка, – невозмутимо и по-русски отвечал я.
– Русский? – радостно крикнул брезентовый.
– Си! – Я чопорно кивнул.
– Хрущев! – важно сказал бомж в лыжной шапочке и сделал приглашающий жест.
Эге, подумал я. Клинический случай. Летаргия. Проспал где-нибудь в котельной. И полет на Луну проспал, и Гуччи, и Версаче, и перестройку, черт! Брезентовый нахмурился. Бронзовый истукан был невозмутим. Я присел на краешек скамейки, и бомжи развернулись ко мне.
– Россия, – мечтательно сказал брезентовый. – Чайковский!
– Верди! – парировал я и заглянул в глаза памятнику.
– Бо-ро-дин! – подскочил брезентовый, и, видно, в душе его грянули половецкие пляски.
– Ви-валь-ди! – заважничал я и поднял указательный палец к небу. И зазвучала дивная музыка, и ангелы плавно сорвались со своих насестов, и я был готов немедленно вознестись.
– Толстой! Достоевский! ПУШКИН! – стал гвоздить брезентовый. Бомж в лыжной шапочке, ошалело поглядывая на нас, откупоривал бутыль.
– Дант! Петрарка! Тассо! – с достоинством отвечал я. – Колоссаль! – Потом встал, сожалея о несостоявшемся полете, и раскланялся с господами бомжами.
Площадь Сан-Марко была еще влажная – после ушедшей утром воды.
Симфонический оркестр неведомо каким образом возник на площади – только что его не было, только что площадь была полна голубей, и вдруг сизари снялись и переместились ближе к собору, а на их месте появились в черных фраках музыканты, похожие на скворцов и грачей, расставили пюпитры, разложили ноты, дирижер поднял палочку – и оркестр рванул Бетховена! А я сел на диванчик, на котором когда-то за долгими разговорами посиживали лорд Байрон с Иосифом Бродским, и взял чашку кофе. Пятнадцать долларов, сказал официант. Я чуть не крякнул, но форс надо было держать, и я как миленький выложил пятнадцать долларов. Напротив сидела женщина с короткой стрижкой и светло-фиолетовыми глазами. Вон за теми столиками кофе стоит доллар, сказала она по-русски. Не расстраивайтесь, сэкономите на гондольерах – они сегодня бастуют. Ну вот, расстроился я, а как же баркарола?
Но окончательно расстроила меня тюрьма за Дворцом дожей (за колокольней повернуть налево, если идти с площади), в которой когда-то сидел героический любовник всех времен и народов – Джакомо Казанова. Я живо представил себя томящимся узником, безнадежно влюбленным в жизнь, в карнавал (он всегда находился в его эпицентре, сдержанно кланяясь в одну сторону, яростно разя шпагой в другую и получая со спины тупой удар по затылку) – и обреченного на затхлое медленное существование. На что тратить энергию? Отжиматься, качаться, вести бой с тенью? Отсчитывать ежедневно десять тысяч шагов, как Ленин? Рыть подземный ход, как аббат Фариа? Писать книгу, как Сервантес? Наверное, я бы очень скоро повредился рассудком. Непременно бы сошел с ума. Я отколупнул кусочек окаменевшей замазки на память и через мост Вздохов отправился бродить по пустым дворцовым залам.
В мрачной огненной пещере стеклодувов я смотрел, как веселый мастер играет радужным пузырем. Он как будто выдувал через трубку свою раскаленную душу, которая постепенно принимала очертания вздыбившегося коня. Он был прекрасен – этот застывавший в буйстве конь. Стеклодув посмотрел на меня и подмигнул. Конь остывал, меняя цвет от оранжевого – к малиновому, потом синеватому, серому… И вдруг с легким хрустом лопнул, распался на мелкие кусочки – может, не выдержав температурного перепада, а может быть, остекленевшая душа мастера просто не вынесла воплощенного дикого напряжения.
К вечеру и моя душа разрывалась от переполнявших ее чувств. После одинокого ужина в дешевом ресторанчике (салат, жареная рыба, безалкогольное голландское пиво) – я шел пустынной улицей, ведущей к отелю, напевал: «Казанова, Казанова – зови меня так…» – и в голове моей рисовались самые невероятные любовные приключения, за которые я был готов заплатить самую высокую цену. Вплоть до заключения в сырой каменный мешок.
Я прочитал название улицы на ярко освещенной табличке и ухмыльнулся – я шел по улице Данте. Хотите верьте – хотите нет! Эта дорога приведет меня в ад, подумал я. И почему-то развеселился еще больше. Идиот.
Внезапно меня пробил холодный пот – из угольной черноты переулка на меня смотрели три пары глаз. Три совершенно неподвижные пары глаз висели в абсолютной темноте и наблюдали за мной. Вдруг темень шевельнулась, материализовалась, и сгустки этой живой тьмы выплеснулись на желтую от электрического света улицу, и тьма объяла меня до души моей. Три негритянки, три демона в женском обличье, в черных кожаных одеждах обступили меня. Были они черны, как хромовые сапоги щеголя-прапорщика, надраенные рьяным денщиком. И непонятно было, где кончается их развороченная выпирающей плотью дерзкая кожаная одежда и где начинается их слегка влажная, пропитанная похотью и желанием кожа. Два демона подхватили меня под руки, третий, жарко дыша, стал подступать, заглядывая мне в глаза.
Она была фантастически красива. Невероятно хороша. Как может быть хороша настоящая дьяволица. Пропал, мелькнуло в моей бедной голове. Камерун? Сенегал? Конго? Буркина-Фасо? И звучало это – как древние заклинания.
«Дамо?» – низким голосом поинтересовалась дьяволица, и я застыл, будто пораженный черной молнией. «Дамо?» – настаивала чертовка, наступая на меня, и я с ужасом чувствовал, как повышается во мне уровень тестостерона. «Руссо туристо, – жалко выдавил я из себя и попытался улыбнуться, приглашая их оценить качество юмора. – Облико морален. Цигель ноу. Ай-лю-лю – потом!» – блеял я, осознавая бесполезность своей находчивости – вряд ли они смотрели бессмертную комедию. И вдруг тьма опала, схлынула, и я оказался один под горящим фонарем. Черные ведьмы напали на худощавого и в общем-то траченного временем мужичка – типичного немца, надо сказать, типичного козлоногого немчуру – и, облепив его своими телами, как гудроном, поволокли бедолагу куда-то в ночь, в преисподнюю, вход в которую, очевидно, находился за первым углом. Немец был чрезвычайно доволен, блестел очками, хватал моих (моих!) смоляных чучелок за открытые места и, наконец, намертво приклеившись к ним, сгинул. И если у него была душа, то пропала она у него в сей же момент.
А я пошел в отель и, сидя в номере, долго с тоской вглядывался в цветную венецианскую ночь за окном и понимал, что что-то в этой жизни упущено мною безвозвратно, что, может быть, душу я свою бессмертную спас, но что вряд ли у меня еще выдастся возможность сгореть в черном испепеляющем огне страсти, совершить героический поступок во имя африканской любви – да еще помноженный на три.
2002
СНЕГОПАД В ЦЕТИНЬЕ
Окно в келье мерцало белым компьютерным светом. За холодным стеклом, как в мониторе, текли бесшумные пряди снега. Впечатление было настолько сильным, что я проснулся окончательно.
Други мои спали, погребенные под ворохом одеял. В келье было холодно, и вчера ночью, когда мы располагались на ночлег, Афиноген стал жаловаться, что сам-то он не боится замерзнуть, но вот его бедная голова… Он растерянно похлопал себя по лысине маленькой ладошкой. На что Егоров только усмехнулся, растопырил свои усы, прочно укрепил на голове генеральскую папаху и энергично завалился в постель, и, как истинно великий полководец, тут же бесшумно заснул. Афиноген немножко поохал, потом нашел какую-то лыжную шапочку и тоже умиротворился.
Монастырский дворик был завален снегом. На высокое каменное крыльцо вышел молодой монах, задрав черную бороду, посмотрел в небеса и как-то печально ушел обратно. Мобильный телефон показывал, что сеть пропала. Наверное, экранировали толстые монастырские стены.
Снег был большой, медленный. Исчезли в белой мгле окрестные горы, исчез город, за снежной крупноячеистой пеленой еле угадывались черные сосны.
Я оделся и побрел в монастырский умывальник. Вода была ледяная и бежала тонюсенькой струйкой. Страшно захотелось кофию.
Выйдя на крыльцо, я понял, что пересечь дворик нет никакой возможности: снегу навалило уже около полуметра. В углу стояли широкие железные лопаты и большая метла. Я выбрал себе лопату и стал разгребать дорожку. Раза два на крыльцо выскакивал тот самый молодой монах и что-то весело мне кричал по-сербски. Я в ответ только гутукал и агакал. Хлопья щекотали лицо. Через полчаса я добрался до ворот и оглядел плоды трудов своих. Труды оказались напрасными: траншея, которую я, как бульдозер, пробил в сугробах, исчезала на глазах. Назад дороги не было. Я навалился на дверь, сдвинул сугроб и вышел из монастыря.
Вчерашние переговоры с митрополитом ни к чему не привели. За ужином владыка был осторожен в обещаниях, говорил, что дело непростое, что не надо торопиться, что все должно решиться само собой. Егоров говорил о государственном значении акции. Владыка кивал головой, трогал бороду, поддакивал. Он хорошо говорил по-русски. Пили монастырскую ракию, закусывали копченой форелью и квашеной капустой. Владыка рассказывал о своем детстве. Он был из крестьян, родился в большой семье, и мать сама отвела его в горный монастырь Морача. Его недавно закончили восстанавливать. Нет, не после бомбежки. После коммунистов. Черногорию натовцы тоже бомбили, но не так сильно, как Сербию.
Я шел наугад, утопая по колено в снегу. Как большой пароход из тумана, из белой пелены выдвинулась бильярдная Негоша. Я свернул направо и пошел вдоль стены.
Ботинки промокли насквозь, но я терпеливо брел по пустым улочкам городка. Иногда из снегопада слышались голоса.
Выйдя на маленькую площадь, я огляделся и обнаружил огромное окно, за которым застыли белые лица, а над окном вывеску «Локанда». Нужно было совершить какое-то усилие, чтобы пересечь площадь, пробиваясь сквозь плотные строчки снега, текущие сверху, сквозь сгущенный воздух – под бесстрастным наблюдением из глубины окна. У самой двери я почувствовал, что напряжение воздуха исчезает, пространство поползло, как ветхий тюль, дверь на пружине поддалась, звякнул колокольчик – и улица с негромким хлопком легко отпустила меня.
Пласты снега медленно сползали с плеч. Я стоял как соляной столб, но никто даже не повернул головы в мою сторону. Только молодой смуглый буфетчик дружелюбно улыбнулся и махнул полотенцем. По телевизору без звука показывали теннисный турнир. По стенам висели афиши, на которых тузом надменно стоял Аристид Бриан и пиковой дамой подмигивала Жанна Авриль. За низкими столиками в плетеных креслах сидели одни мужчины. Все они разрозненно сидели, развернувшись к окну, не обращая внимания ни на теннис, ни друг на друга и вовсе не замечая меня. Все они пристально смотрели в окно.
Я прошел к стойке и стал взбираться на высокий крутящийся стульчик. Буфетчик улыбался. Кафу, сказал я, утвердившись наконец на стульчике. Буфетчик сложил брови домиком и что-то быстро спросил по-сербски. Потом по-английски. Я пожал плечами. Кафу. Црну кафу и киселу воду.
Я выложил на стойку сотовый телефон. Связи не было. Снег за окном валил и валил. В телевизоре беззвучно метались теннисисты. Люди в кафане смотрели в окно.
Еще вчера в Цетинье была осень. Мы приехали из Подгорицы ночью и тихо радовались ясной погоде после московской морозной слякоти. Митрополит оказался настоящим дипломатом. Он показал нам десницу Крестителя, за ужином рассказал чудесную историю, как апостол Лука привез ее из Самарии в Антиохию, как ее захватили турки, а потом подарили крестоносцам, а те вывезли святыню на Мальту. В тридцать втором году берлинский епископ Тихон передал ее королю Александру Карагеоргиевичу, а во время оккупации Югославии патриарх Гавриил Дожич увез десницу в Белый Острог, где ее в тайных убежищах хранили монахи, пока коммунисты не нашли ее и не сокрыли в Цетинском историческом музее. Не так давно мощи вернули церкви, и на их обретение в Цетинскую обитель приезжал сам Алексий II. Потом митрополит вспоминал о своем житье-бытье на Афоне, много шутил. Рассказывал, как восстанавливает древнюю Златицу. И если бы у него были сейчас деньги – немного, тысяч десять долларов, – то дела пошли бы гораздо быстрее.
На площадь выехал большой черный автомобиль. Он медленно пересекал площадь, раздвигая бампером снег. По бокам широко расходились буруны снега. Автомобиль черным призраком проехал мимо окна. Через минуту звякнул колокольчик, в кафану вошел, громко топая, водитель, бросил на ближайший столик пачку газет. В его кудрях быстро таяли крупные снежинки. Общество неспешно приветствовало его, но в газетах никто рыться не стал, все, быстро угомонившись, опять стали смотреть в окно. Водитель протопал к стойке и тихо заговорил с буфетчиком.
Из аптеки вышел старик с метлой и стал разметать дорожку. Справа в экран окна вплыла высокая женщина в красном пальто. Она тяжело несла зонт с белым мохнатым куполом, как у Робинзона Крузо. Старик замер, поклонился. Женщина остановилась, рука ее дрогнула – и снег обвалился. Зонт оказался тоже красным.
Я посмотрел на дисплей телефона. Сети не было.
Вчерашний ужин закончился скандалом. Схимонах Кирилл и генерал Лыжнев, непонятно каким образом попавшие в нашу миссию, сначала сурово гвоздили себя крестными знамениями перед мощами, потом в трапезной, хватанув сливовой ракии, стали ни с того ни с сего поносить церковных иерархов, дескать, истины не ищут, живут не по заповедям и больше животу своему служат. Намекали, что десница святого Иоанна по праву принадлежит России, что мальтийские рыцари добровольно ее передали императору Павлу, а исчезновение ее из России после октябрьской революции – есть заговор, а не божественный промысел, благодаря коему десница Предтечи вообще уцелела. Митрополит слушал внимательно, трогал бороду своими сильными крестьянскими руками, рассказывал о подвиге Василия Острожского, и скандала за столом не получилось. Афиноген в своем черном сюртуке от Версаче остро поглядывая на Кирилла и Лыжнева, стоя произнес длинный тост, в котором были и дружба между народами, и сложная геополитическая обстановка, и приближающиеся выборы президента, и наше благородное дело, которое, он уверен, приведет всех к согласию. Он был строг, изящен в жестах и в своем черном сюртуке напоминал скорее представителя Ватикана, а не функционера крупнейшей российской партии. Спич был блестящим, но когда Афиноген произнес: «Монтенегро», сидящий рядом со мной монах тихонько поправил: «Черногория».
Егоров шепнул мне, что чувствует себя шахматистом, которому предложили сыграть партию, и он, разыгрывая ферзевый гамбит, вдруг обнаружил, что с ним играют в «Чапаева». А генерал, добавил он, похож на каптера-прапорщика, пересчитывающего портянки. После ужина Егоров показал себя настоящим бойцом: в монастырской галерее он крепкой рукой отодвинул суетящегося Кирилла и, растопырив усы, сказал, что если генерал будет продолжать в том же духе, то вылетит из миссии в два счета. И поглубже надвинул свою папаху. И видно, его ведомство было гораздо серьезней, потому что генерал Лыжнев стушевался, по-военному развернулся и быстро ушел, осеняя себя по дороге крестом. Причем делал это порывисто и твердо, вбивая пальцы, сложенные в щепоть, в свои виртуальные погоны с такой силой, как если бы это были эполеты, на которых вместо бахромы висели маленькие черти. Кирилл попытался возразить, но Егоров навис над ним и только и сказал тихо: «Не вякай!» И Кирилл, мотнув рясой, канул черной кляксой в темноте галереи.
Скандал гасил Зоран из белградского бюро «Балканрос». Сначала он долго разговаривал с митрополитом, потом с генералом в его келье на втором этаже, потом поднялся к нам. Он качал головой, цокал языком, сказал, что ему трудно контролировать ситуацию – митрополит не случайно осторожничает; сказал, чтобы Егоров был более сдержан, а то труды многих месяцев пойдут… Тут он защелкал пальцами, как бы это сказать… Псу под хвост, мрачно сказал Афиноген. Да, очень хорошо сказано, обрадовался Зоран. И еще он сказал, что когда встречал нас в белградском аэропорту, то видел там Грофа. Гроф работает на итальянцев. Зоран думает, что и на мальтийцев. Орден просто так это дело не оставит. Они давно ведут переговоры о возврате не только руки святого Йована, но и креста, и Филермской иконы. Они предлагают инвестиции Черногории. Дело миллионное. Может быть, миллиардное.
Буфетчик принес большую чашку кофе и стакан холодной воды. Он что-то стал мне рассказывать, вглядываясь в мое лицо. Водитель повернул голову и сказал, подбирая слова, что дорогу в горах завалило снегом. Из Бара и Подгорицы идет техника. Будут чистить. Он пожал плечами и ткнул большим пальцем в сторону окна. За окном падал снег.
Я перегрузил телефон, долго смотрел на зеленый дисплей, пока не появилась надпись НЕТ СЕТИ.
Вася, наверное, уже встала. Пошлепала босыми ножками по холодному полу на кухню. Нашла спящую Муську, потащила ее к себе, зарылась в теплую еще постель, уложив рядом кошку. Та, очумевшая спросонья, не сопротивляется. Лимонное дерево у окна иногда вздрагивает от сквозняка, и легко колеблется огонек лампадки на комоде. За лаковой поверхностью пианино, в черной глубине светится зимнее окно, ходят тени от листьев. Мерцает желтый огонь подсолнуха на картине. Вася всматривается в картину, прижимается к кошке и скользит взглядом по тропинке, ведущей через огород к потемневшей от времени избе. Там живут ее дедушка и бабушка. Бабушка сильно болеет и уже год лежит в постели. В последний раз, когда они с мамой ездили в Каменку, бабушка даже не узнала ее. Все спрашивала, как ее зовут. Сейчас бабушка, наверное, спит. А дедушка уже встал и шурудит на кухне. Когда папа вернется, они все вместе поедут проведать бабушку.
Подошел буфетчик, вопросительно поднял брови. Сколько с меня, спросил я. Он убрал пустую чашку и что-то сказал. Я ничего не понял и потер воздух пальцами. Он опять что-то сказал. Я достал из кармана мелочь и протянул ему. Он осторожно стал выбирать на ладони монеты, оставляя без внимания крупные.
На столике лежали влажные газеты. На первой полосе в PUBLIKE были напечатаны фотография митрополита и жирный тревожный заголовок.
Старик из аптеки продолжал мести дорожку. Метла моталась как автомобильный дворник. Пробежали школьники с желтыми и синими ранцами. Было тихо. Изображение улицы было нечетким. По большому экрану окна сверху вниз текли белые матричные иероглифы, и афиши на стенах кафаны, начертанные твердой рукой Лотрека, были исполнены абсолютной реальности.
2004