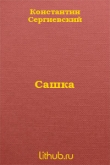Текст книги "Назовите меня Христофором"
Автор книги: Евгений Касимов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
Фанза
(продолжение)
Поэты прочно подружились с полуподвалом. Иногда они спускались вниз и, просиживая с его обитателями за грудой бутылок красного вина долгие и темные вечера, вели беседы, ошеломляя всех своей дерзостью, лукавством и просто враньем. Потом они поднимались наверх, ведя под локти восторженных почитательниц их талантов, уже порядочно осоловевших. Девочки, учившиеся на философском факультете первый год, держали себя независимо и свободно. Сбросив рабские цепи родительского дома, они вкушали сразу все запретные плоды. О, этот искуситель, зеленый змий! Оскальзываясь впотьмах на крутых ступенях и прижимаясь мокрыми губами к бледным лицам кумиров, они шептали: «Ах, какая прелесть, мальчики! К-какая прелесть!» Мальчики, изгнанные из университета студиозусы, уверенно вели девочек в покои, еще немного пили, потом все парами разбредались по комнатам.
– Знаете, у нас есть собака, – важно и печально говорила миленькая чернушка, расстегивая лифчик. – Она такая умная! Мы ее прозвали Кантом. (Здесь нужно было тонко улыбнуться.)
В соседней комнате происходило то же самое, с разницей, что миленькая была рыжей, а собаку звали Гегелем.
Утром обожательницы, смущенно хмыкая, исчезали, а предметы обожания оставались дрыхнуть поперек кроватей. Потом предметы вставали, шатались по городу в поисках случайного заработка, пили пиво на случайную мятую трешку, а ежели заработок находился-таки, к вечеру пир стоял горой. Когда надоедало пить, предметы вспоминали о своей поэтической сущности и писали стихи, которые никогда нигде не печатались.
Лето катилось клубком – сумасшедшее лето, полное дождей, ветров, жары и долгих разговоров «за поэзию», «за литературу». Естественно, под бутылочку. Естественно, на завалинке.
А почему фанза? Это вы узнаете из следующей главы.
Глава 5Голубцов
Была весна. Была весна, и хотелось жить. Я открыл глаза и обалдел: посреди комнаты стоял огромный детина в нахальной рыжей кепке. Нет, это был не морок. Детина насмешливо осматривал стены и подергивал плечами, как бы примеривая новое пальто. Увидев, что я проснулся, он вздохнул и достал из кармана пиджака бутылку вина.
– Меня зовут Вахтисий, – сказал он и достал из другого кармана промасленный пакет. – Я буду здесь жить.
Заметив мое недоумение, он добавил:
– С хозяйкой я договорился.
Черт! Как он попал сюда? Дверь на крючке… Я посмотрел на открытое окно. Детина рассмеялся.
– Совершенно верно. Я влез в окно.
Он снял кепку и пустил ее по комнате, тряхнув своей соломенной башкой. Кепка шлепнулась на чайник, и чайник сразу стал похож на последнюю шпану.
– Пишешь? – с ухмылкой спросил детина и кивнул на ворох бумаг, лежащих на столе. Его широкое асимметричное лицо совсем перекосилось. – Этого делать не надо, – сказал он. – Все уже написано.
Он стал ковыряться в пробке.
– Вставай. Петушок ужо пропел.
Да, я все еще лежал в постели, как обалдуй. Была весна, но жить уже хотелось меньше. Я встал и начал медленно одеваться. Кепка пылала нахальством, а чайник пыжился, ну как распоследняя шпана. Пробка отскочила, и вино брызнуло на чистую бумагу.
– Как зовут тебя? – кривя губы, надменно спросил детина. Только тут я заметил, что он был вдребезги пьян.
– Христофором, – отвечал я серьезно.
Он заржал.
– А я Вахтисий! Слышь! Вахтисий! Ах-ха-ха! Христофором!
Я аж задохнулся от бешенства.
– Меня зовут Христофором, – еле сдерживаясь, сказал я. – И если это кого-то веселит, то я смогу заставить проглотить его это веселье.
– Ну-у? – с невыносимой симпатией он посмотрел на меня. – Ну не сердись. Я думал, ты шутишь. Давай-ка, брат, выпьем за знакомство. Меня Серегой зовут.
Сопротивляться было бесполезно.
Голубцов учился в университете. Потом его выгнали. Он уехал на Дальний Восток и год работал в краевой газете. Он писал стихи – и хорошие. Он написал книгу стихов, которую никто не хотел издавать: стихи пугали своими размерами и каким-то перекошенным (как и его лицо) виденьем мира. Они были то косноязычны, как язык пращуров, то жемчужно совершенны и просты. В стихах было напряжение океана. Сухая черная пыль поднималась столбом над землей и буравила небо, за которым была беспредельность космоса. На планете жили люди и звери. Из земли росли трава и деревья. Над планетой парили на перепончатых крыльях птеродактили, на железных – супербомбардировщики, на простых – птицы и ангелы, на прозрачных – люди. Где-то в царстве берестяной музыки жила любимая.
Он уволился из газеты и приехал восстанавливаться в университет. Вещей почти не было. Была огромная связка рукописей. Рукописи он небрежно бросил в угол. Он был графоманом самого высшего класса. Он мог писать о чем угодно, на чем угодно и когда угодно. Из него перли молодость и талант.
– Мы с тобой подружимся, Кристобаль, – говорил он заплетающимся языком. – Я зна-аю. Подружимся, натурально. Ты мне нравишься. А стихи ты пишешь плохие. Плохие стихиты. Изячные. Но ты не слушай меня. Ты все равно пиши. Мы их напечатаем – хочешь, в «Юности», хочешь, в «Молодости». Говоришь, нет такого? Значит, мы его оснуем… основаем. Тьфу, черт! Мы в этой фанзе знаешь как славно заживем? Где? В фанзе, натурально. Ну да, фанза. Даром что четырехскатная. Это четырехскатная фанза. А я в настоящей жил. У меня подружка была – китаянка. Эх! Еще по одной! Ап! Давай я тебе стихи почитаю. Новые. Вчера в поезде написал.
Глава 6Инокентьев
Он вошел, стуча копытами и позванивая железными рублями в кармане. Его голубые глаза светились, а волосы пенились. Это был молодой Пан. Серега восхищенно протянул ему руку.
– Шура, – с вызовом сказал Пан.
Он поскреб подбородок и осторожно принюхался. На кухне варилось мясо.
– Надо бы лаврушки кинуть, – сказал Пан. – И перцу, побольше перцу!
– Вот это да! – заржал Серега.
Пан крутнулся на одной ноге и исчез. Появился он через пять минут, громыхая полудюжиной «Каберне».
– Это очень хорошее вино, – объявил он. – Я знаю. Полезно для желудка.
Мы пили вино стаканами и молча терзали мясо. Потом взяли недопитое и пошли на завалинку. Пан угрюмо хмелел и глухим голосом читал Мандельштама.
Шура был физиком-теоретиком. Он учился в Ленинграде – призрачном городе. Он был хорошим мальчиком и учился на четыре и пять. Он не пил даже пиво и хотел получить Нобелевскую премию. Но однажды он зашел в букинистический магазин на Невском, и старый букинист влил ему в ухо яд. И Шура погиб. Через полгода он ушел из института. Он вернулся на Урал и оформил перевод в университет. Физику он знал, но не любил, точнее, не очень любил. Он до безумия любил литературу. Он знал наизусть «Божественную комедию» в переводе Лозинского и «Фауста» в переводе Холодковского. Пастернаковский перевод ему не нравился. Он знал наизусть «Соловьиный сад» Блока. И еще много чего он знал наизусть – память его была бесконечной. Был он резок, скор, во хмелю буен.
Мы сидели на завалинке и горевали по утерянной Нобелевской премии.
– Может, Государственная сойдет? А? – робко спросил Серега. Шура замотал кудлатой башкой и пустил длинную прозрачную слезу в стакан.
Глава 7«В РАССУЖДЕНИИ ЧЕГО Б ПОКУШАТЬ»
Нас тошнило от голода. Оставалось четыре картофелины и на два пальца подсолнечного масла в бутылке. Кончились пиры, кончилось золотое времечко, когда стол прогибался под тяжестью жирной и пряной еды, когда в широких толстых стаканах (из богемского стекла, господа, из богемского стекла!) розовой пеночкой вскипало вино, когда в глубокой сковородке, шкворча, тяжело хлопала яичница из пятидесяти яиц, которая – о гурманы! – была посыпана тертым зеленоватым сыром, когда нежнейший воронежский окорок, украшенный петрушкой и кинзой, резался на ломти без счета. Кончился праздник, наступила полоса безденежья, призрак рыскал по двору, призрак голодной смерти, – он являлся то в виде облезлой собаки, то – невидимый – погромыхивал ночью пустыми банками из-под кильки в томатном соусе.
«В рассуждении чего б покушать» я решил снести несколько стихотворений в какой-нибудь журнал. В городе их было два или три. Я выбрал самый толстый в надежде, что там и гонорары толще. Стихи возьмут, думал я, должны взять, и я попрошу аванс (кажется, так это делается?) или, в крайнем случае, возьму в долг. Так думал я, неспешно идя в редакцию.
В отделе поэзии никого не было, и я сидел в холле, курил, независимо поплевывал и размышлял, куда дену такую прорву денег. Поэтам хорошо платят, думал я. Хорошо быть поэтом. Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать. Хорошо бы взяли строк двести. Даже если по рублю за строчку – это будет… И тут я отчетливо услышал нежный шелест купюр и ясно увидел две аккуратные желтые пачки в банковских обвязках.
– Вы ко мне?
Передо мной стоял маленький человечек, однако с очень крупной головой. Волосы его были распахнуты, как крылья у птицы. Я узнал его. Это был повсеместно известный поэт. У него было пятнадцать поэтических сборников – и все с какими-то шикарными названиями: то ли «Меты», то ли «Засеки», то ли «Зарубки». Поэт смотрел на меня, и в глазах его была отеческая усталость.
– Я в отдел поэзии.
Он протянул руку к папке.
– Я вместо заведующего отделом поэзии.
Я не успел опомниться, как мои стихи были извлечены из папки, и – будто ветер влетел в окна – рукопись заклубилась, зашелестела. Поэт зарылся в стихи с головой, хищно покачивая крыльями волос. Через пять минут он сложил стихи стопочкой, достал папиросу, закурил и тускло посмотрел на меня. Мне чуть дурно не стало, но это от приступа голода, подумал я, наверное, поджелудочная барахлит.
– Видите ли… э-э… ваши стихи напоминают мне зарифмованные подстрочники зарубежной поэзии. Да, это так. Я вот недавно читал. Напоминает. Что-то такое вот английское. Или американское? Нет, я ничего этим не хочу сказать. Но факт. Вы, безусловно, э-э… талантливы, и писать вам, если хочется, то пишите. Ах, если бы вы нашли тему! Нашему журналу нужны темы! Ну хоть что-нибудь бытовое – только чтоб сочно! Ярко! Или, например, социальное, так сказать. Но чтоб не тривиально. Или вот производство. Сложнейшее, понимаете ли, дело. Крекинг там, гидролиз. Ведь, казалось бы, проза, а штришками эдакими легкими, штришками, флер эдакий легкий набросить – романтическое может стихотворение получиться! Или упруго, мощно: «В сиянье синих плавок встает Урал…» Это я цитирую. Хорошо? А? Это эпично! Или вот тут у вас про озеро, что оно обмелело, высохло, пропало… А вы напишите, что это завод во всем виноват! Да-да! Завод спускал в озеро отходы – и вот результат. Смотрите, как сразу заиграет стихотворение. Большая смысловая нагрузка появится. Экологично, проблематично! А то – пейзажик! Конечно, красиво, но это и плохо. Вам нужно избегать всяких красивостей. Вот у Пастернака есть… э-э… что-то там про зиму, что-то она там падает у него… э-э… как гипсовая статуя… так, кажется… это красиво. И вот впечатляет. У вас вот тут тоже зима… э-э… как туту вас? Ага! Вот! Так, так, так! Ага! Ну, тут у вас слабовато. Тут у вас что-то есть, но не впечатляет! Нет! А вот если бы мы взяли… Ну, хотя бы… Вознесенского! Да! Самого, так сказать, современного – то у него, конечно, много неудач, но! Есть строки! Строки есть! Вот даже про зиму. Там у него все точно, и я бы даже сказал – изящно. Или возьмем Блока! А? Помните у него про зиму? Что-то там… «вихри снежные крутя». Что-то так, примерно. Вот как надо бы! Надо, чтоб точно, с мыслью, с остринкой. А вы пишите! Пишите! Приходите к нам еще! Будем рады вас видеть. Только не так сразу. Через год. Через два. До свидания! Всего доброго! Всего наилучшего! Творческих вам успехов!
Ошалевший, я шел по улице. Какая-то дворняга привязалась ко мне, но я так на нее посмотрел и, видно, такое было в моих глазах, что она, поджав хвост, с жутким воем кинулась в переулок.
Возле газетного киоска я остановился, чтобы купить сигарет. Выгребая из кармана последние медяки, я вдруг увидел за стеклом маленькую книжицу моего сокрушителя. Книжица игриво называлась «Пень-пенек». Я вспомнил предыдущие названия его книг и подумал: «Несчастный! Он, наверное, раньше работал лесорубом или лесником, а сейчас вынужден – у него просто не было иного выхода! Большая семья! – работать в отделе поэзии самого толстого журнала нашего региона. Он сам понимает, что не на своем месте, потому-то у него и глаза такие тоскливые. Злодей редактор! Зачем, зачем ты мучаешь бедного лесовода?!» Я отдал за книжицу последние сорок копеек, на которые рассчитывал купить сигарет, прочитал ее, не отходя от киоска, бросил в урну, плюнул и с легким сердцем пошел «на фанзу», где дрыхли други мои, ополоумевшие от голода.
Глава 8Письмо
В Абхазию, п. Конналинн,
Петеру Бахману
Здравствуй, брат Петер! Тысячу лет тебе не писал, господитыбожемой! С тех пор, как мы не виделись с тобой, жизнь моя пришла в совершенный беспорядок. С женой я наконец развелся, хотя и против был и уговаривал начать сначала, но увы! Она настояла на своем, и тут я чувствую руку своей дорогой тещи. Бывшей тещи. Последние дни нашего супружества были невыносимы: вся дрянь так и выплеснулась наружу. Не скажу, что я был тих и благороден – нервы не выдерживали эти каждодневные дрязги. И чего я только не наслушался: и что тунеядец я, и графоман, и люблю-то жить на всем готовеньком, и сосу кровь из своих родителей, и безответственный и бесхарактерный, и так далее, и так далее, и так далее. Теща со мной не разговаривала, но Светка капала на мозги постоянно. Светка славная, но глупенькая, я устал бороться за нее. Да и влияние матери оказалось сильнее. Ты знаешь, мне кажется, что я ее еще люблю. Хотя заметная прохлада в отношениях наступила уже давно. Беда в том, что нам негде и не на что жить. Мы полностью зависели от ее родителей, а родители против меня. Ну не нравлюсь я им, не могут они меня переварить, хотя желудки у них луженые. Им нужен зять видный: чтоб юристом был (или врачом, на худой конец), чтобы квартира была, чтобы денег много получал, чтобы любезничал с ними по субботам за бутылочкой. Ничего у меня такого нет. Они меня за шпану держали. Во всей этой истории мне больше всего жалко Кешку. Сейчас-то они его все любят, а как зудели, чтоб Светка аборт сделала. И ведь она согласилась! Но Кешку я отстоял. А сейчас остался в стороне. Ну да бог с ними. Я сейчас спокоен – перегорел. А было плохо, брат, ой как плохо! Только тебе в этом и могу признаться.
Да, из университета меня турнули (Касимова, кстати, тоже. А он ходит – рот до ушей, говорит, это хорошо, а то латынь совсем забодала – он ее четырнадцать раз сдавал, – я, говорит, в Литературный институт поступать буду, там латыни нет и спрашивают не по учебнику). Ты Сумкина помнишь? Он сейчас деканом стал, он и устроил этот разгон. А был-то? Тьфу! Гриб-сморчок! Сейчас бегает такой энергичный – все порядок устраивает и глазами так страшно крутит.
Компания у нас сложилась крепкая, живем вместе, один хлеб едим. Недавно выступали в консерватории, было человек сто, не больше, но аплодисмент сорвали бурный. Ужинали аплодисментами. Печатать нас не печатают, вот так и ходим по «огонькам», по «вечерам» да по «утренникам». Выпендриваемся. Все смотрят с опаской: поэты. Пригласили выступать в ДРИ (на мероприятие!) Мы, конечно, согласные. Пришли, сидим. Никто не замечает. А народу! И все поэты! Заводские, клубные, институтские! Началось. Какое-то литобъединение – «Разбег» называется – на сцену выперлось. Все наглые. Начали читать. Инокентьев аж винтом завернулся, не можу, говорит, больше, айда в буфет пиво пить, пока есть. Но сидим. Барды городские вышли – тут такое началось! Андрюша Борисов поет что-то сильно жалостливое, зал свистит, потом огрызок яблока – бац в рожу! Ушел с достоинством. Мы уже совсем офонарели, потихоньку линяем, к нам какой-то толстый – распорядитель, что ли, у него значенье на лице написано, – а вы куда? А кто такие? Из какого такого лит-объединения? Кто руководитель? Голубцов ему: а мы и не поэты вовсе, мы вообще-то змееловы, а счас в отпуску. Пошли пиво пить.
Как ты там? Ах, хорошо бы сейчас к Понту Эвксинскому! Я все тот февраль вспоминаю, помнишь ли ты? Какая непогода была, шторм, дождь редкий, крупный, бамбук за окном шелестел, когда уходили по утрам на море, шли по крепкой чистой гальке, волны тяжелые хлопали в берег, пена клочьями, а горы в тумане – и не видно вовсе, только ощущаешь спиной. В такую погоду сидеть в теплом дому, слушать море, роман писать… Ах, черт возьми!
Обливаюсь слезами горючими, ничего не вернешь. А засим – прощай, брат Петер!
Твой Христофорус.
Глава 9Святое семейство
Дом – большой и светлый – стоял посреди города. В доме было восемь подъездов и девять этажей. И жили в доме две тысячи человек. Все они были друг другу не чужие, потому что работали на одном заводе. Завод был не простой, а… Ну, в общем, понятно, что это был не простой завод, и делали на нем, конечно, не солонки и перечницы, не ножи и вилки и прочие полезные в быту предметы. Потому что Урал – опорный край державы, как сказал поэт. А люди на этом заводе были самыми простыми, без заскоков и завихрений, потому что такое производство.
И жил в этом доме некто Сандалов – большой чудак и воображала. А жил он в чужой квартире, и было ему от этого не по себе. А в чужой квартире он жил потому, что никогда у него не было ни кола ни двора. И когда он женился, то поселился с тещей и тестем – у них квартира была трехкомнатная. Им с женой выделили комнату.
Сандалова теща не уважала, потому что он не понимал, в чем смысл жизни, и был студентом, разгильдяем, шпаной, дармоедом, но много о себе воображал. Кроме того, Сандалов много читал по ночам, а электроэнергия все-таки денег стоила. Потом еще Сандалов писал стихи, что было и вовсе неприлично. Когда появился маленький Сандалов, это было непонятно. Потом к маленькому привыкли, но к Сандалову никак. И еще: он хоть редко ел, но много. Ему намекнули, что, может быть, у него солитер? Нет, без обиды. Хорошо бы провериться. Вот Николай Сергеевич тоже раньше много ел, а потом оказалось, что у него солитер. Он его вывел и стал есть гораздо меньше. И совсем было возмутительно, что Сандалов иногда исчезал на два-три дня, а появлялся с опухшей рожей. И был он неразговорчивым и гордым. Но можно быть гордым, когда есть деньги, а когда денег нет, можно и поклониться.
Дочь родная – просто дура, что пошла за такого задрыгу. Есть мужики и получше. С квартирами. И с деньгами. И с профессией.
Николай Сергеевич на Сандалова бочку не катил. Ему было все до фени. Иногда перекинутся парой слов, Николай Сергеевич щелкнет упруго хвостом по линолеуму и катится к себе в комнату приемник паять, кастрюлю лудить.
Так скоротали зиму. А весной Сандалова выгнали. И так, слава богу, сколько терпели его. У Сандалова от огорчения кровь носом пошла. Он даже застрелиться хотел, но где револьвер взять? Из авторучки не застрелишься. Перетерпел Сандалов. Нашел себе комнату, перевез книжки, стал жить дальше. Стихи у него пошли светлые, легкие. А тут и Голубцов с Инокентьевым объявились. Завертелось лето каруселью. Ко всему привыкает человек, и Сандалов привык к новой жизни.
Глава 10Хандра
Голубцов впал в хандру. Он угрюмо лежал на неприбранной постели и оловянными глазами глядел в потолок. Иногда вставал, искал чистый листок бумаги и что-то торопливо на нем чиркал прозрачной шариковой ручкой. Ручка была почти пустая, и крохотный запас траурной пасты становился все меньше и меньше. Если чистого листа не находилось, то он брал какой-нибудь исписанный и писал на обратной стороне.
Он перестал мыться и не брился уже несколько недель. Грязная клочковатая борода торчала во все стороны. Над бородой тускло светились безумные глаза. По ночам он кряхтел, ворочался, потом вставал, искал бумагу, не находя ее и чертыхаясь сквозь зубы, брал «Литературную газету» и писал на ней при свете луны аршинными буквами. Похоже, что он сходил с ума.
Когда мы с Шурой варили какой-нибудь дрянной супчик, он делал вид, что это его не касается. Мы звали его за стол, он виновато улыбался, тихо садился, шумно жрал. Потом он опять ложился хандрить. Мы с Шурой выходили на завалинку покурить и горестно молчали, поглядывая на треснувшее окно, за которым моталась грязная борода. Фанза была в запустении, мусор лежал терриконами, книги куда-то исчезли.
Начиналась осень. Северный ветер рвал пожухлую листву, моросил нудно дождь, в душе было холодно и пусто. Стихи кончились. В комнате в шкафу на пыльной полке лежала тонкая синяя папка. Книга стихов «Дом во все времена». Трезвой бритвой по горлу была мне эта осень.
На этом рукопись, повествующая о горестной жизни Сандалова и его друзей в странноприимном доме, обрывается, но остается надежда, что остальная часть повести отыщется когда-нибудь, а если нет, то, очевидно, придется, подобно палеонтологам, восстанавливающим по одной косточке весь скелет, предположить дальнейшую судьбу героя. Кто-то видел Сандалова в Москве, но слышал я также, что Сандалов вернулся в городок, откуда он родом, чтобы наконец засесть за капитальный труд о времени и о реке.
1983