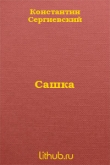Текст книги "Назовите меня Христофором"
Автор книги: Евгений Касимов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Борев завел с месье Туске какой-то деликатный разговор, а я молчаливо изображал адъютанта, прислушиваясь к волшебной французской речи.
Задушенно зазвонил мобильный телефон, я стал рыться в кармане, но каково же было мое удивление, когда месье Туске извлек из кармана своего шикарного пиджака точно такой же телефон, как у меня, и мельком глянул на светящийся дисплей. Старый добрый «Сони Эрикссон». О чем говорю я вам совершенно открыто, не боясь, что меня уличат в скрытой рекламе, потому что эта модель – без фотокамеры и других чудес – давно уже не продается. Старомодность месье Туске располагала. А вот Борев еще более консервативен, и у него вообще нет мобильного телефона. Кроме того, он не работает на компьютере, предпочитая писать свои забойные редакторские колонки обычной ручкой. Ну, а информацию он черпает из более компетентных источников, нежели информагентства Интернета. Впрочем, как я давно заметил, информация его мало интересовала. Он искал знания.
Разговор закончился, и месье Туске достал из вороха бумаг на столе какой-то бланк, вышел в соседнюю комнату, где немедленно застучала пишущая машинка. Через пять минут документ был подписан стальным «паркером» и вручен Бореву. Мы по-деловому распрощались с хозяином конторы, и трехметровые двери из мореного дуба захлопнулись за нами.
Есть идея: провести семинар, пусть наш спецназ обменяется опытом с французским, сказал Борев, сворачивая документ в трубочку и пряча его в одном из десяти карманов своей куртки. Да, семинар. С публичной демонстрацией боевого искусства.
Владимир Юрьевич, а нужно ли раскрывать специальным подразделениям свои секреты? Не лучше ли сохранить свою тренированность, свое умение в тайне? Мы сидели в чудесном ресторанчике на площади Контрэскарп и ели улиток. Борев учил меня выковыривать специальными щипчиками нежную субстанцию из раковинок. Женя, смотрите на это дело проще. Как на театральное представление. В китайской опере тоже демонстрируют кун-фу – от этого кун-фу не становится доступней. Но ведь спецназ не играет в войнушку, возразил я. Спецназ реально воюет. Борев рассеянно посмотрел на меня. Э-э, мы ведь иногда запускаем ракеты, нацеливая их на учебные мишени. Мы, Женя, покажем им не документальное кино, а художественную фильму. Кстати, не хотите ли сыру? Давайте закажем камамбер. Тут я должен признаться, к стыду своему, что плохо разбираюсь в сырах и всему обилию их предпочитаю обыкновенные плавленые сырки. Нет по мне ничего вкуснее вечерней кружки горячего крепкого чая и длинного бутерброда с маслом и сыром «Орбита». Я вздохнул. Может быть, мясо? А? Я в меню видел мясо по-татарски. Борев поморщился. Это просто кусок сырого фарша, Женя. Что, совсем сырое мясо? Совершенно сырое, печально сказал Борев. Нет, ну я хоть и потомок царевича Касима, сына Уллумухаммеда, но… Нет, даже и пробовать не буду! А они что, нас дикарями считают? Московия, Татария…
В это время сидящая за соседним столиком компания развернулась к нам, и худощавый француз с серебристым ежиком и в круглых очках интеллектуала что-то весело спросил у Борева. Усы у того немедленно встали дыбом. Он выхватил неведомо откуда свой берет с кокардой, натянул его на голову и замер, как перед фотоаппаратом, грозно поводя очами. Компания жидко засмеялась, но захлопала в ладоши. Спрашивает, не из КГБ ли мы, с усмешкой сказал Борев. Он заговорил с французом, и все вдруг уставились на меня. Женя, я сказал, что вы представитель древнего татарского рода и писатель. Но, что удивительно, он тоже писатель. Говорит, известный.
Я был смущен. Надо было немедленно подтвердить рекомендацию. Я вспомнил о своей новой книжице «Этнографические стихи» – уверяю вас, оказавшейся у меня в кармане в сей момент совершенно случайно! – и тут же вручил ее французу. Он открыл ее, как открывает милиционер паспорт у несчастного гастарбайтера, глянул на фотографию, остро посмотрел мне в лицо – и дружелюбно протянул руку. Товарисч, сказал я. Камрад! И ответил рукопожатием. За столиком бурно зааплодировали. Я испытывал чувство, как будто меня только что приняли в Пен-клуб.
Мы шли с Боревым по улице Сен-Дени в сторону Северного вокзала. Уже зажигали свет. Из уличных кофеен несло жаром газовых горелок. Пахло горячим шоколадом и крем-брюле.
Ноги у меня отнимались. Борев же был все так же бодр и энергичен. Он ворочал своей крупной головой из стороны в сторону, все видел, все слышал, все чуял. Он рассказывал о сырах, винах, соусах, о старой доброй французской кухне, которую можно найти только в небольших, мало кому известных кабачках, где собираются настоящие знатоки и гурманы, а вовсе не в фешенебельных ресторанах. Он посвящал меня в парижские тайны, но город, образ которого удивительно совпал поначалу с моим сугубо литературным представлением о нем, все более становился чужим.
А что, Женя, вы действительно потомок? Я рассмеялся. Ну что вы, Владимир Юрьевич! Я пошутил. Признать себя потомком царевича Касима – значит записаться в родственники Симеона Бекбулатовича, который почти год был русским царем, официально провозглашенным при Иване Грозном. Это было бы большой дерзостью.
В подворотнях стояли раскрашенные шестидесятилетние проститутки в черных ажурных чулках, сквозь которые выпирали варикозные вены. На узких тротуарах кучковались смуглые, чернокожие и даже желтолицые французы, горланили, гомонили, перетирали базарные свои дела, но к нам никто не приставал, никто не задирал нас. Может быть, им и дела до нас никакого не было, а может быть, их магически останавливали щит и меч, сверкающие на боревском берете.
Ночной полет
Лететь в самолете ночью – это как перемещаться в большой темной трубе из пункта А в пункт В. Нет ощущения высоты, скорости, пространства. Как будто ты помещен в комфортный аттракцион, изображающий нуль-переход. Но в силу несовершенства техники – не мгновенный.
Когда летишь на запад, время как бы затормаживается, что вполне соответствует странному ощущению дневного полета: вроде бы самолет железный, а вот висит себе в небе – и не падает. Когда же путь твой лежит на восток – да еще ночью, – время бежит быстро: часовые пояса пролетают с шелестом, мысли же, наоборот, становятся медленными, тягучими, как жевательная резина. Усиливается чувство, что недавний Париж – иллюзия, кинематограф, какой-то длинный чудесный фильм, снятый Отаром Иоселиани. Дивные кадры и планы, случайные и совершенно невозможные совпадения, явно постановочные микросюжеты, которых множество и которые объединены прихотливой рукой монтажера в неторопливый и безыскусный шедевр, напоминающий о подлинности жизни.
Вот чистый автобус салатно-белого цвета едет неторопливо по бульвару Батиньоль в сторону Трокадеро. В салоне немноголюдно, все тихонько посиживают, дремлют. Стекла затемнены, отчего город кажется сумеречным. Киноглаз выхватывает вывеску «Гастрономъ № 8». Из припаркованного на тротуаре фургончика вполне интернациональные грузчики вынимают коробки с товаром. В дверях стоит грозный армянин в ослепительно-белой курточке и ругается по-русски. Причем кричит он, чуть повернув голову, и явно не грузчикам, а кому-то таящемуся в глубине магазина, и левый глаз его, как у хамелеона, выворачивается из своей орбиты, нарушая всякую бинокулярность зрения, другой же продолжает свирепо наблюдать за грузчиками – и от этого лицо его становится похожим на портрет работы Пикассо.
Пышный сад за колоссальной чугунной оградой. Тротуар усеян палой листвой. Рыжая девчонка с рыжей собакой бегают по легким, высохшим листьям. Собака таскает на поводке девчонку. Та бесшумно хохочет во все горло.
Конечная остановка «Трокадеро». На площади страшно дует. Открывается вид на Эйфелеву башню, на Марсово поле. Вдруг узнаешь эту панораму и понимаешь, что все русские тележурналисты начинают свои репортажи именно отсюда. Снимают пресловутый стенд-ап, что-то взахлеб говорят в микрофон, а за спиной, понятно, Эйфелева башня.
Так тому и быть, подумал я и попросил унылого африканского торговца сфотографировать меня. На фоне башни, разумеется. В благодарность за оказанную услугу я купил у него два десятка башенок-брелоков. По два евро за штуку. Каково же было мое изумление, когда, спустившись вниз и перейдя Сену по мосту, я обнаружил, что у подножия башни такие сувениры стоят уже по одному евро за штуку, а если брать связкой, то еще и скидку сделают! Все никак не могу привыкнуть к рыночной экономике. Ничего, мужественно сказал я сам себе. Мы всегда помогали угнетенным народам. И африканским. И арабским.
Но, видно, разочарование свое все-таки не скрыл, потому что в утешение какая-то милая девушка вручила мне длинный билет, приговаривая «батон!», «батон!». В бейсболке, в белой футболке, натянутой на серую фланелевую рубаху, она напоминала воркующего городского голубя-сизаря, клюющего нежданно-негаданно свалившийся с небес свежий батон, и как бы радостно предлагала разделить с ней трапезу. Потом-то я сообразил, что этот билет предоставляет всего-навсего скидку в один евро, если вы покупаете настоящий билет на пароходик, курсирующий по реке. А пароходик по-французски «бато». И пароходики эти действительно похожи на большие батоны.
На верхней палубе было пусто. Дул ветер. Иногда сыпал дождь. Быстро смеркалось. В городе зажигались огни. Заиграла музыка, и нежный девичий голос под нехитрый аккомпанемент стал выводить песню. Бог знает, о чем пела эта девушка, но мне почему-то представилось, что эта песня о ночном Париже, в котором ей очень грустно, неприкаянно, но она изо всех сил держится и делает вид, что ей хорошо. Жанно сказал, что пойдет купить сигарет, вышел – и пропал, я жду, жду его, а его все нет и нет, ну и наплевать на тебя, дурак, я подожду еще полчаса, а потом уйду из своей крохотной квартирки, пройдусь по набережной, укрывшись под черным зонтом, глупый ты, глупый, потом пойду в Латинский квартал, там есть отличное кафе, в котором сейчас сидят мои друзья, а Эжен мне всегда нравился, мы славно проведем вечер, а ты пропади пропадом, какой же ты все-таки глупый, мой милый, ведь нам было так хорошо…
И в довершение ко всему этому бреду выкатилась полная луна – это пароходик развернулся и потрюхал назад, вниз по реке, обратно к Эйфелевой башне, которая уже мигала в тысячу огней, и широкие лезвия прожекторов полосовали небо. И тут заиграл роскошно аккордеон, и возник во тьме сильный женский голос с хрипотцой. О, Париж! Париж! Потрескивала невидимая патефонная пластинка, золотые лунные блики играли на черной речной зыби.
Пароходик тянулся мимо темного Лувра, где однажды выпало мне нелегкое испытание. Сначала, как водится, я бродил наугад, но потом примкнул к группе туристов, которых водила по дворцу черноволосая пылкая женщина, складно говорящая по-русски. Все обращались к ней запросто: Раймонда. О, как она была щедра и лукава, эта Раймонда! Она была похожа на ведьму, которая заводит вас в сокровищницу и объявляет, что вы, дескать, можете набивать свои карманы, сумки и даже сапоги всем этим добром. И пусть каждый берет столько, сколько унесет. Ну все и гребли, кто сколько может. И я, каюсь, жаден оказался до невозможности. А потом таскался по Лувру, тяжелея от зала к залу, меняя медь на серебро, серебро на золото, а золото на чистые бриллианты, и к вечеру совершенно упрел и отупел. И в галерее Ришелье, где висят любимые мои голландцы, уже ничего не воспринимал. Удивился только, что «Корабль дураков» – очень маленькая картина. Совсем как досочки художника Коровкина. Только у Коровкина эти досочки веселые, яркие – все в ромашках, а у Иеронима Босха картинка темная и грустная, как наша жизнь.
Берегите карманы, предупредила Раймонда, когда группа подошла в Венере Милосской. Здесь работают мастера. Они вытащат у вас кошелек, вынут все деньги, а кошелек запихнут вам обратно в карман – и вы ничего не заметите! Все посуровели и стали подозрительно оглядывать толпу. У Моны Лизы тоже будьте настороже, сказала Раймонда. Женщины инстинктивно прижали сумочки к животам, а мужики, порывшись внутри пиджаков, напрягли мышцы.
У меня тырить, собственно, было нечего – ибо ни кошелька, ни портмоне, ни даже гомонка никогда с собой не ношу, и располагал я к этому часу весьма скромными духовными богатствами, – поэтому спокойно толкался среди фаворитов луны и пытливо разгадывал фокус Джоконды. Мне кажется, дело именно в фокусе, но в другом смысле. Если вы сфокусируете свой взгляд на улыбающихся губах – глаза на портрете затуманиваются, если смотрите глаза в глаза – из фокуса исчезает рот. Отсюда – постоянно меняющееся выражение лица. А может быть, все гораздо сложнее. И тайна этой картины непостижима.
В небольшом зале со скульптурами довольно холодно осматривал полированный мрамор и вдруг – остановился как громом пораженный! Две напряженные человеческие фигуры, готовые развернуться неслыханной живой мощью. Подошел ближе. Ну да, понятно. Микеланджело. Похожие ощущения испытываешь в музее Родена.
Зазвенел будильником мобильный телефон. Звонила Женя Акулова. Она закончила вечерний радиоэфир на RFI и собиралась домой. Офис RFI находится недалеко от Эйфелевой башни, куда возвращался наш «бато», и я сказал, что мог бы встретить ее и мы могли бы где-нибудь поужинать. Женя сказала, что поедет на метро и будет ждать меня на площади Шатле возле фонтана.
Женя не только пишет картины, но еще работает на радио, которое вещает на Россию. Когда-то я работал в городской телерадиокомпании «Студия Город», где вел культурные программы и где нашими партнерами были эти самые французы. Обычно нам предлагали транслировать странную арабскую музыку. И мы охотно передавали эту пыльную, жаркую, выматывающую душу дребедень, потому что за это платили полновесными иностранными деньгами. Времена были трудными. Приходилось выживать. Утешало то, что мы загнали эту музыку на средние волны – малодоступные и совсем не популярные в эпоху FM. Но небольшие угрызения совести мы все-таки испытывали.
Ну, сегодня совсем другое дело! Эфир бодрит, как таинственный напиток винт, как чудодейственный препарат «Виагра». Будоражит и притягивает, как малина или хаза. И чисто одетые гопники объясняют смысл жизни. Теперь наше народонаселение точно знает, что нужно носить, на чем ездить, как питаться, где отдыхать, что читать, что смотреть, что слушать. И разумеется, кого выбирать во власть.
А начиналось-то невинно – с пряной восточной музыки, которую никто и не слушал, кроме двух-трех доморощенных ваххабитов из Первоуральска.
Впрочем, Женя Акулова работает над серьезными передачами, и миссия у нее просветительская. Я же не то чтобы потерял интерес к культуртрегерству, но воспитываю сейчас только своих детей да десятка два студентов.
Желтый круг луны катился в разрывах туч. Лет двадцать назад в такое полнолуние я непременно бы крепко выпил. Но на душе почему-то было покойно. И я чинно ступил на твердую землю. Повернувшись спиной к луне, на которой тысячелетний заяц все толок в ступке волшебное снадобье, приняв которое становишься невидимкой, я запахнулся поглубже в крылатку, надвинул мягкую широкополую шляпу на самые брови и, шевеля в осеннем сумраке тростью, внутри которой таился длинный острый клинок, заспешил на свидание с златокудрой Эудженией, которая вполне бы могла быть аллегорией Осени у Боттичелли. Или Лукаса Кранаха.
Мы сидели в «Курящей Собаке». Ярко горело электричество. По стенам висели картины, изображающие собачью жизнь. Какой-то барбос в ночной сорочке и колпаке заигрывал с подружкой на фоне окна, в котором чесночинкой торчал месяц. Сенбернар в красном жилете, полосатых штанах и сером шелковом цилиндре что-то записывал в блокнот на скачках, попыхивая сигарой. А всклокоченный спаниель грустно смотрел на косточку, которую ему подал важный гарсон.
Женя, спросил я, хорошо тебе в Париже? Не скучаешь по дому? Я деловито выжимал лимонный сок на устрицу. Женя весело посмотрела мне в глаза. В прошлом году, сказала она, я ездила с дочкой в Екатеринбург. И ты не позвонила, обиделся я. И проглотил устрицу. Женя усмехнулась. Не успела. На второй день, когда я возвращалась домой – часов в восемь вечера, у самого подъезда какие-то упыри вырвали у меня сумочку. А потом ударили в лицо и сломали нос. Когда я упала – еще несколько раз пнули. Сломали ребро. Так я и пролежала весь отпуск дома. Скучала, конечно.
Она улыбнулась. Как тебе устрицы? Я хотел что-то сказать, но получился у меня только какой-то тощий жалобный мык. Я потрогал смятый лимон и стал искать салфетку, чтобы вытереть руки. Салфетка свалилась под ноги, и я с трудом ее поднял, чуть не стянув со стола скатерть.
За влажными темными стеклами кафе смутно виднелись решетки, за которыми стояли чернильного цвета кусты. Громадный мрачный Сент-Эсташ занимал полнеба.
Когда-то рядом был знаменитый рынок, тот самый. Тридцать пять лет назад все павильоны разобрали и вывезли к черту на кулички. И дух его был истреблен. Теперь здесь Форум – торгово-развлекательный центр, ухоженный сад. «Чрево Парижа» кануло в литературу, как в Стикс. А сам рынок, его, скажем так, каркас, стоит сейчас где-то в Рэнжис, что ли. У нас тоже была Хитровка – и ее тоже снесли. Решительно и одномоментно ликвидировали. Но призрак Хитровки бродит по России, а в Екатеринбурге он, похоже, прописался.
Женя, а давай выпьем вина? А? Сотерна? Нет, больно сладкое, покачала головой Женя. И дорого. Да ну, пустяки, убеждал я ее, но Женя только смеялась. Я становлюсь экономной, как настоящая парижанка, сказала она. И я не люблю сладкое вино. Я настаивал, и в конце концов мы сторговались на бутылочке шабли. Проворный официант тут же нам ее и принес. Женя сказала, что завтра у нее свободный день и мы могли бы погулять по городу. Здесь недалеко – настоящий средневековый Париж. Сходим на площадь Вогезов. Я рассказал, как долго искал Гревскую площадь, на которой много лет назад рубили головы лиходеям. Пять раз по ней прошел. Сейчас она называется, кажется, Ратушной. Лиходеев давно извели, и на этой площади и посмотреть-то теперь не на что. Потолкался в толпе, когда какие-то благотворители раздавали велосипеды. Не покататься, а насовсем. И всем желающим. Я даже постоял недолго в большой очереди. Представлял, как подкачу к отелю на собственном транспорте. А куда его потом? Так и ушел пешком. Эх, болван, спохватился я, надо было все-таки взять велосипед! Тебе бы оставил. Странные все-таки тут у вас дела. Даже не социализм, а коммунизм какой-то. Женя смеялась.
И я вдруг с нежностью и горечью подумал о тебе и грустно понял, чего мне не хватало в этом городе. В Париже просто невозможно находиться одному. Его обязательно нужно с кем-то делить. Он только тогда и будет праздником, когда он будет с тобой, когда в нем будешь ты. А без тебя он просто большой город – да, роскошный, величественный, грандиозный, но праздник почему-то истончается уже через неделю. И вступает в права обычная жизнь, и начинаются будни, скудные и постылые дни. И записки печального таксиста Гайто Газданова тому подтверждение. Его «Ночные дороги» – это книга мужественного человека о парижском одиночестве. Черно-белый Париж, как в старом кинематографе. Мглистое пространство, пронизанное светлыми царапинами и марашками.
Ах, чтоб я сдох! Я чуть не закричал, но сдержался и стал смотреть в иллюминатор, в котором над беспроглядной тьмой тревожно вспыхивал бортовой фонарь. Я закрыл глаза и увидел Париж с высоты ангельского полета. Бледно-серое небо куполом закрывало песочного цвета город. Он напоминал детскую игру-лабиринт, где катается по узким канавкам маленький стальной шарик.
Картина была ясной и четкой, потом слегка размылась по краям, потом тихо-тихо стала гаснуть, как бы сжимаемая диафрагмой. И я заснул под ровный гул моторов. И мне приснилось стихотворение, которое я запишу, когда проснусь. Обязательно запишу.
Приснившееся стихотворение (вместо эпилога)
«В Париже скучно – едемте в Дербент!» О, как был прав поэт! На Патриарших он вел войну за собственный Верден – и пал в неравной схватке рукопашной. Париж не обжигает пальцы рук. Париж давно уже мифологема. На Сен-Дени – хурма, шербет, урюк. И на Монмартре кофе пьет богема. Когда-то был он пьяным кораблем. Сегодня же Париж благопристоен. И только мы возвышенно плюем на эту чепуху у барных стоек. В Париже есть «Ротонда» и «Куполь». На Монпарнасе – памятник Бальзаку. Ах, парижане милые, давно ль вы поносили бедного писаку? Как генерал Чарнота в неглиже – лежит клошар. И я б лежал клошаром! Увы, не в силе. И давно уже! Гуляю буржуазно по бульварам Клиши и Батиньоль. Туда-сюда. По площади, где мельница вертится. Прошел Христос. От гнева и стыда Он напряженно вглядывался в лица. Босой. В хламиде. Чистый нелегал. Наверно, он здесь неофициально. Христос вернулся с площади Пигаль – освистанный худым официантом. А я пошел в кафе «Гиппопотам» – здесь антрекоты с кровью жаром пышут. Я славно вечер скоротаю с Пышкой. Уй, почему вы плачете, мадам? И алкогольный розовый туман, конечно, слаще нашего тумана. Ситэ плывет, что твой Левиафан. А Нотр-Дам – скелет Левиафана.
2004–2007