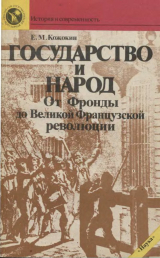
Текст книги "Государство и народ. От Фронды до Великой французской революции"
Автор книги: Евгений Кожокин
Жанры:
Государство и право
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
На споры и раздумья о государственном устройстве Франции, об ее экономическом положении, отношении к королю осенью 1791 г. все больший отпечаток стало накладывать ощущение неизбежности войны. Либералы-конституционалисты обвиняли демократов в том, что именно их бунтовщические взгляды вызывают опасения европейских дворов и принуждают монархов начать превентивную войну, пока «революционная зараза» не перекинулась на их страны. Простой люд ожидал войну со смешанным чувством гнева и страха.
Осень и первая половина зимы 1791/92 г. прошли спокойно. В народе по-прежнему жаловались на нехватку серебряной монеты, поругивали Национальную гвардию… Изменилось разве что отношение к войне. Воинственную декларацию Бриссо, произнесенную 20 октября в Законодательном собрании, многие восприняли с энтузиазмом. Спекуляция на чувстве национальной гордости нередко приносит большие политические дивиденды, но в то же время это один из самых опасных видов спекуляции, ибо он прямым путем ведет к войне.
Осенью 1791 г. воинственные настроения охватили большую часть населения, особенно в городах. Угар веры в спасительную роль насилия начал распространяться по стране. Сильные личности из правящих классов помышляли об экономических выгодах, территориальных приобретениях, удовлетворенных амбициях; простые люди Франции думали о свободе своей родины, защите очага, помощи таким же, как они, бедным и обездоленным в борьбе против тиранов. Ни те ни другие не догадывались, что от войны потеряют все. Среди политиков-демократов Робеспьер чуть ли не единственный считал, что интересы революции требуют не разжигания войны, а, наоборот, максимума усилий, чтобы ее избежать{184}.
Впрочем, вспышка энтузиазма осенью 1791 г. длилась недолго. Повседневные заботы даже самых воинственных бедняков вынуждали их забывать о героическом ради удовлетворения простых человеческих нужд.
Экономические неурядицы могут долго действовать людям на психику, вызывать возмущенные разговоры, пересуды… год, два, десять, но в один прекрасный момент наступает предел терпению. И от слов народ переходит к делу. Французы редко бывали склонны терпеть экономический маразм годами. Продолжавшееся в течение 1791 г. падение стоимости ассигнатов привело к серьезному обесцениванию зарплаты многочисленных категорий наемных работников. Возраставшая эмиграция дворян и духовенства вызвала хронический кризис в ряде ремесленных профессий. Непосредственным толчком к народным выступлениям в январе 1792 г. послужили перебои в снабжении столицы сахаром и кофе и резкий рост цен на сахар, кофе и другие продукты питания.
В предместьях Сент-Антуан, Сен-Марсо, Сен-Дени, в секциях Гравилье и Бобур женщины из простонародья врывались в магазины, заставляли торговцев продавать товары по прежним низким ценам. Лишь отряды полиции и Национальной гвардии сумели защитить буржуа от «народной таксации».
20 апреля 1792 г. Франция объявила войну королю Богемии и Венгрии (такой формулой подчеркивалось, что Франция собирается воевать с королевским домом Габсбургов, а не со Священной Римской империей). Французские войска вступили на территорию Бельгии. Патриоты ожидали побед французского оружия и восстания бельгийцев, но бельгийцы не восстали, а французская армия вскоре начала отступление. Можно было не читать газету Марата и не слушать речей Робеспьера, мысли об измене приходили в голову даже людям, неискушенным в политике. Давно утвердившееся в общественном сознании мнение, что королева Франции – глава ненавистной «австрийской партии», не требовало дополнительных доказательств. Но теперь и Людовик ХVI не внушал доверия. Королевская власть становилась невыносимой, нельзя было вести войну имея во главе государства изменника.
Неудачи французской армии поставили страну перед угрозой иностранной интервенции. Требовались срочные меры по укреплению государственной безопасности. Законодательное собрание под влиянием широкого общественного негодования приняло в конце мая – начале нюня три декрета: о высылке неприсягнувших священников, роспуске королевской гвардии и создании под Парижем 20-тысячного лагеря федератов. Король, уверенный в близкой победе интервентов, согласился только на роспуск своей гвардии, а два других декрета утвердить отказался. 13 июня он уволил в отставку министров-патриотов. пользовавшихся народной поддержкой, и призвал к власти фейянов.
Зрелость гражданского сознания патриотически настроенных парижан в годы революции не раз проявлялась в том, с какой мужественной легкостью они переходили от разговоров к делу. Негодование поведением двора закончилось 20 июня массовой демонстрацией и подачей петиции Законодательному собранию и королю.
20 июня батальоны Национальной гвардии Сен-Мар-сельского и Сент-Антуанского предместий, подмастерья с пиками, лавочники, мужчины, женщины, дети продефилировали по улицам Парижа, передали свою петицию депутатам Собрания. А вечером, возможно, в немалой степени неожиданно для самих себя демонстранты оказались в королевских апартаментах. Королю пришлось выслушать достаточно энергично выраженные требования национальных гвардейцев и простолюдинов. Раздавались возгласы: «Долой право вето! Вернуть министров-патриотов!» Коронованную особу запросто называли «толстым Луп», время от времени демонстранты выкрикивали: «Дрожите тираны, вот санкюлоты!»{185}
Прямых последствий события 20 июня не имели, если не считать неслыханного до того в истории Франции унижения королевской власти; последние остатки сакральности, во всяком случае в глазах парижского мелкого люда, этот институт утратил. Многие еще чисто по-человечески снисходительно относились к королю, зная о его тяжких прегрешениях против нации, ему их не то чтобы прощали, а как бы отпускали. Приходила на ум мысль из былых времен: какой-никакой, а все-таки король. Но личностью высшего порядка его не признавал уже никто. Политически же активные простолюдины, те, которых летом 1792 г. уже повсеместно стали называть санкюлотами, считали Людовика XVI тираном, клятвопреступником, человеком, виновным во многих бедствиях и поражениях Франции. И судьба короля все в большей степени начинала зависеть именно от воли санкюлотов, ибо на их стороне теперь была сила.
10 августа явилось конкретной реализацией этой силы, воплощением ее в победоносном «восстании и установлении нового органа власти – повстанческой Коммуны Парижа. Коммуна 10 августа представляла собой первый институт власти, не только непосредственно порожденный народным движением, но и сохранивший с ним органические связи после победы.
* * *
С 1789 до лета 1792 г. народное движение проделало огромный путь. Вместе со всей страной оно совершило скачок из полуфеодального мира старого порядка в мир четко сформулированных норм буржуазной политики. Простолюдины. штурмовавшие Бастилию, боролись под лозунгами «Да здравствует король! Да здравствует третье сословие!», вместе с бюстом Неккера несли по улицам Парижа бюст принца Филиппа Орлеанского. Представление о расстановке политических сил было столь же смутно, сколь и сама расстановка. Аморфной аристократической партии противостояло не менее аморфное, правда гораздо более действенное, третье сословие; королевский двор еще не успел опомниться от долгой борьбы с аристократами и лишь начинал осознавать, что аристократы – его единственная реальная опора в стране. В хитросплетениях политики 1789 г. народ разбирался как бы на ощупь, почти инстинктивно. Сама сфера политики, эта специфическая сфера борьбы за власть, претерпевала кардинальное преобразование: на смену борьбе клик приходила открытая борьба классов и представлявших их партий.
В 1792 г. третье сословие было уже глубочайшим образом расколото. Облик основных буржуазных политических партий достаточно прояснился. Народное движение республиканизировалось, и уже один этот факт знаменовал собой гигантский скачок в его политическом развитии. Устранение фигуры короля делало политическую сцену гораздо более ясной и попятной. Простолюдины поддерживали ту партию, которая в наибольшей степени выражала готовность идти навстречу их требованиям. Социальное, народное движение превращалось в непосредственно политическое движение санкюлотов.
Само определение «политический» указывает на то, что данная форма социальной активности направлена на изменение или полное устранение существующей власти в обществе. Наиболее политически активные элементы парижского плебейства стали ставить перед собой подобного рода цели лишь после Вареннского кризиса. Республиканская демонстрация на Марсовом поле явилась первым политическим актом нарождавшегося санкюлотского движения. Характерно, что сам термин «санкюлот» (и производные от него) получил широкое распространение лишь с лета 1791 г.{186} Но в то время это слово имело ругательное значение, использовали его преимущественно сторонники аристократов и либералов-конституционалистов.
Сдвиг в семантике слова санкюлот произошел, по-видимому, лишь во второй половине 1791 – первой половине 1792 г. Пежоративное значение было потеснено, а затем и вытеснено значением почти сакральным. Революция ведь тоже имела свои святыни, неуважительное высказывание о нации, Конвенте или тех же санкюлотах могло дорого стоить человеку. С весны 1792 г. о санкюлотах с огромным пиететом стала писать демократическая пресса. Именно с той поры устами папаши Дюшена Эбер начал призывать: «За пики, отважные санкюлоты! Наточите их получше и выпустите дух из аристократов»{187}.
Народное движение обрело имя, был совершен один из первых шагов на пути к политической самоидентификации, осознанию сущности нового исторического феномена. Но события слишком опережали процесс познания. Если обозначение новых явлений происходило почти синхронно с их рождением, то процесс их теоретического осмысления явно запаздывал. Образовывался разрыв. Ряд – слово, термин, понятие – не имел завершения. Звена «понятие» недоставало. Слово не успевало обрести соответствующее ему понятие, как теоретическое осмысление обозначаемого данным словом явления теряло смысл, ибо само явление исчезало.
Так было и с явлением санкюлотизма. В 1792–1794 гг. что значит слово «санкюлот», знали все, теоретически же истолковать этот феномен не мог никто, а к концу 1795 г. его уже можно было не истолковывать: движение санкюлотов стало историей.
Существовал разрыв между практической деятельностью людей и ее осмыслением, их практическим и теоретическим разумом.
Специфика санкюлотизма как одного из важнейших элементов революционного процесса состоит в том, что он представлял собой массовое политическое движение, а современники, даже из числа политиков того времени, обращали внимание прежде всего на его социальную сущность.
Санкюлотами часто называли просто бедных людей как бы вне зависимости от характера их политических убеждений. На заседании Якобинского клуба 29 вандемьера II года Республики член Конвента Лапланш рассказывал о своей миссии в Жер: «Священники пользовались всеми удобствами в местах своего заключения, санкюлоты же спали в тюрьмах на соломе. Первые снабдили меня тюфяками для последних»{188}. По существу идентичны представлениям Лапланша о санкюлотах представления видного жирондиста, мэра Парижа в 1791–1792 гг. Ж. Петиопа, который утверждал: «Когда говорят о санкюлотах, то имеют в виду не всех граждан, исключая дворян и аристократов, а лишь тех, кто ничего не имеет в отличие от всей массы собственников»{189}. Человек совершенно иной ориентации, будущий глава «заговора равных», Г. Бабеф также считал санкюлотами бедных, неимущих людей{190}.
Встречались и более определенные социальные характеристики: среди городского плебейства цветом санкюлотства Эбер считал рабочих{191}.
Социально-экономические отличия санкюлотов виделись современникам гораздо более ясно, чем их политическое своеобразие. Конечно, Лапланш, Эбер, Бабеф не могли не видеть политическую сторону санкюлотизма: патриотизм санкюлотов подразумевался всегда как нечто само собой разумеющееся, казалось, что человек из народа не может не быть патриотом, сторонником революции. Но совершалась невольная передержка – патриотизм отождествлялся с санкюлотизмом. Получалось, что санкюлоты – это просто последовательные республиканцы из простонародья и каких-либо идей, отличных от идей якобинцев, они по имеют. Более того, союзники из числа буржуазных политиков воспринимали в 1792 – первой половине 1793 г. специфические установки формировавшейся санкюлотской идеологии как установки, чуждые духу народа, духу санкюлотизма. Якобинцам-робеспьеристам, как никакой другой политической группировке времен Великой революции, была свойственна иллюзия, что истинные нужды и стремления народа лучше всего (в том числе лучше самого народа) понимают именно они, якобинцы.
Санкюлоты признавались в качестве особой социальной группы, по не особого политического и идеологического течения. Единой и неделимой республике должна была соответствовать единая и неделимая нация.
Но, как часто бывает, идеологические мифы навязывали одно видение мира, а реальность прорывалась сквозь них совсем в ином обличье. Часть людей из народа осталась в стороне от революционных событий, часть поддержала контрреволюцию. Пассивный консерватизм 1789–1791 гг. в 1792–1793 гг. превратился в пожар гражданской войны в Вандее, в мятежи в Лионе, Тулоне, Марселе и многих других местах. Крестьяне, ремесленники, лавочники, рабочие оказывались на стороне не только федералистов-республиканцев, по и роялистов.
Якобинцы были с народом, но со своим, санкюлотским, народом. Газета «Парижские революции», близкая по духу установкам Робеспьера, весной 1793 г. вводила определенное разграничение между народом и санкюлотами и даже более того: она выдвигала обвинения против «ложных санкюлотов». В одном из мартовских номеров 1793 г. на ее страницах говорилось о бедствиях Франции: «Кажется, все силы объединились, чтобы заставить народ отдаться первому же авантюристу, который захочет им овладеть. О дьявольское наваждение! Что? Неужели у нас будет… нет сил закончить фразу, написать это кощунственное, мерзкое, богопротивное слово! Нет! Этого не будет… Не так ли, отважные санкюлоты?.. Вы совершили революцию, вы ее защитите и завершите, несмотря на все происки королей, министров, дворян, священников, богатых эгоистов, всяких ничтожных и нейтральных людишек, ложных санкюлотов, которые пытаются затесаться в ваши ряды, подражают вашим манерам, вашей одежде и все ради того, чтобы лучше вас обмануть»{192}. Верно подметив явление, журналист (возможно, это был Сильвен Марешаль, редактировавший в 1793 г. газету) дал ему неверное толкование: для него «ложные санкюлоты» – это имущие элементы, подделывающиеся под санкюлотов. Преодоления идеологического мифа не произошло, представление о том, что санкюлоты – это истинный народ, это народ, поддерживающий якобинцев, лишь обрело дополнительное подтверждение и разъяснение. Конечно, мифологизм сознания якобинцев был особого рода. Удержаться у власти и благополучно прожить многие годы, не расставаясь с излюбленными мифами, удается лишь бюрократам времен народной спячки. Якобинцы обладали счастливой способностью обретать свои мифы и забывать о них в зависимости от ситуации. Бесстрашные практики революции, они не продержались бы у власти и дня, если бы в практических делах не оставляли в стороне даже самые дорогие их сердцу и уму мифы. Безжалостно подавляя роялистские и федералистские мятежи, они уничтожали врагов, не изнуряя себя метафизическими изысканиями: кто из противников на самом деле санкюлот, но сбитый с пути истинного священниками и аристократами, и кто враг, неумолимый и прирожденный. Точно так же к побежденному врагу они подходили трезво и реалистически. Неустрашимый сподвижник Робеспьера Кутон говорил о плененных вандейцах: «Я думаю, что пи к каким пагубным последствиям не приведет, если мы избавим от смертной казни женщин, детей, стариков и всех тех из землепашцев и рабочих, которые среди разбойников не занимали никакого гражданского или военного поста»{193}.
Сохранились данные о политических кадрах парижских секций II года Республики. Среди деятелей секций периода наивысшего подъема революции различались три категории. Первая – это комиссары гражданских комитетов, вторая – члены революционных комитетов, третья – санкюлоты-активисты, группировавшиеся с осени 1793 г. преимущественно в секционных обществах.
Гражданские комитеты секций были созданы в соответствии с муниципальным законом 21 мая – 27 июня 1790 г., занимались они в основном административными вопросами. Во II году сфера их деятельности – это прежде всего контроль за распределением продовольствия и> оказание вспомоществования, они осуществляли также функции наблюдения, следили за исполнением ордонансов и постановлений муниципалитета. За свою работу комиссары гражданских комитетов долгое время не получали никакого вознаграждения, лишь 6 флореаля II года Конвент постановил выплачивать им 3 ливра в день{194}. До этого декрета должность гражданского комиссара могли отправлять только люди, имевшие досуг и определенный достаток.
Из 343 комиссаров, числившихся по спискам II года, – 91 человек (26,2 %) жил на доходы от своей собственности (это рантье, отошедшие от дел лавочники, ремесленники, лица свободных профессий), 252 человека (73,8 %) часть своего времени отдавали административным обязанностям, часть – основной профессии (среди них ремесленников было 120 человек, далее шли лавочники, мелкие торговцы – 81, лиц свободных профессий – 42, предпринимателей – 8 человек). Созданные по инициативе санкюлотов революционные комитеты (законы от 21 марта и 17 сентября 1793 г. лишь фиксировали уже сложившееся положение вещей) занимались выдачей свидетельств о гражданской благонадежности, проверкой документов военных, имели право подвергать последних аресту, если их документы оказывались не в порядке, следили за иностранцами, арестовывали граждан, не носивших национальные кокарды. Революционные комитеты имели более демократический состав, чем комитеты гражданские. Из 454 комиссаров II года Республики 206 (45,3 %) – ремесленники, 84 (18,5 %) – лавочники и торговцы, 55 (12,1 %) – подмастерья, слуги, разнорабочие, 52 (10,5 %) – лица свободных профессий, 22 (4,8 %) – служащие, 20 (4,6 %) – рантье, люди, живущие на доходы от собственности, 13 (2,8 %) – предприниматели{195}. Среди наиболее многочисленной социальной категории комиссаров, обозначенной в документах словом «ремесленник», встречались люди с определенным достатком, но чаще это были бедняки, зарабатывавшие на хлеб насущный исключительно своим трудом. О члене революционного комитета в одной из секций Сент-Антуанского предместья сапожнике Эмбле говорили: «Работящий человек… кормит семью трудом своих рук»{196}; известно, что он проживал с женой и двумя маленькими детьми в небольшой комнатушке на шестом этаже дома на улице Дюваль. Другой комиссар, горшечник Шарль Дени Депель, имея пять человек детей, снимал комнату всего за 60 ливров в год. Цена красноречиво говорит о качестве этого жилья. Члены революционных комитетов были не только беднее, но и моложе гражданских комиссаров. Из 23 революционных комиссаров Сент-Антуанского предместья три четверти не достигли возраста 45 лет. Были среди них и совсем молодые люди. Сапожнику Эмбле, пользовавшемуся большим авторитетом в секции Кенз-Вен, в 1793 г. исполнилось только 22 года, чуть постарше были комиссары Буайе, Анрие, Ваконе{197}.
Из политических кадров движения санкюлотов самым демократическим элементом, безусловно, являлись секционные активисты. Имеются данные о социальном статусе 514 санкюлотов-активистов. Ремесленники преобладают и в этой категории: их 214 (41,6 %), торговцы составляют 15,7 % (81 человек), 64 активиста (12,4 %) – рабочие, 40 (7,7 %) – слуги, приказчики, посыльные, 45 (8,7 %) – служащие, 35 (6,8 %) – лица свободных профессий, разного рода рантье всего 10 (1,9 %), предпринимателей 4 (0,7 %){198}.
Но, определяя социальный облик участников движения санкюлотов, нельзя ограничиваться характеристикой его политических кадров, его организаторов. Движение имело не только своих офицеров и сержантов, но и массу рядовых. Комиссары и активисты секций отличались решительностью, энергией, развитым для того времени политическим сознанием, по их было немного, серьезную силу они представляли благодаря тому, что за ними стояли сотни и тысячи простых людей. Эта мобильная, к сожалению, безымянная для истории масса состояла в значительной степени из рабочих.
Согласно различного рода подсчетам, в Париже конца XVIII в. проживало порядка 524–640 тыс. человек{199}, рабочее население составляло приблизительно половину: 250 972 (считая детей и жен рабочих){200}. Именно из этой среды вышли большинство участников великих революционных дней: 14 июля и 5–6 октября 1789 г., 17 июля 1791 г., 20 июня и 10 августа 1792 г. В моменты наивысшего подъема движения санкюлотов – 31 мая – 2 июня и 4–5 сентября 1793 г., 12 жерминаля и 1–4 прериаля III года (1 апреля и 20–23 мая 1795 г.) – те же плебеи – рабочие и мелкие собственники – будут вновь составлять революционные колонны.
31 мая и 2 июня 1793 г. в отрядах Национальной гвардии и революционной милиции, окруживших Конвент, были люди, для которых потеря одного рабочего дня была очень ощутимой; и секции, чтобы возместить ущерб, понесенный этими бедными участниками восстания, обратились к Парнишкой коммуне с просьбой оказать санкюлотам определенное вспомоществование. Особенно много нуждавшихся в такого рода помощи оказалось в секциях Сент-Антуанского предместья, а также в секциях Круа-Руж, Гравилье, Монмартр.
Секция Монтрей представила список 2946 нуждавшихся, секция Кенз-Вен – 2039, Круа-Руж – 1458, Гравилье – 1458, Монмартр – 1438, Бон-Копсей – 1400, Инвалидов – 1358, Попенкур – 970{201}. Эти цифры не безлики, они позволяют представить, какая сила принудила Конвент радикализироваться, исключив из своих рядов 29 депутатов-жирондистов{202}.
Социальный характер движения 4–5 сентября 1793 г. определен достаточно четко. Газеты единодушно отмечали, что среди манифестантов в то дни преобладали рабочие. 4–5 сентября движение санкюлотов достигло пика своего влияния в Париже и во Франции. Конвент не только одобрил политические меры, принятия которых добивались санкюлоты, по и в принципе согласился на введение всеобщего максимума{203}. Очень точно охарактеризовал сентябрьские события, их внутренний механизм А. Собуль. Он писал: «Движение зародилось в самой гуще народа… вожаки секций и клубов придали ему направление и возглавили его… Это именно они, сильные поддержкой народных масс, увлекли за собой Коммуну, Якобинский клуб, Конвент и, наконец, Комитет общественного спасения»{204}.
Переворот 9 термидора нанес тяжелый удар санкюлотскому движению. Была отстранена от власти политическая группировка, опиравшаяся на это движение, и, хотя формально переворот не был направлен против организаций санкюлотов, не случайно вскоре после гибели робеспьеристов последовали репрессии и против активистов секций{205}.
Ослабленное, отчасти дезориентированное движение санкюлотов тем не менее не сошло с политической сцепы в 1794 г. Несмотря на преследования властей, организации санкюлотов продолжали действовать. Собирались народные секционные общества, проводили агитацию демократические клубы. Особой популярностью пользовались Общество республиканской добродетели в секции Обсерватории и клуб на улице Вер-Буа, о котором говорили, что его посещают в основном «рабочие и другие малообразованные люди, которых легко увлечь на опасный путь»{206}. Весной, когда экономическое положение народных масс стало совершенно невыносимым, санкюлоты попытались перейти в контрнаступление. Одно за другим последовали восстания 12 жерминаля и 1–4 прериаля.
В требованиях, выдвинутых инсургентами в жерминале и прериале, явно прослеживается преемственность с лозунгами санкюлотов II года Республики. Когда 12 жерминаля восставшие ворвались в зал заседаний Конвента, на тульях шляп у многих из них были написаны слова: «Хлеба и конституцию 1793 г.».
Движение санкюлотов обладало автономностью по отношению к якобинцам, политической партии в наибольшей степени опиравшейся именно на санкюлотов. Даже народные восстания 10 августа 1792 г. и 31 мая – 2 июня 1793 г., обеспечившие переход власти: первое – в руки жирондистов в блоке с якобинцами, второе – непосредственно в руки якобинцев, подготавливались и осуществлялись с согласия якобинцев, по вне их реального практического руководства{207}. Выступления же 4–5 сентября 1793 г. имели целью оказать давление на власть, т. е. на Коммуну, Конвент и комитеты – органы, находившиеся под контролем якобинцев. Наконец, в жерминале и прериале, в период нисходящего развития революции, инсургенты-санкюлоты действовали уже исключительно на свой страх и риск.
Тезис об автономности движения санкюлотов по отношению к якобинцам предполагает и определенную самостоятельность санкюлотской идеологии. Родившаяся в эпоху кризиса религиозного сознания, оказавшегося неспособным аргументировать необходимость установления политического государства буржуазии, идеология как форма отражения действительности охватывает прежде всего сферу политико-правовых отношений. Смысл ее существования и смысл ее специфики – оправдание претензий (реализуемых или уже реализованных) той или иной социальной группы на власть. Идеология отнюдь не относится к элитарным, скрытым формам общественного сознания, в ней всегда заложена неистребимая страсть завоевания новых адептов. Интерпретация ее редко является делом свободного творчества, гораздо чаще за правильностью интерпретации следит специальный аппарат, представляющий собой одну из важнейших составных частей политического движения, партии или государства.
При изучении духовных предпосылок становления санкюлотской идеологии следует обратиться к дореволюционным временам. Например, к «мучной войне» 1775 г., когда отцы участников революции, а частично и сами будущие санкюлоты требовали установления твердых цен – максимума на хлеб и муку. Идеи жесткого регулирования экономики, государственного или муниципального контроля над колебанием цен пронизывали многие выступления городского плебейства конца XVIII в. От этих идей рабочие, мелкие ремесленники, лавочники не отказались даже в период наибольшего упоения словом «свобода» в 1789–1791 гг. А в 1792 г. движения «таксаторов» развернулись уже в полную силу. Бедняки в таксации цен видели единственное средство сделать доступными для них простейшие предметы потребления.
Одновременно они пытались доказать органичность таксации новому революционному порядку. «Гнусные скупщики и подлые капиталисты нам заявляют, что конституция утвердила принцип свободы торговли. Так ли это?.. Не говорится ли в четвертом параграфе Декларации прав человека: «Свобода допускает совершение любых деяний, кроме тех, что наносят ущерб другому человеку», – и не гласит ли параграф шесть: «Закон не в праве защищать действия, направленные во зло другому человеку…» А теперь мы вас спрашиваем, законодатели, наши представители, разве не причиняется зло теми, кто скупает продукты затем, чтобы потом перепродать их как можно дороже?» – обращались к законодателям в январе 1792 г. члены парижской секции Гобеленов{208}. Ссылками на Декларацию прав человека и гражданина будущие санкюлоты обосновывали свои экономические требования, из которых постепенно вырастала целая экономическая программа, которая явится составной частью их идеологии.
Хорошо известно, что экономические устремления мелкого люда даже наиболее демократично настроенные якобинцы{209} вплоть до весны 1793 г. считали ложными и незаконными. Только в конце апреля – начале мая 1793 г. якобинцы поддержали требования плебейства об изъятии из обращения звонкой монеты и введения максимума цен{210}. А еще в феврале находившаяся под их влиянием Коммуна подавила попытку самочинного установления максимума. Экономические воззрения якобинцев менялись под воздействием санкюлотского насилия. Правда, якобинцы в отличие от жирондистов (которые ввели первый максимум, но не добивались его осуществления) действительно сумели осознать необходимость регулируемой экономики в условиях острейшего кризиса. Жирондисты, уступив на миг силе, остались в душе непоколебимыми сторонниками свободной торговли.
Отличия между идеологией якобинизма и идеологией санкюлотов имелись и в области политико-правовых представлений. Одно из важнейших отличий – отстаиваемая концепция демократии: якобинцы являлись последовательными приверженцами норм парламентской демократии (лишь изредка и с опаской признавая нормы прямой), санкюлоты – сторонниками прямого народоправства.
Что касается идей и практики прямой демократии времен революции, то их истоки следует искать не в античной древности и даже не в трудах Ж.-Ж. Руссо. Парижские простолюдины, толпами стекавшиеся в Пале-Руаяль летом 1789 г., вряд ли задумывались о том, как голосовали в Афинах или Спарте; немногие из них и слышали-то эти названия. Практика прямой демократии рождалась в крике, шуме, порой в потасовках. Обрушившийся на людей режим свободы слова позволял экспериментировать всласть. И люди творили, не задумываясь о формах, в которых воплощалось их политическое творчество. Был Пале-Руаяль: его сады, галереи, беседки. Накричавшись до хрипа, отсюда отправлялись простолюдины к Бастилии и в Национальное собрание, в Якобинский клуб и к Арсеналу за оружием… Шли добиваться осуществления принятых ими решений, прямая демократия подразумевала и прямое действие… Такую же роль, как Пале-Руаяль, спорадически играли рынки и просто очереди у магазинов.
К идее, что народ должен сам решать свою судьбу, французские простолюдины пришли стихийно. 14 июля 1789 г., 5–6 октября того же года, а также в ходе других бесчисленных выступлений в городах и деревнях они кардинальным образом меняли социальный и экономический облик своей страны. В теориях Руссо рабочий люд плохо или вообще не разбирался. Но сама действительность наталкивала теперь простых людей на мысли, которые ранее были впервые во Франции провозглашены великим философом. Действие во многом предшествовало теории. Такое часто случается в бурные периоды революции. Идеологию создавали массы, точнее, их безвестные таланты, авторы петиций, прошений, эфемерных брошюр; профессиональные идеологи шли впереди их на полшага, а подчас и тащились у них в хвосте. Действия совершались под влиянием чувств страха, голода, ненависти. Лишь впоследствии революционно настроенные мастера и подмастерья, лавочники и рабочие поняли, что так и должно быть, что именно они и должны определять: каким образом должна развиваться Франция, какой политический строй ей более всего подходит.







