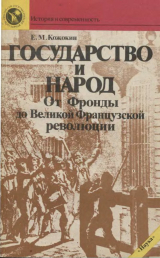
Текст книги "Государство и народ. От Фронды до Великой французской революции"
Автор книги: Евгений Кожокин
Жанры:
Государство и право
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Последний сигнал к выступлению дала сама контрреволюция. 1 и 3 октября в Версале были устроены празднества в честь роялистски настроенных офицеров Фландрского полка. Во время банкета в порыве верноподданнических чувств офицеры срывали трехцветные национальные кокарды и прикрепляли белые королевские. Особую враждебность к революции продемонстрировал отряд королевских телохранителей. Слухи о банкете взбудоражили парижский люд.
Ранним утром 5 октября неизвестные лица ударили в набат{160}. Приблизительно в то же время на одном из парижских рынков собралась большая толпа женщин вокруг маленькой девочки, которая громко стучала в барабан, висевший у нее на шее, и пронзительным детским голосом жаловалась на нехватку хлеба. Скопление народа и особенно женщин наблюдалось и в Сент-Антуанском предместье. Эти толпы объединились и двинулись к ратуше. Чины городской администрации оказались захваченными врасплох. Женщины с парижских рынков и из предместий ворвались в ратушу. Они требовали оружия и боеприпасов. Не получив желаемого, они отправились на Гревскуто площадь. Там к ним присоединился Ст. Майар, один из героев штурма Бастилии, с отрядом «волонтеров Бастилии». И уже в этом составе пестрая колонна – рыночные торговки, жены работников и даже «женщины из общества» – двинулась в Версаль.
К вечеру, запыленные и усталые, они добрались до Версаля. Изумленным депутатам Национального собрания пришлось выслушать резкую петицию, зачитанную Майаром. Смысл ее сводился к двум требованиям: обеспечить снабжение столицы хлебом и наказать королевских телохранителей за оскорбление национальной кокарды. Депутаты один за другим уверяли проникших в зал бунтовщиков в том, что их требования будут выполнены.
Тем временем в Париже, на Гревской площади, собрались отряды Нациопальпой гвардии. Лафайет, выгадывая время, произносил длинные речи; в конце концов под давлением собственных подчиненных он отдал приказ отправляться в Версаль.
Прибыв на место, национальные гвардейцы прекратили столкновения между дворцовой охраной и парижским людом. Но ситуация оставалась взрывоопасной. Национальные гвардейцы, хотя и стремились избежать кровопролития, были настроены решительно: потеряв целый день, они не хотели возвращаться в Париж без короля. Работники же откровенно заявляли, что если король не поедет в Париж, а все его телохранители не будут перебиты, то голову Лафайета придется вздернуть на пику.
Чтобы утихомирить страсти, король и королева в сопровождении Лафайета вышли на дворцовый балкон. Толпа восторженно приветствовала монарха, и в то же время из тысячи глоток единым дыханием вырвался крик: «В Париж!»
Спустя некоторое время по дороге из Версаля в Париж двигались королевские экипажи с эскортом из Национальной гвардии и торжествующих успех парижанок.
* * *
Революция шла полным ходом. Структуры государства и гражданского общества стремительно обретали буржуазный характер. Классовость законодательной деятельности Национального собрания была совершенно однозначной. Контраст с двойственной, постоянно колеблющейся политикой абсолютной монархии получался разительный. В ходе революционных преобразований радикальнейшим образом решался конфликт между государственной властью и гражданским обществом: механизм противоборства заменялся механизмом четкого взаимодействия, а в структурном плане – органического взаимопроникновения.
В рамках старого порядка буржуазия вынуждена была искать формы объединения в неполитических организациях: академиях, масонских ложах, различного рода культурных и научных обществах. Воздействие на принятие политических решений осуществлялось опосредованно – через парламент, легальную и подпольную печать, путем целенаправленного коррумпирования государственного аппарата. Все это каналы воздействия ненадежные и малоэффективные, окончательное принятие решения в любом случае ускользало от контроля буржуазии.
Часть буржуазных элементов продолжала входить в корпорации, другая часть относилась к дворянскому сословию, соответственно и первые и вторые использовали специфические, традиционные формы диалога с королевской и местной властью. Общность интересов буржуа впервые совершенно отчетливо проявилась в ходе составления наказов и выборов депутатов в Генеральные штаты. До этого сам характер политической системы старого порядка предопределял выпячивание на первый план противоположных частных интересов различных региональных, профессиональных, сословных, конфессиональных группировок буржуазии.
Захват государственной власти в 1789 г. способствовал консолидации буржуазии как класса. Внутренние противоречия буржуазии не исчезли, но они были теперь сведены в систему, которая как единое целое противостояла двум бывшим первым сословиям и королевской власти.
Первичные собрания избирателей, муниципалитеты, дистрикты, департаментские власти, Национальное собрание – взаимосвязанные органы, составлявшие государство и его гражданскую основу, все они находились с 1789 г. под контролем буржуазии, более того, буржуазия составляла их плоть и мозг.

Контрабандист Луи Мандрен

12 июля 1789 года.
Камилл Демулен призывает народ к оружию

Заседание революционного комитета. II год Республики

Поход на Версаль 5 октября 1789 года
Дворянство с формально-юридической точки зрения также служило социальным наполнителем этой системы. По своему имущественному положению подавляющее большинство дворян обладали избирательными правами, могли входить (и входили) в муниципалитеты, законодательный корпус и другие органы новой власти. Казалось бы, овладев правилами новой политической игры, используя свое еще немалое экономическое могущество и преобладающее влияние в таких государственных институтах, как армия, полиция, большинство министерств, дворянство могло вполне успешно отстаивать свои интересы. Но как в рамках старого порядка формирующийся класс буржуазии, играя по правилам, неизбежно проигрывал дворянскому сословию, так и в новых условиях распадающееся дворянское сословие должно было с неменьшей неизбежностью проигрывать классу буржуазии. В итоге дворянство сделало ставку не на интеграцию в буржуазную политическую систему, а на реставрацию прежней дворянско-абсолютистской. Главным инструментом реставрации, ее основной движущей силой должна была послужить королевская власть. Из потрясений первого года революции королевская власть по сравнению с другими политическими институтами старого порядка вышла с наименьшими потерями. Полномочия короля оставались чрезвычайно широкими: право приостанавливающего вето на срок двух легислатур, неограниченное право назначения министров, наконец, 25-миллионный цивильный лист. Глава обновленной французской монархии обладал властью, серьезно урезанной с точки зрения самодержца абсолютистского государства XVIII в., и властью, почти безграничной с точки зрения конституционного монарха XIX в.
Перед лицом столь мощной исполнительной власти, к тому же постоянно подталкиваемой дворянством к государственному перевороту, лидеры буржуазии не могли не чувствовать хрупкость создаваемой ими политической системы. Складывалась противоречивая ситуация: с одной стороны, нормальное буржуазное хозяйствование требовало на раннем этапе развития капитализма устранения с политической арены народных масс, с другой – поддержка крестьянства и плебейских элементов города была совершенно необходима буржуа. Эта объективная двойственность политических кадров буржуазии в отношении к «мелкому люду» обусловила и колебания, и непоследовательность в деятельности Учредительного, Законодательного собраний и других новых органов власти.
Благодаря походу на Версаль, повлекшему за собой переезд королевской семьи и Учредительного собрания в Париж, перевес сил в пользу буржуазии обозначился довольно явно. Тут же значение поддержки парижского мелкого люда стало падать в глазах либералов-конституционалистов, ведущей политической силы в Учредительном собрании и в стране. Среди буржуа-патриотов высказывалось даже мнение, что общественную активность простолюдинов следует уже не направлять в нужное русло, а полностью прекратить. Следуя этой логике, уже к концу 1789 г. рабочих и массу мелких собственников вновь вытеснили из сферы национальной политики. Под предлогом их неучастия в уплате налогов декретами октября – ноября 1789 г. их отстранили от участия в выборах во все местные и центральные органы власти.
В то же время, исключив бедняков из «pays legal», политические деятели буржуазии отнюдь не решили предоставить массу неимущих самим себе. По мысли не только демократов, но и либералов-конституционалистов, просвещение и политическое воспитание должны были в перспективе из союзника спонтанного, малоуправляемого и потому опасного сделать дисциплинированную наемную армию буржуазии, беспрекословно исполняющую ее волю как при решении хозяйственных, так и политических проблем. Но подход к политическому воспитанию масс у либералов и демократов существенно различался. Первые представляли его как постепенный, очень длительный процесс, в котором себе либералы отводили роль пастырей-культуртрегеров, а «темным» массам – роль пассивных слушателей. Демократы больше полагались на обучение на практике, практика же, по их мысли, должна была не только обеспечить просвещение масс, но привести самих демократов к власти. Для них политическая активность народа являлась одним из важнейших условий их собственного политического триумфа.
* * *
После событий 5–6 октября обстановка в Париже несколько разрядилась. С ноября улучшилось снабжение города хлебом. В то же время укрепившиеся новые власти беспощадно пресекали всякие попытки волнений. С одной стороны, репрессии, закон о военном положении вселили страх и неуверенность в недовольных, с другой – многие были уверены, что Учредительное собрание сделает все необходимое для всеобщего благоденствия.
Париж будто вновь обрел свой прежний, дореволюционный вид. Аристократы устраивали балы и приемы. По вечерам светились огнями театры. В квартале Сент-Оноре число роскошных экипажей если и убавилось, то не очень заметно. Парижские магазины поражали воображение обилием и разнообразием товаров. Приехавший в декабре 1789 г. из Бордо студент писал родителям: «Какая роскошь! Богатство, выставленное напоказ в бесчисленных лавках, ослепляет глаза, уставшие от созерцания всего этого великолепия!»
К весне 1790 г. социальная структура высших классов почти не изменилась: эмиграция была еще незначительной. Правда, теперь в официальных бумагах дворяне назывались «буржуа», но, потеряв титулы, они сохранили имущество, а нередко и посты в администрации. Впоследствии, анализируя ход революции, не лишенная проницательности светская дама писала: «…после великих бурь наступали периоды спокойствия, и это более всего вводило нас в заблуждение. Если бы ужасные события развивались непрерывно, люди (имеются в виду дворяне-контрреволюционеры. – Е. К.) собрались бы с силами и, возможно, в конце концов даже победили бы, но так как, преодолев первые препятствия, поток замедлял свое течение, мы расслаблялись, питая надежду, что все закончилось, и… забывали принять необходимые меры предосторожности»{161}.
Власти, юридические порядки были новые, для рабочего же человека мало что изменилось. Оттесненные в духовное гетто сугубо материальных интересов, рабочие, даже подавая робкие протесты против своего полного политического бесправия, подчеркивали свою абсолютную лояльность по отношению к Учредительному собранию и новым вождям нации. Рабочие Сент-Антуанского предместья в петиции от 13 февраля 1790 г. униженно просили даровать неимущим гражданам право голоса и одновременно обложить их прямым налогом в 35 ливров в год (уничтожив при этом косвенные налоги). Обращались они к законодателям не как равные к равным: «Ваши законы для нас – оракулы самой мудрости» или «Если ваша мудрость сочтет нужным благоприятно отнестись к нашей просьбе, мы будем счастливы… Если произойдет обратное, законодатели, наше непоколебимое усердие будет лишь более активным и более гражданственным; вы всегда увидите в нас своих усерднейших защитников». В другой петиции от 9 сентября 1790 г. рабочие Сент-Антуанского предместья заявляли о своей преданности «собранию, королю, всем гражданским и военным начальникам, и особенно генералу Лафайету»{162}.
II тем не менее с конца осени 1789 до лета 1791 г. революционный процесс хотя и замедлил свой ход, но не остановился.
В некоторых провинциальных городах рабочих допускали в Национальную гвардию: вначале многие из них устремлялись в ее ряды по той простой причине, что время, затраченное на патрулирование города, оплачивалось им как рабочее. А ходить с ружьем по улицам менее утомительно, чем стоять у станка или верстака. Но не только сугубо экономические мотивы привели работников в Национальную гвардию: многим казалось, что революция дала им шанс вырваться наконец из рутины повседневности, дала шанс шагнуть в иную жизнь, и тогда вступление в Национальную гвардию обретало уже политический, мировоззренческий смысл; тогда становится понятным, почему рабочие будут не только нести патрульную службу, но и с готовностью отправятся впоследствии в опасные походы в Вандею и Бретань на подавление мятежей{163}. Среди неимущих постепенно выкристаллизовывалось политически активное меньшинство. Многие же простолюдины предпочитали не лезть в политику без особой надобности. В ту же Национальную гвардию далеко не все стремились записаться.
18 июня 1790 г. Учредительное собрание приняло закон, который исключал пассивных граждан из состава Национальной гвардии, наоборот, все активные объявлялись обязанными нести в ней службу, если желали сохранить свои гражданские права. Вскоре выяснилось, что для многих гражданские права не такая уж большая ценность. В Боже более 85 % активных граждан из числа земледельцев не записались в Национальную гвардию, у ремесленников и торговцев таких оказалось 33 %, у состоятельных буржуа – 27 %. В Сомюре земледельцы были не столь индифферентны – лишь 25 % добровольно расстались с гражданскими правами, среди ремесленников и лавочников 27 % не записались в гвардию, среди буржуа – 21 %, среди наемных рабочих – 52 %{164}. Даже в эпоху революции народ надо было приобщать к политике, объяснять ее смысл и значение.
В Париже особую роль в политическом просвещении плебейских масс играл Клуб прав человека и гражданина, более известный под названием Клуба кордельеров. Чтобы стать его членом, достаточно было платить 2 су в месяц, но на заседания допускались и вовсе неимущие, которые не могли заплатить даже эту скромную сумму. В хартии кордельеров, принятой 27 апреля 1790 г., говорилось, что главная цель клуба – выявлять злоупотребления властей, вскрывать различные нарушения прав человека и подвергать их суду общественного мнения{165}.
Весной 1790 г. в Париже возникло первое братское общество – объединение, еще более демократическое по составу, чем Клуб кордельеров. Его основал безвестный учитель пансиона Клод Дансар; он собирал в библиотеке монастыря якобитов (там же, где заседал и Якобинский клуб), ремесленников и разносчиков фруктов и овощей своего квартала с их женами и детьми, чтобы читать и объяснять декреты Национального собрания{166}. Лишь на десятый месяц существования братского общества одна из парижских газет поместила о нем заметку. К тому времени были созданы еще два объединения подобного же рода: Общество друзей секции Библиотеки и Общество победителей Бастилии. К лету 1791 г. таких обществ в Париже насчитывалось уже более десяти, получили они распространение и в провинции. В городах Франции к 1792 г. от 2 до 8 % мужского населения было охвачено сетью этих демократических организаций{167}.
В Париже в большинстве своем они следовали политической линии Клуба кордельеров. А именно на заседаниях этого клуба подвергались критике кумиры, ниспровержения которых требовал дальнейший ход развития революции. Когда Лафайет подал в отставку с поста главнокомандующего Национальной гвардией, многие секции обратились к нему с петициями, умоляя остаться. Кордельеры осудили сервильный дух этих петиции, неразумное превознесение достоинств честолюбивого генерала. Они не простили Барнаву его выступления в защиту сохранения рабства в колониях. Они поддержали суровые филиппики Марата против Мирабо, обвинившего знаменитого трибуна в продажности и предательстве{168}. Благодаря Демократической прессе и брауским обществам сказанное на заседаниях Клуба кордельеров расходилось по всему Парижу. Закрадывавшиеся в умы простолюдинов сомнения находили подтверждение и поддержку. Незыблемые еще недавно авторитеты подвергались эрозии. Путь оказывался свободным для дальнейшей радикализации сознания, для поиска новых лидеров.
Братские общества и клубы являлись не только центрами пропагандистской деятельности, постепенно они все более обретали значение организующего начала народного движения. Те члены или даже лидеры общества, которые хотели ограничиться политико-просветительской работой, оказывались вне их рядов. Так, К. Дансар в марте 1791 г. был вынужден покинуть общество, им самим созданное. Избавлялись демократические организации и от людей, в том числе неимущих, которые за деньги, в силу прочно укоренившихся иллюзий или просто мечтая о возвращении любой ценой общественного спокойствия, поддерживали Лафайета и других «умеренных». Проводя большую чистку своих рядов в декабре 1790 г., Общество победителей Бастилии прямо объявило, что чистка направлена против тайных агентов Лафайета.
В мае 1791 г. под председательством редактора газеты «Меркюр насьональ» республиканца Франсуа Робера был создан Центральный комитет народных обществ. В середине июня ЦК обратился к Национальному собранию с адресом, в котором выразил требование отменить деление граждан на «активных» и «пассивных»; адрес подписали председатели 13 братских обществ.
Два принципа лежали в основе объединения людей в народных обществах: территориальный и политический. В каждое общество входили преимущественно граждане одного квартала. Все их члены придерживались приблизительно одних и тех же политических взглядов.
В ту пору политическими кумирами парижского простонародья, в том числе объединенного в братских обществах, были Мирабо, Робеспьер и Марат. Характеризуя этот политический синкретизм народных масс, Ж. Жорес писал: «В своем революционном сознании, более широком, чем все партии со всей их ненавистью, народ примирял все силы Революции: Мирабо, Робеспьера, Марата. Народные общества ставили бюст «неподкупного» Робеспьера рядом с бюстом Мирабо, обвиненного в продажности…»{169}
После событий 5–6 октября 1789 г. вплоть до февраля 1791 г. Париж не знал вспышек массового негодования.
Изменение политического сознания плебейских элементов происходило без эксцессов, мирно и «разумно». И казалось, процесс этот затрагивал лишь сравнительно небольшую часть граждан. Так, молодой H. М. Карамзин, путешествовавший в 1790 г. по Франции, писал: «Не думайте однако ж, чтобы вся нация участвовала в трагедии, которая играется ныне во Франции. Едва ли сотая часть действует, все другие смотрят, судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре»{170}. Казалось, быт и сознание широких масс очень мало изменились в начальный период революции. Монархические чувства французов оставались внешне неизменными, более того, Людовик XVI был даже популярен. С этим вынужден был считаться даже столь отважный человек, как Марат, не боявшийся выступать против самых различных «святых» и широко распространенных политических предрассудков. В феврале 1791 г., склоняя голову перед народным мнением, он писал о Людовике XVI: «По большому счету это именно тот король, что нам нужен. Мы должны благодарить небо за то, что оно нам его даровало»{171}.
Борьба с королевской властью в 1790 —первой половине 1791 г. часто принимала завуалированные формы. Нередко политический расчет, тонкий политический ход очень трудно отличить от искренних мнений и поступков людей. Вплоть до весны 1791 г. демократы редко осмеливались открыто выступать против института королевской власти и против Людовика XVI лично; их борьба приняла форму своеобразной заботы о короле. К стремлению максимально ограничить, в том числе путем народной «заботы», свободу действий короля примешивалось искреннее беспокойство демократов, что король может быть похищен аристократами и его имя и он сам будут использованы в контрреволюционных целях. Зимой 1790/91 г. эти опасения уже широко разделялись парижским населением.
В феврале 1791 г. распространился слух, что главная башня Венсеннского замка соединена с Тюильри подземным ходом, который будет использован для похищения или побега (возникло уже и такое подозрение) короля. Рабочий люд Сент-Антуанского предместья стал упорно поговаривать о необходимости разрушить эту проклятую башню. Патриотов возмущало, что Венсеннский донжон вновь, как и в старые времена, стали использовать в качестве тюрьмы.
28 февраля более тысячи рабочих под командованием офицера Национальной гвардии пивовара Сантера отправились в Венсенн. Но Лафайет с отрядом в 1200 человек воспрепятствовал разрушению донжона, он подверг Свитера дисциплинарному наказанию, а 64 участника похода на Венсенн были арестованы{172}.
Весной 1791 г. стали меньше говорить об угрозе похищения короля и все больше – о его планах бегства. 18 апреля народ и национальные гвардейцы не выпустили из Парижа королевское семейство, отправившееся на пасхальную мессу в Сен-Клу. Не помогли уговоры Лафайета, на них отвечали бранью и клялись, что не дадут королю уехать.
Помимо постоянно просачивавшихся новых сведений о действительно готовившемся побеге королевского семейства, плебейство Парижа весной и в начале лета 1791 г. волновали нехватка звонкой монеты и развивавшаяся на этой почве спекуляция. Так, утром 3 июня 1791 г. несколько женщин и около 150 рабочих столпились на тротуаре улицы Вивьен, почти напротив пассажа Радзивил, где по вечерам большие деньги спускались в бириби, модную в то время азартную игру. Рабочие возмущались: их труд оплачивался ассигнатами[1], которые невозможно было реализовать по номинальной стоимости. Потери составляли до четверти зарплаты. Проходимцы же из пассажа Радзивил загребали звонкую монету, а потом ее продавали несчастным, живущим честным трудом. Услышав эти жалобы, человек в серой с красным куртке и помятой шляпе предложил: «Так как муниципалитет и Национальная гвардия ни черта не делают, надо самим навести порядок – разнести воровскую лавочку, – с этими словами он поднял над головой трость. – И если за мной последуют, я готов встать во главе, выгнать всех мерзавцев и вздернуть их, если они вздумают сопротивляться». Какой-то кожевник возразил энергичному незнакомцу, что это неподходящий способ добиваться справедливости, лучше обратиться к законным властям и донести им на мошенников. Большая часть рабочих с ним согласилась{173}.
О финансовых аферах и спекуляции на ассигнатах постоянно говорили в Пале-Руаяле, продолжавшем и в 1791 г. играть роль общественного центра Парижа. Но более всего парижан беспокоил все-таки готовящийся побег короля, именно по этому поводу разгорались особенно жаркие споры. Иной раз дело доходило почти до потасовок. Одни утверждали, что все это чепуха, ложные слухи, никуда король не собирается бежать, другие им тут же отвечали, что так могут говорить только люди, купленные Лафайетом{174}.
Хотя современники с достаточным основанием говорили про Людовика XVI, что он «обладал храбростью женщины в момент, когда она рожает», и сколько-либо серьезное решение королю было принять всегда чрезвычайно трудно, 20 июня 1791 г. Людовик XVI все-таки отважился на отчаянный поступок: он попытался тайно покинуть столицу своего королевства. Немного в истории найдется государственных деятелей, которые совершили бы шаг столь же катастрофический для своего дела и собственной судьбы.
Утром 21 июня три артиллерийских выстрела оповестили парижан о бегстве короля. Улицы заполнили возбужденные толпы, в местах наибольшего скопления людей появились отряды Национальной гвардии; демократические клубы, общества, секции заседали почти непрерывно. В некоторых секциях начали раздавать оружие рабочим и зачислять их в Национальную гвардию. Пассивные граждане пытались и самовольно захватывать оружие.
Те же парижские рабочие, которые совсем недавно в марте 1791 г. выражали искреннее беспокойство по поводу здоровья приболевшего тогда короля, теперь отпускали в его адрес выражения не из самых цензурных. От былой популярности вмиг не осталось и следа. Вполне в унисон с настроением парижского плебейства 22 июня Марат писал в своей газете: «С двух точек зрения Людовик XVI недостоин вновь вступить на трон: он либо опасный идиот, который должен быть низложен, либо опасное чудовище, которое надо задушить, если только хотят обеспечить общественную свободу и благо народа»{175}.
Клуб кордельеров 22 июня принял составленный Ф. Робером адрес к Учредительному собранию, в котором требовал «либо провозгласить немедленно, что Франция больше уже не монархия, что она республика, либо по крайней мере подождать, чтобы все департаменты, все первичные собрания высказались по этому важному вопросу, прежде чем во второй раз ввергнуть прекраснейшее государство в мире в оковы и цепи монархизма»{176}. Создавшаяся обстановка впервые за время революции позволила Роберу и его единомышленникам перейти от абстрактной пропаганды на тему желательности и теоретической возможности республиканского строя во Франции к формулированию политической республиканской программы.
И все же, несмотря на недоверие патриотически настроенных простолюдинов к Людовику XVI, летом 1791 г. республиканцам не удалось добиться преобладающего влияния среди парижских рабочих и мелких собственников, этой мобильной массы великих дней революции. Демонстрация на Марсовом поле (17 июля 1791 г.) закончилась трагически во многом потому, что сила была на стороне муниципальных властей. Лафайету, Байи, Национальной гвардии противостояло хотя и значительное, но все еще меньшинство активных участников революции (даже если принимать в расчет исключительно население Парижа).
Петиция, составленная Клубом кордельеров и возложенная 17 июля на алтарь отечества на Марсовом поле для сбора подписей, содержала основные пункты республиканской программы. До того как прибыла Национальная гвардия, расправившаяся с республиканской демонстрацией, около 6 тыс. человек подписали петицию. Значительная часть подписей принадлежала малограмотным людям, а множество крестов на ней оставили и вовсе неграмотные{177}. После кое-кому из арестованных демонстрация на Марсовом поле виделась как выступление рабочих. Один чистильщик обуви, описывая сопротивление, оказанное вооруженной силе, говорил исключительно о рабочих. Арестованный портной обвинял Национальную гвардию, что она стреляла в рабочих, как по птицам{178}.
События на Марсовом поле еще долго служили предметом споров и столкновений. Даже в приличных кафе говорили, что во всем произошедшем виноваты муниципалитет и командующий Национальной гвардией{179}. Простонародье вообще не стеснялось в выражениях, высказываясь о предательских «синих мундирах». В начале августа в предместье Сент-Антуан арестовали владельца кабачка за рассуждения на тему, какие скоты национальные гвардейцы, раз они слепо повинуются своим начальникам. Три месяца спустя в тюрьму посадили грузчика-посыльного приблизительно за такого же рода высказывания{180}.
Расстрел на Марсовом поле, с одной стороны, обнаружил, что перевес сил все еще сохранялся за либеральными монархистами, с другой – он ускорил их крах как политической партии. Лафайет и другие фейяны уже давно не вызывали особых симпатий у парижских рабочих и мелких собственников, теперь же, после расстрела безоружных демонстрантов, ненависть к ним не скрывали. Бывшее третье сословие раскололось не только по социально-экономическому, но и по политическому признаку.
Недовольство установленными властями с логической последовательностью подталкивало людей с большим вниманием отнестись к политическим оппонентам Лафайета, Байи и их единомышленников. Увеличивалось число республиканцев, и их пропаганда находила все более сочувственный отклик. Наряду с голосами известных сторонников республиканского строя – Робера, Демулена, Кондорсе – теперь раздавались голоса десятков их недавно обращенных последователей и сторонников.
В первые годы революции у французов, и особенно парижан, быстро сложилась привычка высказывать вслух свое мнение по любому политическому вопросу. И вот летом и осенью 1791 г. на улицах Парижа, в садах Пале-Руаяля и Тюильри, в кафе все чаще стали звучать республиканские речи. Власти были бессильны бороться с этой спонтанной и даже непреднамеренной агитацией. Хроникер повседневной политической жизни, газета «Бабийяр» то и дело сообщала о случаях подобной агитации.
В Септ-Антуапском предместье расклеивались афиши, в которых неизвестный автор призывал народ повесить короля, королеву и все их семейство. Полиции удалось арестовать расклейщика, им оказался юный ученик сапожника, которому хозяин поручил это дело{181}. В одном из кафе республиканские идеи попробовал пропагандировать депутат колониального собрания острова Гаити, по завсегдатаи на него зашикали, и он вынужден был ретироваться{182}. По-иному развивались дискуссии на улице, где нередко в них вмешивались рабочие, обеспечивая перевес одной пз сторон не только своими логическими построениями, по и другими способами. Осенью 1791 г. обозначился переход значительной части парижских рабочих на позиции республиканизма. В этом отношении характерна сцепка, описанная газетой «Бабийяр». События развернулись перед афишей «Крик петуха», имевшей либерально-монархическое содержание. Кто-то из добропорядочных граждан отметил, что «петух» может уже не столь усердствовать, защищая монархию, республиканцы более не смеют высовываться. На что другой гражданин в круглой шляпе ему тут же возразил: «Республиканизм в сердцах всех патриотов, «штыки принудили его скрыться, но это ненадолго». (В это время к говорившим приблизилась большая группа рабочих.) «Я отлично понимаю, – продолжал человек в шляпе, – почему активные граждане любят «петуха» и короля. Монархия защищает состояния и предохраняет от народных выступлений. Но что за дело неимущим до правительства, которое заботится лишь о сохранении собственности, для них его деятельность бесполезна, а часто и опасна. Большинство людей отнюдь не являются собственниками, по суверенитет осуществляет именно большинство. Мы хотим правительства, которое поделило бы богатства между всеми людьми и на всех жителей страны в равной степени возложило бы общественные обязанности. Подобное может дать только Республика. Те, кто отстаивает монархию, – враги народа и равенства». Воодушевленный этими словами ребенок протянул руку, чтобы сорвать афишу, но ему помешали, а на оратора даже кто-то замахнулся тростью, но республиканца загородили рабочие. Оказавшийся вблизи патруль Национальной гвардии предотвратил столкновение{183}.







