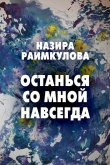Товарищ мой

Текст книги "Товарищ мой"
Автор книги: Евгений Долматовский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Норвежской патриотке Марии Эстрем
ДЕНЬ ПОЭЗИИ
Было все это далеко-далеко.
Берег фиорда. Пейзаж иностранный.
Темная кузница возле потока,
Крашенный суриком дом деревянный.
В хмурые горы уходит дорога.
Серые скалы да розовый вереск.
В долгом раздумье стою у порога,
Хоть и не заперты легкие двери.
Встречусь я нынче с норвежкой, той самой,
Что именуется «русскою мамой».
Верю, еще будут созданы саги
Про оккупации страшные годы,
О человеке великой отваги,
Дочери этой суровой природы.
...Скалы стояли в морозном полуде.
Был огорожен фашистами берег.
Пригнаны были советские люди —
Узники, пленники – в лагерь под Берген.
Тяжко пришлось им, бойцам непокорным,
Их убивали – но только не пулей,
Холодом белым
Да голодом черным.
Но не согнули их!
Нет, не согнули!
Вдруг появилась откуда-то помощь:
Чьи-то – видать материнские – руки
Хлеб разложили в крещенскую полночь
Там, где их утром погонят на муки.
Кто-то носил им бинты и одежду,
В горькие души вселяя надежду.
Кто-то ходил по поселкам окрестным,
Для заключенных еду собирая.
Имя той женщины стало известно:
«Русская мама»...
Так вот вы какая!
Тихая, строгая, словно сказанье,
Плечи укутаны клетчатым пледом.
Нас усадив, продолжая вязанье,
Старая фру начинает беседу:
«Кофе хотите?»
«Спасибо, не надо!»
«Что вы, так можно норвежку обидеть.
Очень я гостю советскому рада,
Редко теперь вас приходится видеть.
Нас разделяют границы и дали.
Помню: мечтая о вашей победе,
Всем, чем могли, мы друзьям помогали —
Муж мой, и я, и, конечно, соседи».
Тихо мерцают поленья в камине,
Воет в трубе атлантический ветер.
Ждал ли, гадал я на дальней чужбине
Эту чудесную женщину встретить?
Тут у меня на душе заштормило
Так, что озноба унять не могу я:
Правда, все добрые матери мира
Очень похожи одна на другую?
Что замолчал, загрустил переводчик,
Русский язык изучавший в Дахау?
Старая фру вспоминает про дочек:
«Трудно мне... Может быть, мать я плохая.
Три мои дочки противиться стали,
Мать осуждали спокойствия ради.
Сердце от этого вечно в печали —
Наша семья и поныне в разладе.
Гостю я все рассказала, пожалуй,
Уж извините, что не по порядку.
После победы, когда уезжали,
Русские дали мне эту тетрадку.
Вот посмотрите».
Тетрадку раскрыл я.
Сколько здесь рук расписалось упрямых,
Начаты строки, крутые, как крылья,
Все с обращения – «русская мама».
Русская мама!
Позвольте мне тоже
Несколько слов написать вам на память.
Образа нету на свете дороже,
Я, словно с матерью, встретился с вами.
Только найти бы святые слова мне,
В мужестве вашем великом уверясь...
Розовый вереск, растущий на камне,
Серые скалы да розовый вереск.
1954
ОЛИВЫ
Сегодня День поэзии в Москве.
Участвовать мне надо в этом деле.
Но я встречаю медленный рассвет
В далеком шумном городе Марселе.
Иду в берете, трубочкой сипя,
Не отличаясь внешне от француза,
И только повторяю про себя:
«Я гражданин Советского Союза».
Присяги нашей главные слова
В разлуке для души необходимы —
В них жизнь, борьба, поэзия, Москва,
И встреча, и прощание с любимой.
Вокруг меня бушует старый порт,
Торгует женской честью, скользкой рыбой,
Тяжелого линкора темный борт
На рейде высится угрюмой глыбой.
Куда корабль отчалит через час?
Но гость не должен спрашивать об этом.
Сегодня День поэзии у нас,
Сто магазинов отдано поэтам.
Они торгуют книжками, они
Читают, отвечают на вопросы.
Но почему средь праздничной возни
Звучат стихи, унылые, как осень?
Товарищи! Соперники! Друзья!
Пусть к вам в Москву за книжные прилавки
Тревога прорывается моя:
Линкор уже готовится к отправке,
А мы в стихах не много ль развели
Дешевых воздыханий и печали,
Как будто все бои давно прошли,
Орудия и трубы отзвучали?
На нашей стороне – мечты, любовь,
Но для того, чтоб миру стать счастливым,
Как парус ветром, должен стих любой
Наполниться присягой и призывом,
1956
РАБОЧИЙ ПАТРУЛЬ
Через Альпы зимою прорвался
В теплый край ураган ледяной,
И померзли оливы в Провансе,
Покорежились все до одной.
Ветви их, как сожженные руки,
Словно черные кости скелета,
Простираются в горе и муке
Средь цветенья приморского лета.
Здесь я гость, человек посторонний,
Нет мне дела до этих олив,
Что стоят на Гаронне и Роне,
Снегом ветви свои опалив.
Но печалюсь я, честное слово,
О садах, как о самом родном:
Для советского сердца
Чужого
Нету горя на шаре земном.
Все ищу, где привился росточек,
Где зеленый пробился листочек
И покуда к французским оливам
Не вернется цветенье опять,
Не хочу, не могу быть счастливым...
Жаль, что этого им не понять!
1956
В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ
Апрельские ночи теплей и теплей.
Я слышу все реже шаги патрулей
На улицах Буды и Пешта.
Вот два добровольца в фонарных лучах.
Сидит мешковато на грузных плечах
Рабочая их спецодежда.
Квартал задремал – или кажется мне?
А может быть, кольт на широком ремне
Рождает спокойствие это?
Нежны и прозрачны листки тополей.
Как сердцебиенье – шаги патрулей,
Шаги патрулей до рассвета.
Мы были беспечны. В который-то раз
История учит, улыбчивых, нас,
Что жить припеваючи – рано:
На стенах, как оспа, следы мятежа,
Разбитые стекла, как отблеск ножа,
Проломы зияют, как рана.
Нельзя забывать ни измен, ни потерь.
«Товарищ! Мои документы проверь,
Как требуют ваши уставы».
Патрульный; угрюмый и немолодой,
Советский мой паспорт кладет на ладонь...
И вдруг улыбнулся устало.
Суконную кепку он тронул рукой, —
И вспомнил я сразу, что в кепке такой
Ходил наш учитель, наш гений.
Не дав моей мысли сложиться в слова,
Так тихо и чисто, что слышно едва,
Сказал он, как выдохнул: «Ленин!»
Теперь на народ не удастся напасть —
На страже рабоче-крестьянская власть,
Оружье держащая крепко.
В садах абрикосы уже зацвели...
По улицам Пешта идут патрули
В спецовках и ленинских кепках.
1957 Будапешт
ПАРЛАМЕНТЕР В БУДАПЕШТЕ
Центр Европы здесь
А может, где-то рядом.
Разоделся Будапешт в сады.
Семь часов езды отсюда до Белграда,
И до Вены шесть часов езды.
И на Прагу и на Киев есть дорога.
Центр Европы – что ни говори.
Улицы, расчерченные строго,
Ночью – многоточьем фонари.
Шел я этою страной однажды,
На проспекте главном встретил дом.
Весь обвитый виноградом, трехэтажный,—
Жизнь своя течет спокойно в нем.
На зеркальных окнах занавесок кружево,
На фасаде надпись, как на обелиске:
«Дом проверен. Мин не обнаружено.
Младший лейтенант Борискин».
Сорок пятый год. Скажи на милость.
Как на камне надпись сохранилась!
Не решаюсь постучаться в двери —
Пусть живут здесь люди как хотят.
Младший лейтенант Борискин дом проверил,
Не ища почета и наград.
О Борискине иные позабыли,
Я не знаю, жив он иль погиб,
Только эта надпись остается в силе,
В центре города,
Под сенью старых лип.
1957
ДУНАЙ
Я был бы рад не помнить горе,
Смотреть с улыбкою вперед,
Но память о парламентере
Мне днем и ночью сердце жжет.
Его Остапенкою звали,
Он был в пехоте капитан.
Друг друга раньше мы не знали,
Шли по дорогам разных стран.
Но этот образ помню свято.
Так наши судьбы сплетены,
Как будто потерял я брата
Тогда, в последний год войны.
Под Будапештом окруженным
Стояли русские бойцы.
Там чьи-то матери и жены,
Там чьи-то дети и отцы.
И чтоб остались живы люди,
Туда, где притаился враг,
Остапенко идет по Буде,
Подняв не красный – белый флаг.
Идет спокоен, безоружен,
С открытым молодым лицом.
Он тоже сыном был и мужем,
И не успел он стать отцом...
Упал на камень мостовой
С пробитой русой головой.
...Он встал над виллами окраин,
На стыке города и гор,
Венгерским скульптором изваян,
Советский наш парламентер.
И символом всего живого
Стоял у мира на виду,
Но должен был погибнуть снова
Здесь в пятьдесят шестом году.
Над этой безоружной бронзой
Глумился оголтелый сброд...
В последний раз взглянув на солнце,
Упал герой лицом вперед.
Пусть каждый день
И час мой каждый
Проверит мужеством своим
Парламентер, сраженный дважды,
Что и сейчас непобедим.
Наш честный путь тяжел, но ясен,
Враги стреляют в нас в упор,
Пусть белый флаг от крови красен,
Но вновь встает парламентер.
Навстречу заревам зловещим
На берегах далеких рек
Идет спасать детей и женщин
Бессмертный русский человек.
1957
СЛОНЫ
Для меня неожиданно ново,
Что Дунай не совсем голубой,
А скорее он цвета стального
И таков при погоде любой.
Лишь апрельская зелень сквозная
Отражается в темени вод.
Мимо пляжей и дач по Дунаю
Самоходная баржа плывет.
Вижу трепет советского флага
Над осевшею низко кормой.
Ровно дышит река-работяга,
Не замерзшая прошлой зимой.
Очень ласково, тихо и мирно
Борт смоленый ласкает волна.
«Что везешь из дунайского гирла?»
«Золотистые тонны зерна».
От избытка мы делимся, что ли,
Или русским нужны барыши?
Нет! Слилось ощущение боли
С широтою советской души.
Пусть враги за кордоном клевещут,
Отравляя эфир и печать.
Есть в семье очень сложные вещи,
Только братья их могут понять!
Мы дружить не умеем иначе,
Не бросаем на ветер слова!
...Слева, справа – нарядные дачи,
Берега, берега, острова,
Санаториев белые крылья
И мячей волейбольных полет...
Что поделать со страшною былью?
Пусть скорее быльем порастет!
...А на барже матросская женка
Что-то тихо поет про свое,
На мешки примостила ребенка
И в корыте стирает белье.
1957
ТАМТАМЫ
Средь пальм, к прибою чуть склоненных,
Как бы придя из детских снов,
Живут слониха и слоненок.
Как мало в Африке слонов!
Почти что все они погибли,
Остались эти сын и мать.
А как их истребили,
Киплинг
Вам может объясненье дать.
Лелеют серого слоненка,
Следят, чтоб он не занемог,
И мажут яркою зеленкой
Царапины на тумбах ног.
Над ним две школы взяли шефство.
Свежи бананы и вода.
Он во главе народных шествий
Шагает, хоботом водя.
На конференциях и съездах
В президиум ведут его,
Из рук начальства сахар ест он,
Увеселяя торжество.
На сцене топчется упрямо —
Его не просто увести.
И не нарадуется мама,
Что сын ее в такой чести.
1960
ПЛАНТАТОРЫ
Африканское небо в алмазах.
Занесла меня нынче судьба
В знойный мир нерассказанных сказок,
В окружной городок Далаба.
По дорожным змеиным извивам
Мчит автобус быстрей и быстрей.
Приглашенные местным активом,
Мы въезжаем в квадрат фонарей.
И сначала видны только зубы
Да неистовой страсти белки.
Эти люди мне издавна любы,
Как свобода и правда, близки.
Приглядись, как тверды и упрямы
Очи здешних парней и девчат.
И тамтамы, тамтамы, тамтамы,
Барабаны-тамтамы звучат.
Все ясней, все отчетливей лица
Проступают в тропической тьме.
В быстром танце идет вереницей
Детство, с детства знакомое мне.
Наяву это все? Иль во сне я
Пионерский салют отдаю?
В красных галстуках пляшет Гвинея,
На дорогу выходит свою.
Ожил здесь барабанщик, тот самый,
Что в сражениях шел впереди,
И тамтамы, тамтамы, тамтамы,
Как геройское сердце в груди.
Чуть спружинены ноги в коленях
И оттянуты локти назад.
В даль времен, и племен, и селений
Пионерский уходит отряд.
Проложили им путь сквозь века мы
В звонкий круг африканской весны,
И тамтамы, тамтамы, тамтамы
Всей планете сегодня слышны.
1960
ТИСВИЛЬСКИЙ УЗНИК
Я в первый раз живых плантаторов
Увидел, будь они неладны,
Вчерашних королей экватора,
Банановых и шоколадных.
В отеле маленьком под пальмами,
В тишайшей голубой саванне
От криков их всю ночь не спали мы:
Они резвились в ресторане.
Вопила дьявольская музыка,
Весь дом, как бы в припадке, трясся.
Под их ругательства французские
Я встал и вышел на террасу.
Мужчины в шортиках с девицами,
Растрепанными и худыми,
С остановившимися лицами,
Танцуют в сигаретном дыме.
Они кривляются под радио,
Бездарно подражая черным.
Здесь эта музыка украдена
И изуродована к черту.
А на диване перепившийся,
С прической, лоб закрывшей низко,
Король банановый, типичнейший,
Каких рисуют Кукрыниксы.
Еще карман хрустит валютою,
Еще зовут его «патроном»,
Но ненависть народа лютая, —
Как бочка с порохом под троном...
И так вот до рассвета позднего
Они орали, жрали, ржали,
Под апельсиновыми звездами
Свой век в могилу провожали.
Уже восток в лиловых трещинах,
Уже туман поплыл в низины.
Идут мимо отеля женщины,
Неся на головах корзины.
Идут красивые, веселые,
Переговариваясь просто.
Плывут фигуры полуголые,
Изваяны из благородства.
Тряслась терраса дома пьяного,
И от суровых глаз прохожих
Я отступил за куст банановый:
Мне стало стыдно белой кожи.
1960
Памяти П. Лумумбы
МОЕ ОРУЖИЕ
Не удалось мне встретиться с Вами,
Но образ Ваш ночью и днем со мной.
В рубашке с короткими рукавами,
С руками, скрученными за спиной,
Стоите Вы, голову вскинув гордо,
Вложив в презренье остаток сил,
В пробитом пулями кузове «форда»,
А может, то нами подаренный ЗИЛ...
В Тисвильский лагерь везут премьера,
Которым будет гордиться век.
Большая печаль и огромная вера
Светятся в щелках распухших век.
Еще страшнее, чем стон ребенка,
Молчанье раненого бойца.
Как ток, проходит трагедия Конго
Сквозь наши познавшие боль сердца.
Мне горько, что этой беды причина
Сердечность Ваша и добрый нрав.
Не раз история нас учила:
Нельзя быть мягким, когда ты прав.
У наших врагов, у продажных бестий,
Нет сердца. Нельзя их щадить в борьбе.
А Вы, черный рыцарь высокой чести,
Наивно судили о них по себе.
Известны миру полковники эти,
Хозяин один их берет внаем.
Они и в Венгрии и в Тибете
Нас в землю закапывали живьем.
Прикрывшись Вашим восторгом детским,
Они затаились, портфели деля,
Когда Вы в парламенте конголезском
Бельгийского прокляли короля.
Зачем были митинги на дороге,
Когда Вы ехали в Стэнливиль?
Бандиты подняты по тревоге,
Клубится погони красная пыль.
Следы танкеток вокруг – как шрамы,
Исправно выслуживается лакей.
В Брюссель и Нью-Йорк текут каблограммы:
Заданье выполнено. О’кэй!
Тюрьма – резиденция Ваша сегодня,
Терзает Вас голод и влажный зной,
И все же Вы в тысячу раз свободней,
Чем те, кто Вам руки скрутил за спиной.
Тисвильский узник в раздумье замер.
Держитесь! Истории ход таков —
Проверьте замки у тюремных камер,
Они сгодятся для ваших врагов.
1960
ЛЕЧУ В ХАНОЙ
Колониальный строй уже в агонии,
Лев стал беззуб и дряхл, все это верно.
Но мы с тобой пока еще в колонии
И чувствуем себя без виз прескверно.
Нас пятеро. Мы первые советские,
Ступившие на этот берег душный.
Аэродром. За ним лачуги ветхие,
И вид у пальм какой-то золотушный.
Встречает нас чуть не эскорт полиции.
Достойны ль мы подобного почета?
Черны мундиры, и чулки, и лица их,
И тут же штатских агентов без счета.
Недюжинное рвенье обнаруживая,
Один из них, картинно подбоченясь:
«А ну-ка, покажи свое оружие!» —
Бросает, мне, выпячивая челюсть.
Обидно за него, сержанта черного,
Такую злобу вижу здесь впервые.
Откуда это исступленье чертово?
Поверят ли в Москве, что есть такие?
Чего скрывать? В дорогу взял, конечно, я
Опасные свои боеприпасы:
Ему я предъявляю ручку вечную
С пером в броне из голубой пластмассы.
Смотри, гляди, мое оружье – вот оно.
С ним три войны прошел, четыре стройки.
Оно не куплено, оно не продано.
Как пули в цель, должны ложиться строки.
Средь полицейских агентов сумятица,
Не ожидали, что мы примем вызов.
Сержант наемный неуклюже пятится
И в наши паспорта штампует визы.
Полиция и явная и тайная
Стоит вокруг него угрюмой кучкой. .
..Еще неделю править здесь Британии.
Вот так мы и запишем
Вечной ручкой.
1960
ДЕВУШКА В БЕЛОМ
Три дня промаявшись в Китае,
С морозом перепутав зной,
Границу мы перелетали
На бреющем,
Во мгле ночной.
Казалось все условным, странным —
Луна и силуэт горы.
Как будто – снова к партизанам
В отряд Петра Вершигоры.
Тогда в кабине было тесно,
Я втиснулся, как в диск патрон.
А здесь – пустующие кресла
Виденьями со всех сторон.
Мне померещилось сурово,
Что рядышком с плечом моим
Плечо Евгения Петрова,—
Конечно, вместе мы летим.
Иосиф Уткин дремлет сзади,
Чертовски молод и красив,
А впереди Гайдар Аркадий
Уснул, ремней не распустив.
Но вот луна в кабину влезла,
И стали матово-белы
Опять —
Пустующие кресла
И непримятые чехлы.
Из выбитого поколенья
Нет больше никого со мной.
И обрывает наважденье
Пылающий внизу Ханой.
1967
ЛЕНСО
В тропиках ночи душней и черней
Угольной шахты.
Автомашины идут без огней
Линией шаткой.
Справа – экран вертикальной скалы,
Плотный и гулкий.
Слева – границею неба и мглы —
Встали фигурки.
Слышится снизу рычанье реки,
И под обстрелом
Над пропастями стоят маяки —
Девушки в белом.
Это не траурный местный наряд —
Много дороже
То, что шоферу они говорят:
Будь осторожен!
Видно, девчатам совсем не страшна
Смерти угроза.
В чернь полуночных волос вплетена
Белая роза.
Движутся, не нарушая рядов,
Грустно-безглазы,
Буйволы шестидесятых годов —
ЗИЛы и ГАЗы.
Их я хочу земляками назвать,
Близостью гордый,
И по-мальчишески поцеловать
В теплые морды.
Но останавливаться не дают.
Что уж поделать!
Беспрекословно командуют тут
Девушки в белом.
Как соответствуют их красоте
Белые платья!
Буду по краю любых пропастей
Смело шагать я.
Не оступиться мне и не упасть,
Нет, не упасть мне:
Ставит посты ополченская часть
Там, где опасно.
Снова налет. К пулемету тотчас
Девушка в белом.
И сочетается с прорезью глаз
Прорезь прицела.
1967
ПЕЙЗАЖ
На рисовом поле,
Средь влажных лесов,
В садах и траншеях Ханоя
Какое-то странное слово
«Ленсо»
Бежит неотступно за мною.
Его нараспев говорят, как стихи,
Его повторяют упрямо
Тует и Нгуены,
Туаны и Тхи —
Красивые дети Вьетнама.
«Ленсо!»
И улыбка взойдет на лицо
Лучом из-под пробковой каски,
И столько доверия к слову «ленсо»,
Надежды и сдержанной ласки.
А что это значит?
Откуда оно
Явилось в язык их певучий,
Когда, как мучительной влагой, войной
Наполнены низкие тучи?
Не знал я, что целой страною зовусь,
Всей нашей великой страною.
Ленсо – по-вьетнамски – Советский Союз,
Мое это имя в Ханое.
Воздушного боя гремит колесо,
Встречаются МИГ с Ф-105-м,
Разбойнику вспыхнуть поможет «ленсо»
И стать алюминием мятым.
И снова в атаку идет Пентагон,
Пылают бамбук и солома.
«Ленсо», не заметив, что ранен,– в огонь,
Детей он выводит из дома.
А я никого и не сбил и не спас,
Уж, видно, планида такая,
Но словом «ленсо»
В свой трагический час
Вьетнамцы меня окликают.
Среди обездоленных пагод к сел
Меня настигает поверка:
Достоин ли я величаться «ленсо»,
Как прожил нелегких полвека,
Могу ль представлять всю Отчизну свою
На огненной кромке планеты?
Ведь здесь я «ленсо»:
Я – Советский Союз.
Что выше, чем звание это!
1967
ХАЙФОН
С коромыслами все прохожие
В перламутровые часы,—
На плечах корзинки, похожие
На аптекарские весы.
Чистым зеркалом отражаемый,
Разрастается вверх и вниз,
Словно став двумя урожаями,
Изумрудного цвета рис.
Не бомбят пока...
Тем не менее
Переправы совсем пусты,
И ночное передвижение
Замирает, убрав мосты.
Возле пагоды, ставшей школою,
Для сигналов служащий здесь,
Настороженно дремлет колокол,
Весь в драконах, в лотосах весь.
Вот с чернильницей на веревочке
Опоздавший бежит школяр.
Разложила торговка овощи:
Две бататины – весь товар.
Неподвижны на крышах аисты,
По каналу скользит сампан.
...Утро Юго-Восточной Азии.
Шесть ночей уже я не спал.
Не мерещится и не снится мне
На дороге, невдалеке:
Буйвол с древнею колесницею,
И лежат в ее кузовке
В барабанах ракеты длинные
(Те, что рвутся над головой),
Груда мертвого алюминия,
Прах машины сверхзвуковой.
Прилетевший с Гуама дальнего,
Безопасности ради, он
Остролистою ветвью пальмовой
Символически осенен.
1967
ЧАСТНОЕ ПИСЬМО В ВАШИНГТОН ИЗ ХАНОЯ
Разве ты не знавал ощущенья —
Встреча первая
Вдруг
Принимается за возвращенье
На покинутый круг!
Словно раньше бывал я в Хайфоне
И когда-то видал
Эти мачты на утреннем фоне,
Многослойную даль,
Этих стен ноздреватый песчаник,
Солнца велосипед...
Этот взгляд,
Озорной и печальный,
Батальону вослед.
Запах рыбного супа и перца,
Керосинки дымок
Вмиг сожмут ненадежное сердце
В предынфарктный комок.
Ведь Хайфон – это ж просто Одесса
В сорок первом году!
Он в зеленую форму оделся,
Встал у всех на виду!
И готов на корабль и в дорогу
Или в уличный бой.
Грозный бас объявляет тревогу,
Женский голос – отбой.
Я хочу, чтобы вечно и всюду
Женский голос звучал...
Но опять
Небо отдано гуду,
Вновь налет на причал.
И сампаны горят, как шаланды.
Джонки – будто дубки.
Прямо в небо шепчу я:
«Ну ладно!» —
Больно сжав кулаки.
Город словно бы ходит по жести,
В сто зениток паля.
Я дождусь ли, чтоб голосом женским
Говорила земля?
1967
Протяженный, низинный и горный,
Этот край среди прочих примет
Повторил коромысло по форме —
Далеко не военный предмет.
Да и вам эта карта знакома.
И хотя, господин президент,
Есть известье из Белого дома —
Вы на отдыхе в данный момент,
Я письмом из Ханоя нарушу
Ваш и так ненадежный покой.
Рвется все, что на сердце, наружу,
Дипломат из меня никакой.
Днем и ночью бомбят ваши парни,
Но хочу в первых строках письма
Вас порадовать:
Вы – популярны,
Во Вьетнаме известны весьма.
Ваше имя здесь все повторяют,
Лишь о вас здесь народ говорит:
«Джонсон» вылетел,
«Джонсон» стреляет,
«Джонсон» падает,
«Джонсон» горит.
И останетесь вы знамениты
Тем, что вляпались в эту войну,
Что две тысячи «джонсонов» сбиты
(Те, что живы,– конечно, в плену).
Осторожно!
Земля эта жжется,
Прикасаться не следует к ней.
Ну, а то, что под кличкою «джонсон»
Нынче каждый из ваших парней, —
Это все уже было однажды,
Как потом – Нюрнбергский процесс,
И звался одинаково каждый,
Кто чужое захватывать лез.
Был немного наивен я раньше,
Но в Ханое молчать не могу.
Как вам спится в Техасе, на ранчо,
В воскресенье в семейном кругу?
Я слыхал, что вы набожны очень.
Вспоминайте, молясь по утрам:
Именуется «джопсоном» летчик,
Разносящий костел или храм.
Хватит!
Я понимаю, что лишне
Президента стихом донимать.
Только в этом послании личном
Я хочу пожалеть вашу мать,
Это будет уместно, пожалуй,—
Горю не посочувствовать – грех,
Вот скольких сыновей нарожала,
И оплакивать надо их всех.
Извините за грустные мысли,
Но я должен добавить еще,
Что страну эту, как коромысло,
Поднимает весь мир на плечо.
1967