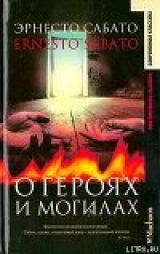
Текст книги "О героях и могилах"
Автор книги: Эрнесто Сабато
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
XXXVIII
Теперь я не в силах определить, сколько длилось то мое странствие. Когда я пробудился (назовем это хоть так), я почувствовал, что меня от того ночного мира отделяют бездны непроходимые: бездны пространства и времени. Ослепленный и оглохший, как человек, выныривающий из морских глубин, я снова включался в повседневную действительность. Действительность, о которой я теперь не могу сказать, насколько она и впрямь была реальной. Ибо, когда мое дневное сознание окрепло, глаза стали различать очертания окружающего мира и я обнаружил, что нахожусь в своей комнатке в Вилья-Девото, в моей единственной и такой знакомой комнатке в Вилья-Девото, я со страхом подумал, что, возможно, это начинается для меня новый, еще более непонятный кошмар.
Кошмар, который должен закончиться моей смертью – я ведь помню, что в том бурном волшебном сне мне было дано увидеть свое будущее, свою гибель в крови и огне. Странное дело, теперь никто, кажется, не преследует меня. Кошмар с квартирой в Бельграно прекратился. Сам не знаю как, но я свободен, я нахожусь в своей комнате, никто (по-видимому) за мной не следит. Секта, вероятно, отдалилась от меня навсегда.
Как же это я снова очутился у себя дома? Как получилось, что слепые разрешили мне уйти из той квартиры, окруженной лабиринтами? Не знаю. Знаю лишь, что все описанное было и происходило именно так. Включая – и прежде всего! – ужасающее последнее странствие.
Знаю также, что время мое ограничено и смерть поджидает меня. Удивительно и мне самому непонятно, что смерть-то поджидает меня как бы по моей собственной воле – ведь никто не придет сюда за мной, но я сам пойду, я должен пойти туда, где суждено исполниться пророчеству.
Моя хитрость, жажда жизни, отчаяние заставляли меня воображать тысячи способов бегства, тысячи способов уйти от власти рока. Но, увы, разве может человек уйти от собственной судьбы?
Итак, на этом я кончаю свое Сообщение и прячу его в такое место, где Секта не сможет его найти.
Сейчас полночь. Я иду туда.
Я знаю, что она меня ждет.
IV. Неведомое божество
I
В ночь на 25 июня 1955 года Мартин не мог уснуть. Ему снова виделась Алехандра, как она тогда в парке впервые подошла к нему; потом вперемежку представлялись разные нежные и страшные сцены; потом он снова видел, как она подходит к нему в ту первую их встречу, такая необычная, чудесная. Но постепенно его одолело тяжелое забытье, воображение его витало между сном и явью. И вдруг он услышал как бы звон далеких печальных колоколов и глухой стон, возможно, даже невнятный зов. В этом стоне нарастало отчаяние, едва слышный голос повторял его имя, а колокола меж тем били все громче и громче, пока звон их не стал неистовым и оглушительным. Небосвод, тот небосвод, что виделся ему во сне, озарился кровавым отблеском пожара. И тут он увидел, что Алехандра идет к нему среди багровых сумерек, лицо ее искажено, руки протянуты вперед, губы шевелятся, словно она в страхе, беззвучно повторяет свой призыв. «Алехандра!» – крикнул Мартин и проснулся. Весь дрожа, он включил свет и увидел, что он один в комнате.
Было три часа ночи.
Некоторое время Мартин не мог сообразить, что подумать, что делать. Наконец стал одеваться, и чем дальше, тем сильнее становилась его тревога – вот он уже выбежал на улицу и поспешил к дому Ольмосов.
И когда он издали увидел на затянутом тучами небе зарево пожара, он все понял. Гонимый отчаянием, он побежал к дому и упал без чувств посреди стоявшей на улице толпы. Очнулся Мартин у соседей и снова побежал к дому Ольмосов, но к тому времени полиция уже увезла трупы, пожарники же еще боролись с огнем, не давая ему распространиться за пределы бельведера.
О той ночи у Мартина остались отрывочные, бессвязные воспоминания – впору какому-нибудь кретину. Однако события, по-видимому, разворачивались следующим образом:
около двух часов ночи прохожий, который шел (как он потом сообщил) по улице Патрисиос по направлению к Риачуэло, заметил дым. Потом, как это всегда бывает, оказалось, что еще несколько человек видели дым или огонь и заподозрили что-то неладное. Старуха из соседнего многоквартирного дома сказала: «Я-то сплю плохо, вот услышала я запах дыма и говорю сыну – он работает на заводе «Тамэт» и спит в той же комнате, что я, только сон у него крепкий, – так он сказал, чтобы я его не беспокоила, – и добавила с гордостью – думал Бруно, – с той гордостью, что присуща большинству людей, особенно же старикам, когда им якобы удалось предсказать серьезную болезнь или какое-то бедствие: – И видите, я не зря его будила».
Пока гасили огонь в бельведере, полиция, уже отправив тела Алехандры и ее отца, вытащила из дому старого дона Панчо, сидевшего все в том же кресле и укутанного одеялом. «А где сумасшедший? Где Хустина?» – спрашивал народ. Но тут все увидели, что из дома выводят мужчину с седыми волосами на голове удлиненной формы, похожей на дирижабль, – в руке он держал кларнет, и выражение лица у него было даже веселое. Что ж до старухи индианки, ее лицо было, как всегда, бесстрастно.
Полицейские громко убеждали народ разойтись. Несколько соседей помогали пожарникам и полиции, вытаскивали мебель и мягкие вещи. Царила изрядная суматоха, и чувствовалось некое радостное возбуждение, с каким народ обычно реагирует на всяческие бедствия, на мгновенье выводящие из серого, пошлого существования.
Больше ничего достойного упоминания в событиях той ночи Бруно не мог отметить.
II
На другой день Эстер Мильберг позвонила Бруно и сообщила, о чем только что прочитала в «Расон» в колонке полицейской хроники (утренние газеты, естественно, не успели дать эту информацию). Бруно ничего не знал. Мартин как безумный блуждал по улицам Буэнос-Айреса и еще не побывал у него.
В первый момент Бруно не знал, что предпринять. Затем, хотя, по сути, это было бесполезно, он спешно отправился в Барракас посмотреть на пожарище. У входа в дом стоял полицейский и никого не впускал. Бруно спросил про старика Ольмоса, про служанку, про сумасшедшего. Из ответов полицейского и из того, что он узнал впоследствии, он понял, что семейство Асеведо быстро и решительно приняло свои меры, возмущенное и напуганное сообщениями в дневной прессе (напуганное не столько самим фактом – он полагал, что семейство Асеведо уже ничто не могло удивить, если дело касалось их родни, этой семейки сумасшедших и дегенератов), – сообщениями, вызвавшими волну слухов и сплетен обо всей фамилии, хотя родство было весьма дальнее. Ибо они, богатая и здравомыслящая ветвь, приложившая немало усилий, чтобы та, малоприятная, часть семьи держалась незаметно (вплоть до того, что очень немногие в Буэнос-Айресе знали о ее существовании и, главное, об их родстве), внезапно оказались скандально упомянуты в полицейской хронике. Вот почему они (продолжал размышлять Бруно) и поторопились убрать дона Панчо, Бебе и даже прислугу Хустину, чтобы замести следы и чтобы газетчики не могли ничего выведать у этих малоумных. Гипотезу о том, что ими двигали привязанность и сочувствие, следовало отвергнуть – Бруно знал, какую ненависть питали все Асеведо к этим жалким потомкам блистательных предков.
Вечером того же дня, возвратясь домой, он узнал, что к нему заходил «тот худой юноша», который, по укоризненному выражению Пепы (а она всегда словно бы укоряла Бруно за недостатки его друзей), теперь к тому же похож на помешанного. И это «к тому же» заставило Бруно при всем ужасе происшедшего улыбнуться – то было завершение целого ряда недостатков, которые его экономка открывала в бедняге Мартине, пока не дошла до этого последнего и горестного определения «помешанный», как нельзя точней передававшего действительно трагическое состояние души Мартина – он походил на дрожащего, запуганного ребенка, заблудившегося в ночном лесу. Разве мог Бруно удивляться, что Мартин пришел к нему? Хотя юноша был очень скрытен и Бруно ни разу не слышал от него законченного мнения о чем-либо, тем паче об Алехандре, как было ему не искать Бруно, единственного человека, с которым он мог отчасти разделить свой ужас и, быть может, найти какое-то объяснение, утешение или поддержку? Бруно, разумеется, был известен характер их отношений с Алехандрой, но не потому, что ему об этом говорила Алехандра (она тоже была не из тех, кто делает подобные признания), нет, он просто судил по тому, как Мартин молча льнул к нему, по тем немногим словам, которые иногда у него вырывались насчет Алехандры, однако прежде всего по той ненасытной, присущей влюбленным жажде слушать все, что так или иначе имеет отношение к любимому существу; а Мартин ведь и не подозревал, что спрашивает и слушает человека, который в известном смысле также был когда-то влюблен в Алехандру (хотя то было лишь преходящее, обманчивое отражение или отзвук другой, настоящей любви к Хеорхине). Однако, хотя Бруно знал или догадывался, что между Мартином и Алехандрой существуют некие отношения (словечко «некие», когда речь шла о ней, было неизбежно), подробностей этой любовной дружбы он не знал, с удивлением следя за ее развитием: Мартин, конечно, был во многих смыслах юношей исключительным, но именно юношей, чуть ли не подростком, тогда как Алехандра, хотя и старше его всего лишь на год, имела страшный, тысячелетний, жизненный опыт. И само это удивление обнаруживало (говорил себе Бруно) упорную и, видимо, неискоренимую наивность собственной его души – ведь он-то знал (но знал умом, а не сердцем), что, когда дело касается людских страстей, нельзя ничему удивляться, особенно же потому что – Пруст говорил, что все «хотя» это почти всегда неизвестные нам «потому что», – даже наверняка потому что именно этой пропастью между их духовной взрослостью и жизненным опытом и объяснялся интерес такой женщины, как Алехандра, к такому мальчишке, как Мартин. Догадка эта после гибели Алехандры и пожара постепенно подтверждалась, когда он выслушивал маловразумительные, но маниакально-страстные и порой очень подробные воспоминания юноши об Алехандре. Маниакальные и подробные не потому, что Мартин был человеком порочным или безумным, но потому, Что мир хаотических видений, которые всегда осаждали Алехандру, вынуждал его, Мартина, анализировать их с дотошностью параноика; муки, причиняемые любовью, осложненной препятствиями, особенно же препятствиями таинственными и необъяснимыми, – это всегда более чем достаточный повод (думал Бруно), чтобы и самый здравомыслящий человек размышлял, чувствовал и поступал как умалишенный. Разумеется, признания Мартина начались не в первую ночь после пожара, когда Мартин, вдоволь находившись по улицам Буэнос-Айреса, оглушенный мыслями об убийстве и о пожаре, появился у Бруно; нет, рассказывать он начал позже, в те немногие дни и ночи, когда ему еще не пришла в голову злосчастная мысль о Борденаве; в те дни и ночи, когда он часами сидел рядом с Бруно, порой не произнося ни слова, а порой говоря без умолку, будто его опоили каким-то снадобьем или, точнее, одним из тех снадобий, от которых из самых глубоких и потаенных недр души вырываются наружу сонмы беспорядочных, бредовых образов. И многие годы спустя, когда Мартин, приезжая с далекого Юга, навещал его (думал Бруно), подчиняясь неодолимому влечению человеческому цепляться за любое воспоминание о том, кого мы когда-то любили, за любую памятку, что осталась нам о том теле и той душе – за ветшающее, бренное бессмертие портретов, за фразы, когда-то кому-то сказанные, за воспоминание о словечке, которое кто-то запомнил или говорит, что запомнил, и даже за мелкие предметы, которые таким образом приобретают символическую, несоизмеримую ценность (коробок спичек, билет в кино), за предметы или фразы, которые творят чудо, вызывая явление призрака, и он, мимолетный, неуловимый, становится потрясающе явственным – так порой воскресает дорогое нам воспоминание от легкого запаха духов или музыкальной фразы, фразы, которой вовсе не обязательно поражать красотой и глубиной, это вполне может быть незамысловатый, даже пошлый мотивчик, над вульгарностью которого мы в те волшебные годы посмеивались, но теперь, облагороженный смертью и вечной разлукой, он кажется нам волнующим и значительным.
– Потому что вы тоже, – сказал ему Мартин в тот приезд, на миг вскидывая голову – хотя до того упорно глядел в пол – движением, свойственным ему в юности и, наверно, и в детстве, движением неизменным и, как отпечатки пальцев, сопутствующим человеку до самой смерти, – потому что вы тоже ее любили. Разве нет?
Вот вывод, к которому он – наконец! – пришел там, на Юге, в бесконечные, безмолвные ночи размышлений. И Бруно, пожав плечами, ничего не ответил. Да и что он мог сказать? Как мог объяснить Мартину историю с Хеорхиной и с тем странным виденьем детства? А главное, он сам ни в чем не был уверен, по крайней мере в том смысле, в каком это представлялось Мартину. Итак, Бруно ничего не ответил, лишь посмотрел на Мартина как-то неопределенно, думая, что вот, после нескольких лет молчания и разлуки, после долгих размышлений в одиночестве этот сдержанный, замкнутый юноша еще жаждет поведать кому-нибудь свою историю; быть может, потому что он все еще надеется – да, надеется! – найти разгадку трагического и волшебного переживания, повинуясь страстному, но наивному стремлению человеческому отыскивать эти пресловутые разгадки; а ведь скорее всего, если таковые и существуют, они темны, а порой настолько же непостижимы, как те события, которые они якобы должны объяснить. Но в ту первую ночь после пожара Мартин походил на потерпевшего кораблекрушение, утерявшего память. Он блуждал по улицам Буэнос-Айреса, а когда явился к Бруно, то даже не знал, что сказать. Он видел, что Бруно курит, ждет, смотрит на него, понимает его состояние, – но что с того! Алехандра мертва, по-настоящему мертва, ужасным образом погублена огнем – и теперь все бессмысленно, все уже как-то нереально. И когда Мартин собрался уходить, Бруно сжал его плечо и сказал что-то – Мартин даже не понял, что именно, во всяком случае, не мог потом вспомнить. Оказавшись на улице, он снова побрел как лунатик, снова пошел по тем местам, где, чудилось ему, в любой миг могла перед ним явиться она.
Но постепенно Бруно кое-что узнавал, кое-что прорывалось у Мартина во время последующих их встреч, нелепых, а иногда и тягостных свиданий. Мартин вдруг начинал сыпать словами как автомат, произносил бессвязные фразы – казалось, он ищет дорогие ему следы на прибрежном песке, по которому пронесся ураган. Бренные следы призраков! Он искал разгадку, искал скрытый смысл. А Бруно мог знать, Бруно должен был знать. Разве он не был знаком с семьей Ольмосов с самого детства? Разве не при нем родилась Алехандра? Разве не был он другом или почти другом Фернандо? Потому что ему, Мартину, все было непонятно: ее исчезновение, ее странные друзья, Фернандо. Ведь так? А Бруно только смотрел на него, смотрел с пониманием и, уж конечно, с сочувствием. Большую часть самых важных фактов Бруно узнал, когда Мартин возвратился из дальнего края, где хотел себя похоронить, и когда под действием времени горе его осело в глубинах души, горе, которое словно бы снова начинало бередить его душу при волнующей, мучительной встрече с людьми и предметами, неразрывно связанными с его трагедией. И хотя к тому времени тело Алехандры истлело и обратилось в прах, этот юноша, теперь уже взрослый мужчина, все еще был одержим любовью к ней, и кто знает, сколько еще лет (вероятно, до самой смерти) будет он испытывать это наваждение, что – по мнению Бруно – было неким доказательством бессмертия души.
Он «должен» знать, говорил себе Бруно с горькой иронией. Конечно, он «знал». Но в какой мере и какого рода было это знание? Ибо что знаем мы о последней тайне человека, даже о людях, которые были рядом с нами? Бруно вспоминал Мартина в ту первую ночь, и он казался ему одним из тех детей, которых мы видим на газетных фотографиях в репортажах о землетрясениях или ночных крушениях поездов: дети сидят на узле с одеждой или на куче обломков, глазенки у них усталые и внезапно постаревшие – сказывается власть катастрофических происшествий над телом и душою человека, в несколько часов они причиняют такие разрушения, какие обычно бывают следствием многих лет, болезней, разочарований, смертей. Затем Бруно на этот унылый облик накладывал более поздние – тут уж Мартин был подобен инвалидам, которые со временем, становясь на костыли, как бы поднимаются из своих собственных руин и, находясь уже вдали от войны, на которой едва не погибли, теперь, однако, не те, что прежде, на них – уже навсегда – легло бремя пережитых ужасов и лицезрения смерти. Бруно смотрел на Мартина, как тот стоит, опустив руки и устремив взгляд в одну точку, обычно позади и справа от головы Бруно. Казалось, Мартин с молчаливым и мучительным остервенением роется в своей памяти – подобно смертельно раненному человеку, пытающемуся с невероятной осторожностью извлечь из своего тела застрявшую отравленную стрелу. «Как он одинок!» – думал тогда Бруно.
– Я ничего не знаю. Ничего не понимаю, – произносил вдруг Мартин. – Эта история с Алехандрой…
И, не докончив фразу, он вскидывал низко опущенную голову и наконец взглядывал на Бруно, но все равно как будто его не видел.
– Скорее всего… – бормотал Мартин, с неистовым упорством подыскивая слова, как бы боясь, что не сможет точно передать, что же это была за «история с Алехандрой» – фраза, которую Бруно, будучи на двадцать пять лет старше, легко мог бы дополнить «…история, одновременно чарующая и ужасная».
– Вы же знаете… – бормотал Мартин, до боли сжимая пальцы, – у меня не было сведений… я никогда не понимал…
Вытащив свой неизменный перочинный ножик с белой рукояткой, он рассматривал его, открывал и закрывал.
– Я много раз думал, что это похоже на ряд выстрелов, на… – Он искал сравнение. – На вспышки нефти, то есть… на внезапные вспышки загорающейся нефти в темную ночь, в грозовую ночь…
Глаза его устремлялись на Бруно, но на самом-то деле смотрели вовнутрь собственной души, все еще не в силах оторваться от огненного видения.
Однажды, после паузы, заполненной раздумьем, он прибавил:
– Хотя иногда… очень редко, конечно… мне казалось, что рядом со мной она как бы отдыхала.
Отдыхала (подумал Бруно), как отдыхают в случайной рытвине или в наскоро сооруженном убежище солдаты, идущие по неизвестной, окутанной тьмою территории, под шквальным огнем врага.
– Но все равно я не мог бы сказать, какие чувства…
Мартин снова поднял глаза, на сей раз он уже прямо глядел на Бруно, словно прося разгадки, но так как Бруно не отвечал, он опять опустил голову и стал разглядывать свой ножик.
– Ну, конечно… – пробормотал он, – это не могло продолжаться долго. Как во время войны, когда живут моментом… наверно, потому, что будущее ненадежно и всегда ужасно.
Потом он объяснил, что в безумном вихре их отношений возникали признаки грядущей катастрофы, как то бывает в поезде, где машинист сошел с ума. Это, мол, и тревожило Мартина, и в то же время привлекало. Он снова посмотрел на Бруно.
И тогда Бруно, чтобы хоть что-нибудь сказать, чтобы заполнить пустоту, ответил:
– Да, понимаю.
Но что он понимал? Что?
III
Смерть Фернандо (сказал мне Бруно) заставила меня заново продумать не только его жизнь, но также и свою – отсюда видно, каким образом и в какой мере собственное мое существование, равно как существование Хеорхины и многих других мужчин и женщин было зависимо от судорожного бытия Фернандо.
Меня спрашивают, ко мне пристают: «Вы же близко его знали». Но слова «знали» и «близко», когда речь идет о Видале, просто смехотворны. Да, я был поблизости от него в три-четыре решающих периода и узнал некую часть его личности: ту часть, которая, как одна половина луны, была обращена к нам. Также верно, что у меня есть кое-какие догадки насчет его гибели, догадки, которые я, однако, не склонен оглашать – слишком уж велика возможность ошибиться, когда дело касается его.
Как я сказал, я находился (в физическом смысле) рядом с Фернандо в несколько важных моментов его жизни: в период его детства в селении Капитан-Ольмос в 1923 году; двумя годами позже в их доме в Барракас, когда умерла его мать и дедушка взял его к себе; затем в 1930 году, когда мы, подростки, участвовали в анархистском движении; наконец, у нас были короткие встречи в последние годы. Но в эти последние годы он уже был совершенно чужим для меня человеком и в известном смысле чужим для всех (только не для Алехандры, только не для нее). Он стал тем, кого, и по праву, называют помешанным, существом, отдалившимся от того, что мы, быть может наивно, именуем «светом». Я и сейчас помню тот день – было это не так давно, когда я увидел, как он, словно лунатик, идет по улице Реконкиста, не видя меня или притворяясь, что не видит, – и то и другое было равно вероятно, тем паче что мы не встречались, более двадцати лет и у обычного человека нашлось бы столько предлогов остановиться и поговорить. И если он меня увидел – а это возможно, – то почему притворился, что не видит? На этот вопрос, когда речь идет о Видале, немыслимо дать однозначный ответ. Одно из объяснений: возможно, он в тот момент переживал приступ мании преследования, и ему не хотелось встречаться со мною как раз потому, что я был старым его знакомым.
Мне, однако, совершенно неизвестны большие периоды его жизни. Я, конечно, знаю, что он побывал во многих странах, хотя, когда говоришь о Фернандо, вернее было бы сказать «промчался» по разным странам. Остались следы этих поездок, его экспедиций. Есть отрывочные сведения о его передвижениях от людей, видевших его или слышавших о нем: Леа Люблин однажды встретила его в кафе «Дом»; Кастаньино видел, как он обедал в харчевне возле Пьяцца-ди-Спанья, но, как только заметил, что его узнали, спрятался за газетой, словно близорукий, погрузившийся в чтение; Байсе подтвердил один пассаж из его «Сообщения»: да, он встретил Фернандо в кафе «Тупи-Намба» в Монтевидео. И все в таком духе. Потому что по существу и обстоятельно мы о его путешествиях ничего не знаем, тем более о его экспедициях на острова Тихого океана или в Тибет. Гонсало Рохас мне рассказывал, что однажды ему говорили об одном аргентинце «такого-то и такого-то вида», который разузнавал в Вальпараисо насчет места на шхуне, периодически отправлявшейся на остров Хуан-Фернандес; по его данным и по моим объяснениям мы пришли к выводу, что то был Фернандо Видаль. Что ему надо было на том острове? Мы знаем, что он был связан со спиритами и с людьми, занимавшимися черной магией, однако свидетельства людей подобного сорта не заслуживают особого доверия. Из всех темных эпизодов его жизни вполне достоверной можно считать его встречу в Париже с Гурджиевым [150]150
Гурджиев Георгий Иванович (1877 – 1949) – философ-оккультист (русский по происхождению). – Прим. перев.
[Закрыть] – и то лишь из-за возникшей между ними ссоры и вмешательства полиции. Вы, возможно, напомните мне о его мемуарах, о пресловутом «Сообщении». Думаю, этот опус нельзя воспринимать как правдивое изображение действительных фактов, хотя можно считать вполне искренним в более глубоком смысле. «Сообщение», по-видимому, отражает приступы галлюцинаций и бреда, которые, по правде сказать, заполняли весь последний этап его жизни, приступы, во время которых он запирался у себя или исчезал. Когда я читаю эти страницы, мне порой кажется, будто Видаль, погружаясь в бездны адовы, машет на прощанье платочком, будто он произносит лихорадочные, иронические слова прощанья или, быть может, обращается с отчаянными призывами о помощи, приглушенными и подавляемыми его тщеславием и гордостью.
Я также был, на свой лад, влюблен в Алехандру, пока не понял, что на самом-то деле люблю Хеор-хину, ее мать, и, лишь когда был отвергнут, обратил свое чувство на дочь. Со временем мне стала ясна моя ошибка, и я снова отдался первой (и безнадежной) страсти, страсти, которая, думаю, не покинет меня, пока Хеорхина не умрет, пока у меня будет хоть малейшая надежда быть рядом с нею. Потому что – нет, вы не удивляйтесь! – она еще жива, она не умерла, как думала Алехандра… или притворялась, что думает. У Алехандры, с ее характером и взглядами на жизнь, было достаточно поводов ненавидеть мать, и также достаточно поводов считать ее мертвой. Но спешу вам объяснить, что Хеорхина – вопреки тому, что вы могли бы предположить, – глубоко порядочная женщина, неспособная кому-либо причинить зло, тем более своей дочери. Почему же Алехандра так сильно ее возненавидела и мысленно уже в детстве похоронила ее? И почему Хеорхина живет вдали от нее и вообще вдали от всех Ольмосов? Не знаю, сумею ли ответить на все эти вопросы, а также на многие другие, которые наверняка возникнут в связи с этой семьей, столь много значившей в моей жизни, а теперь и в жизни этого юноши. Сознаюсь, я не собирался говорить вам о любви к Хеорхине, так как… ну, скажем, так как не склонен откровенничать о своих переживаниях. Но теперь вижу, что будет невозможно осветить некоторые изломы личности Фернандо, не рассказав хотя бы вкратце о Хеорхине. Я говорил вам, что она кузина Фернандо? Да, да, она дочь Патрисио Ольмоса, сестра Бебе, того сумасшедшего с кларнетом. А Ана Мария, мать Фернандо, была сестрой Патрисио Ольмоса. Вы поняли? Стало быть, Фернандо и Хеорхина – двоюродные брат и сестра и, кроме того – что чрезвычайно важно, – Хеорхина удивительно похожа на Ану Марию, причем не только внешностью, как Алехандра, но, главное, характером: она словно бы воплотила квинтэссенцию рода Ольмосов, не зараженную мятежной и злокозненной кровью Видалей, – деликатная и добрая, робкая и слегка мечтательная, тонко чувствующая и глубоко женственная. Теперь о ее отношениях с Фернандо.
Вообразим себе пьесу, где героиня – красивая женщина, пленяющая нас спокойствием осанки, серьезностью и задумчивой красотой, – является медиумом или объектом в опыте гипноза и передачи мыслей, который проводит человек с могучей и злой волей. Всем нам приходилось когда-нибудь бывать на подобных зрелищах, и мы видели, как медиум автоматически повинуется приказаниям и даже просто взгляду гипнотизера. Всех нас удивляли пустые, словно бы слепые глаза жертвы подобного опыта. Вообразим же, что мы испытываем к этой женщине неодолимое влечение и что она, в те интервалы, когда бодрствует и когда сознание ее свободно, выражает нам некую симпатию. Но что нам остается, когда она попадает под влияние гипнотизера? Лишь отчаиваться и грустить.
Так было со мной, с моим чувством к Хеорхине. И лишь чрезвычайно редко та пагубная сила, казалось, отступала, и тогда (о дивные, недолгие, мимолетные мгновения!) она со слезами склоняла голову на мою грудь. Но как кратки были эти минуты счастья! Колдовство вскоре опять покоряло ее своими чарами, и тогда все было бесполезно: я простирал к ней руки, умолял, сжимал ее пальцы, но она меня не видела, не слышала, не воспринимала.
Что ж до Фернандо, вы спросите – любил ли он ее? и любил ли искренне? Тут я не могу ничего сказать с уверенностью. Прежде всего, я думаю, он вообще никогда никого не любил. Вдобавок у него было так велико сознание своего превосходства, что он даже не испытывал ревности: если он видел рядом с Хеорхиной мужчину, на его лице появлялось едва заметное выражение иронии или презрения. Он ведь знал, что стоит ему шевельнуть пальцем – и слабенькая, нарождающаяся симпатия между этими двумя рассеется, как от легкого щелчка рассыпается карточный домик, который мы усердно, затаив дыхание, сооружали. И она, видимо, страстно ждала этого мановения со стороны Фернандо, словно то был знак величайшей любви к ней.
А сам он был неуязвим. Вспоминаю, например, как Фернандо женился. Ах да, вы же, конечно, не знаете. Сейчас я опять вас удивлю. Не тем, что он женился, но тем, что женился-то он не на своей кузине. По сути, как подумать хорошенько, было бы совершенно непонятно, если бы он это сделал, и уж такой брак и впрямь был бы удивителен. Нет, с Хеорхиной отношения у него были тайные, в то время дверь дома Ольмосов была для него закрыта, и я не сомневаюсь, что дон Патрисио, при всей своей доброте, убил бы его за нарушение запрета. И когда Хеорхина родила дочку… Ах, все объяснять было бы слишком долго, да и бесполезно – думаю, достаточно сказать, что она ушла из дому главным образом из-за своей робости и стыдливости: ни дон Патрисио, ни его жена Мария Элена, разумеется, не были способны на грубое, недостойное обращение с нею, и все же она ушла, исчезла незадолго до родов, как говорится, сквозь землю провалилась. Почему она рассталась с Алехандрой, когда девочке исполнилось десять лет, почему отправила ее к дедушке с бабушкой в Барракас, почему сама Хеорхина туда уже не вернулась – рассказ обо всем этом завел бы меня слишком далеко, но вы, возможно, отчасти это поймете, если вспомните, что я вам говорил о ненависти, о смертельной, все возраставшей по мере того, как она взрослела, ненависти Алехандры к матери. Итак, вернусь к тому, о чем начал говорить, – к женитьбе Фернандо. Любого удивило бы, что этот нигилист, этот нравственный террорист, издевавшийся над любыми сантиментами и буржуазной моралью, решил жениться. Но еще удивительней то, как он женился. И на ком… То была шестнадцатилетняя девушка, очень хорошенькая и очень богатая. Фернандо питал слабость к женщинам красивым и чувственным, одновременно презирая их, и особенно привлекали его молоденькие. Подробностей я не знаю, в то время я с ним не встречался, а если б и встречался, тоже, наверно, не много узнал бы: он был человеком, умевшим без всяких зазрений вести двойную, а то и более сложную жизнь. Мне, однако, доводилось слышать разговоры, вероятно, содержавшие долю истины – впрочем, достаточно сомнительной, как все, что было связано с поступками и идеями Фернандо. Говорили, разумеется, что он польстился на богатство девушки, что она просто дитя, ослепленное этим фигляром; прибавляли, что у Фернандо была связь (одни утверждали, что до брака, другие – что во время и после брака) с ее матерью, польской еврейкой лет сорока, с претензиями на интеллектуальность, у которой не ладилась жизнь с мужем, сеньором Шенфельдом, владельцем текстильных фабрик. Шли слухи, будто, когда у Фернандо была связь с матерью, забеременела дочка и что по сей причине «он должен был жениться» – фраза, изрядно меня рассмешившая, настолько бессмысленно она звучала по отношению к Фернандо. Некоторые дамы, считавшие себя лучше осведомленными, так как ездили играть в канасту [151]151
Канаста – карточная игра. – Прим. перев.
[Закрыть] в Сан-Исидро [152]152
Сан-Исидро – пригород Буэнос-Айреса. – Прим. перев.
[Закрыть], уверяли, будто между действующими лицами этой гротескной комедии разыгрываются бурные сцены ревности и угроз и будто – уж это мне казалось вовсе забавным – Фернандо заявил, что не может жениться на сеньоре Шенфельд, даже если она получит развод, ибо он, мол, принадлежит к старинной католической семье, и, напротив, полагает своим долгом жениться на дочке, с которой у него была связь.







