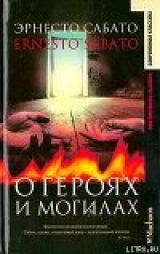
Текст книги "О героях и могилах"
Автор книги: Эрнесто Сабато
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)
IV
Но вернемся к различиям среди слепых.
Прежде всего существует коренное неравенство между слепыми от рожденья и теми, кто утратил зрение из-за болезни или несчастного случая. Пришельцы, разумеется, со временем приобретают многие из черт туземной расы, тут действует примерно тот же механизм, который заставляет мимикрировать евреев, живущих среди народа, их ненавидящего или презирающего. Ибо – хотя факт этот очень странный – ненависть слепых к зрячим куда меньше их ненависти к ослепшим.
Чем вызвано это явление? Вначале я думал, что причины его сходны с теми, которые порождают вражду меж соседними государствами или меж согражданами: известно ведь, что самые беспощадные войны – это войны гражданские; достаточно вспомнить гражданские войны в Аргентине в прошлом веке или войну в Испании. Одна скромная учительница, Норма Гладис Пульесе, на которой я несколько месяцев изучал реакции провинциальных интеллектуалов, разумеется, считала, что ненависть и войны вызываются незнанием друг друга и всеобщим невежеством; мне пришлось ей растолковать, что сохранение мира между людьми возможно лишь при полном их равнодушии и незнании друг друга – сие есть единственное условие, при котором эти твари бывают относительно доброжелательны и справедливы, ибо все мы достаточно терпимы по отношению к тому, что нас не интересует. С книгами по истории и полицейской хроникой вечерних газет в руках мне пришлось толковать азбуку человеческого характера этой дурехе, которая училась под руководством светил педагогики и верила в то, что грамотность хоть как-то сумеет решить главную проблему человечества; и тут я напоминал ей, что именно самый грамотный народ в мире придумал концлагеря для массовых истязаний и кремации евреев и католиков. В результате почти всегда она покидала постель, возмущаясь мною, вместо того чтобы возмущаться немцами, – ведь мифы сильнее враждебных им фактов, и миф о благотворности всеобщего начального образования в Аргентине, при всей своей нелепости и комизме, устоял и устоит перед атакой любых сатир и доказательств.
Однако, возвращаясь к интересующей нас проблеме, скажу, что позже, когда я лучше узнал и изучил Секту, я пришел к выводу, что решающим моментом во вражде к пришельцам является кастовая гордость и, как следствие, неприязнь к тем, кто пытается, и в известной мере с успехом, войти в касту. Конечно, это характерно не только для слепых, это происходит также в высших слоях общества, куда лишь после долгого испытательного срока и с неохотой допускают тех, кому благодаря богатству или браку детей все-таки удается пристать к высшему свету, – сперва тут не обходится без легкого презрения, но постепенно к презрению примешивается возрастающая враждебность: возможно, срабатывает интуиция, подсказывающая, что от такого медленного, но верного нашествия чужаков нет защиты и преград, как они себе воображают, и в конечном счете у них возникает парадоксальное чувство униженности. И еще, конечно, влияет то, что их тайны обнаруживаются людьми, бывшими вчера их наивными жертвами и мишенью самых безжалостных акций. Этакие нежелательные свидетели, которые, хотя лишены и тени надежды вернуться в свой изначальный мир, с удивлением узнают истинные мысли и чувства людей, казавшихся им верхом беззащитности. Впрочем, все это, так сказать, анализ явлений и, хуже того, анализ посредством слов и понятий, пригодных для нас с вами. По сути, мы столь же способны понимать мир слепых, как мир кошек или змей. Мы говорим: кошки независимы, кошки аристократичны и коварны, кошки не преданы хозяевам; но в действительности все эти понятия в данном случае лишь относительны, ведь мы применяем наши, человеческие, понятия и оценки к существам, с нами не соизмеримым; точно так же люди не способны вообразить богов, не наделенных какими-то человеческими чертами, – вплоть до гротеска, вроде того, что греческие боги бывали рогаты.
V
Сейчас я расскажу, как в эту игру включился наборщик Селестино Иглесиас и как я напал на главный след. Но сперва хочу сообщить, кто я, чем занимаюсь и т.д.
Зовут меня Фернандо Видаль Ольмос, я родился 24 июня 1911 года в селении Капитан-Ольмос провинции Буэнос-Айрес, носящем имя моего прапрадедушки. Рост – метр семьдесят три, вес – около семидесяти кило, глаза серо-зеленые, волосы прямые с проседью. Особых примет нет.
Вы можете спросить, какого черта я привожу эти данные из удостоверения личности. Знайте, в мире людей нет ничего случайного.
В детстве у меня много раз бывал один и тот же сон: я видел мальчика (странное дело, этим мальчиком был я, однако я себя видел и наблюдал как постороннего), молча играющего в игру, которую я не могу понять. Я внимательно наблюдаю за ним, стремясь угадать смысл его жестов, взглядов, слов, которые он бормочет. И вдруг, строго глянув на меня, он говорит: я слежу за тенью этой стены на земле, и, если тень начнет двигаться, может произойти бог весть что. В его речах чувствуется сдерживаемая тревога, напряженное ожидание. И тогда я тоже начинаю со страхом следить за тенью. Незачем говорить, что речь шла не о смещении тени из-за обычного движения солнца: нет, то было ЧТО-ТО ДРУГОЕ. Итак, я тоже с тревогой наблюдаю. Пока не замечаю, что тень и впрямь начинает двигаться – медленно, но вполне заметно. Весь в поту, с криком я просыпаюсь. Что это было? Что за предупреждение? Что за символ? Каждый вечер я ложился, страшась этого сна. И каждое утро, проснувшись, вздыхал с облегчением, что мне еще раз удалось избежать неведомой опасности. В другие ночи, напротив, ужасный момент наступал: я снова видел мальчика, стену и тень; снова мальчик строго глядел на меня, снова произносил эти странные слова, и наконец, снова, после того как я с тревожным ожиданием наблюдал за тенью стены, я замечал, что она начинает двигаться и менять очертания. Тогда я с криком, в поту просыпался.
Сон этот мучил меня долгие годы – я понимал, что он, как почти все сны, должен иметь скрытый смысл, а если так, стало быть, он, бесспорно, был предвестьем чего-то, что со мною произойдет. Так вот, я не знаю, был ли мой сон предвестьем того, что со мною произошло, или же он был символическим началом будущих моих переживаний. Первое из них я испытал много лет назад, когда мне еще не было двадцати и я был главарем банды грабителей (возможно, в дальнейшем я расскажу об этом). Меня вдруг поразила мысль, что действительность может начать деформироваться, если я не сосредоточу всю свою волю на том, чтобы удерживать ее в стабильном состоянии. Я устрашился, что мир вокруг меня может внезапно, в любой миг, начать двигаться, деформироваться, сперва медленно, затем все быстрее, что он будет распадаться, преображаться, терять всякий смысл. И, как тот мальчик из сна, я, сосредоточив все свои силы, стал глядеть на тень, то есть на окружающую нас действительность, которая есть тень некоего строения или стены, недоступной для нашего зрения. И вдруг (это произошло в моей комнате в городке Авельянеда [103]103
Авельянеда – пригород Буэнос-Айреса, входящий в Большой Буэнос-Айрес. – Прим. перев.
[Закрыть], к счастью, я был один и лежал в постели) я с ужасом увидел, что тень начала двигаться и что старый сон сбывается. Голова у меня закружилась, я лишился чувств, провалился в хаос, но в конце концов огромным усилием воли мне удалось выбраться из него, и я стал вновь связывать нити реальности, которая словно распадалась неудержимо. Вроде якорь забрасывал. Вот именно – мне необходимо было как бы закрепить реальность якорем, однако корабль мой состоял из множества разрозненных кусков, и сперва надо было все их связать вместе, а затем уж бросить тяжелый якорь, чтобы не унесло течением. К несчастью, такие приступы повторялись, и порой с очень большой интенсивностью. Я вдруг чувствовал, что все вокруг начинает сдвигаться, а затем распадаться, но, уже зная симптомы, я не бездействовал, как в первый раз, и сразу с величайшей энергией принимался за дело. Люди не понимали, что со мной происходит; они видели, что я сосредоточиваюсь, видели мой неподвижный, отсутствующий взгляд и думали, что я схожу с ума, не разумея, что все обстоит наоборот – ведь именно благодаря этому моему усилию мне удавалось удержать реальность на должном месте и в должной форме. Но иногда, как я ни старался, реальность все же начинала мало-помалу распадаться, деформироваться, точно она каучуковая, и подвергаться огромному давлению с разных сторон (с Сириуса, из центра Земли, отовсюду), чье-нибудь лицо распухало, с одной его стороны выпячивался шар, глаза сдвигались вместе, рот растягивался, вот-вот разорвется, и все лицо искажалось в чудовищной гримасе.
Что и говорить, приступы эти меня пугали, да еще мучила необходимость быть все время начеку, в напряжении, мобилизовать все свое внимание, энергию. Временами мне даже хотелось, чтобы меня заперли в сумасшедшем доме, где я мог бы отдохнуть – уж там-то никто не обязан поддерживать реальность в том виде, в каком ей якобы положено быть. Там человек словно может себе сказать (и наверняка говорит): а ну их, пускай без меня разбираются!
Но самое худшее происходит не вокруг меня, а внутри, потому что начинает деформироваться, искажаться, преображаться собственное мое «я». Меня зовут Фернандо Видаль Ольмос, и эти три слова – они вроде печати, вроде гарантии того, что я есть «нечто», нечто вполне определенное: не только из-за цвета глаз, роста, возраста, дня рождения и родителей (то есть данных, записываемых в удостоверении личности), но из-за чего-то более глубинного, духовного: тут весь комплекс воспоминаний, чувств, мыслей, которые внутри человека поддерживают структуру «нечто», являющегося Фернандо Видалем, а не каким-либо почтальоном или же мясником. Но почему бы в это тело, описанное в моем воинском билете, не могла внезапно, по причине некоего катаклизма, вселиться душа швейцара или дух маркиза де Сада? Существует ли и впрямь нерасторжимая связь между моим телом и душой? Мне всегда казалось удивительным, что человек может расти, питать иллюзии, терпеть неудачи, отправляться на войну, духовно разлагаться, менять образ мыслей, испытывать совсем другие чувства и все равно носить то же имя: Фернандо Видаль. Есть ли в этом хоть какой-то смысл? Или же верно, что вопреки всему существует некая нить, растяжимая до бесконечности и в то же время чудесным образом единая, которая во всех этих переменах и катастрофах сохраняет тождество «я»?
Не знаю, как бывает у других людей. Могу лишь сказать, что у меня это тождество внезапно исчезает и деформация «я» принимает чудовищные размеры: целые области моего духа начинают разбухать (иногда я чувствую прямо-таки физическое давление в своем теле, особенно в голове) и продвигаться, как безмолвные амебы, слепо и осторожно, к другим областям рода человеческого и наконец уходят в темные, древние зоологические пределы; вот вдруг разбухло какое-то воспоминание, мало-помалу оно от звуков «Пляски стрекоз» – в детстве я однажды вечером слышал, как ее играли на фортепиано – переходит в музыку все более странную и необузданную, потом в крики и стоны и наконец в неистовые завывания, потом в колокольный звон, оглушающий меня, и – что еще более удивительно – звуки превращаются во вкусовые ощущения, во рту становится кисло, отвратительно, словно звуки из уха перешли в глотку, желудок корчится в судорогах тошноты, а между тем другие звуки, другие воспоминания претерпевают такие же метаморфозы. И иногда я думаю, что, возможно, учение о переселении душ истинно и что в самых потаенных уголках нашего «я» дремлют воспоминания существ, которые предшествовали нам, как сохранились у нас рудименты органов рыб или пресмыкающихся; они подавляются новым «я» и новым телом, но всегда готовы пробудиться и выйти на волю, когда те силы, те натяжения, проволочки и винтики, которые поддерживают наше «я», по неведомой нам причине слабнут и поддаются, и хищные звери, доисторические чудища, обитающие в нас, вырываются на свободу. И то, что происходит каждую ночь, когда мы спим, становится вдруг процессом неуправляемым и угнетающим нас также в кошмарах, которые совершаются при свете дня.
Впрочем, пока моя воля еще откликается на мои призывы, я чувствую себя более или менее в безопасности, зная, что благодаря ей могу выбраться из хаоса и восстановить свой мир: воля моя, когда она способна действовать, могущественна. Куда хуже бывает, когда я чувствую, что и воля моя распадается. Вернее, воля будто еще принадлежит мне, но части тела или той системы, которая ее передает, уже не мои. Или как будто тело-то еще мое, но «нечто» становится между телом и волей. Пример: я хочу пошевелить рукой, но рука мне не повинуется. Я сосредоточиваю все свое внимание на руке, смотрю на нее, делаю усилие, но вижу, что она все равно не повинуется. Как если бы линии связей между мозгом и рукой были разорваны. Со мною это бывало не раз – вроде бы я некая территория, опустошенная землетрясением: везде большие трещины и телефонные провода оборваны. А в таких обстоятельствах может произойти всякое – нет полиции, нет армии. Может свершиться любое злодеяние, любой грабеж или насилие. Словно мое тело принадлежит другому человеку, а я, беспомощный и онемевший, наблюдаю, как на той, чужой территории начинается подозрительное движение, дрожь, предвещающая новые судороги, покамест, нарастая, хаос не воцарится в моем теле и в конце концов – в моем духе.
Все это я рассказываю, чтобы меня поняли.
И еще потому, что иначе многие эпизоды моего рассказа были бы непонятны и неправдоподобны. Но происходили-то они в большей мере именно из-за катастрофического распада моей личности – не вопреки, но благодаря ему.
VI
Сообщение мое предназначено для передачи после моей смерти, которая уже близка, какому-нибудь институту, которому будет интересно продолжить мои изыскания о мире, доныне остававшемся неисследованным. Ввиду чего оно ограничивается ФАКТАМИ, теми фактами, которые я лично пережил. Достоинство моего сообщения, как я считаю, в абсолютной объективности: я буду говорить о происходившем со мною, как может говорить ученый о своей экспедиции на Амазонку или в Центральную Африку. И хотя страсть и неприязнь, естественно, могут иногда смутить мой ум, я намерен быть точным и не поддаваться подобным чувствам. Мой опыт оказался ужасным, но именно поэтому я хочу держаться фактов, пусть факты эти бросают не весьма выгодный свет на мою жизнь. После всего сказанного ни один здравомыслящий человек не станет утверждать, что цель написанного на этих страницах пробудить симпатию к моей особе.
Вот, например, один из нелестных для меня фактов, в котором я хочу признаться в доказательство своей искренности: у меня нет друзей и никогда не было. Разумеется, мне не чужды страсти, но любви я никогда и ни к кому не испытывал и, полагаю, никто ее не питал ко мне.
И все же я поддерживал отношения со многими. У меня были «знакомые», как принято говорить, употребляя столь двусмысленное слово.
И одним из этих знакомых, чья личность имеет значение для последующего рассказа, был худощавый, молчаливый испанец по имени Селестино Иглесиас.
В первый раз я его увидел в 1929 году, в центре анархистов Авельянеды, именовавшемся «Рассвет»; в том же центре я тогда же познакомился с Северино Ди Джованни, за год до его расстрела. Я посещал анархистские центры, потому что во мне уже зрело намерение организовать – и я действительно организовал ее впоследствии – банду грабителей; и хотя не все анархисты были бандитами, среди них встречались всевозможные авантюристы, нигилисты и вообще тот тип врага общества, который всегда меня привлекал. Одного из этих субъектов звали Освальдо Р. Подеста, он участвовал в ограблении Банка в городе Сан-Мартин [104]104
Сан-Мартин – город к северо-западу от Буэнос-Айреса, входящий в Большой Буэнос-Айрес. – Прим. перев.
[Закрыть] и во время испанской гражданской войны был расстрелян из пулемета самими же красными поблизости порта Таррагоны, когда намеревался бежать из Испании в шлюпке, нагруженной деньгами и драгоценностями.
С Иглесиасом меня и свел Подеста – это было как если бы волк познакомил меня с ягненком. Потому что Иглесиас был из числа добродушных анархистов, он неспособен был муху убить; пацифист, вегетарианец (из отвращения к тому, чтобы жить за счет гибели живых существ), он лелеял фантастическую надежду, что мир когда-нибудь будет дружеским сообществом свободных братьев кооператоров. В этом Новом Мире все будут говорить на одном языке, и языком этим будет эсперанто. По каковой причине он с немалым трудом изучил эту разновидность ортопедического протеза, которая не только ужасна сама по себе (что для универсального языка еще не самое худшее), но на которой практически никто не говорит (что для универсального языка просто гибель). И в письмах, которые он писал, высовывая от усердия язык, он общался с несколькими из полутысячи чудаков единомышленников, набравшихся во всем мире.
Странный, но среди анархистов нередкий факт: такое ангельское существо, как Иглесиас, могло, однако же, заниматься изготовлением фальшивых денег. Во второй раз я его увидел в подвале на улице Боэдо, где у Освальдо Р. Подеста были все принадлежности для этого занятия и где Иглесиас исполнял весьма деликатные работы.
В то время ему было лет тридцать пять – поджарый, очень смуглый, невысокого росточка, весь какой-то высохший, как многие испанцы, которые жили там, у себя, словно бы на выжженной земле и почти без пищи, летом иссушаемые беспощадным солнцем, а зимою – жестокими холодами. Щедр он был чрезвычайно, никогда не имел в кармане ни одного сентаво (все, что зарабатывал, плюс фальшивые деньги отдавалось профсоюзу или на темные дела Подеста); в его комнатушке обычно ютился какой-нибудь сожитель, какие часто встречаются в анархистской среде, и хотя Иглесиас был неспособен муху убить, большую часть своей жизни он провел в тюрьмах Испании и Аргентины. Подобно Норме Пульесе, он воображал, что все беды человеческие будут устранены некой смесью Науки и Взаимного Познания. Надо бороться против Темных Сил, которые испокон веков препятствуют торжеству Истины. Но Прогресс Идей не остановить, и раньше или позже грядет Рассвет. А тем временем надо бороться с организованными силами Государства, изобличать Церковный Обман, следить за Армией и развивать Народное Образование. Основывались библиотеки, где были не только произведения Бакунина или Кропоткина, но и романы Золя и тома Спенсера и Дарвина, ибо даже теория эволюции казалась им подрывающей основы, и некая странная связь объединяла историю Рыб и Сумчатых с Торжеством Новых Идей. Была там, конечно, и «Энергетика» Оствальда [105]105
Оствальд, Вильгельм Фридрих (1853 – 1932) – немецкий физикохимик и философ-идеалист. Автор трудов по теории растворов электролитов, химической кинетике и катализу, лауреат Нобелевской премии. – Прим. перев.
[Закрыть], нечто вроде термодинамической Библии, где Бог замещен мирским, но тоже непостижимым понятием, именуемым Энергия, каковое, подобно своему предшественнику, все объясняет и все может, но имеет то преимущество, что связано с Прогрессом и Локомотивом. Мужчины и женщины, посещавшие эти библиотеки, вскорости соединялись в гражданском браке и рождали детей, называя их Свет, Свобода, Новая Эра или Джордано Бруно. Детей, которые – в большинстве случаев в силу известного закона, восстанавливающего детей против отцов, а в остальных вследствие сложного и обычно диалектического Хода Времени – превращались в матерых буржуа, штрейкбрехеров и даже в свирепых гонителей Движения, как то было со знаменитым комиссаром полиции Джордано Бруно Тренти.
Я потерял Иглесиаса из виду, когда началась война в Испании и он, подобно многим другим, отправился сражаться под знаменами Иберийской Анархистской Федерации. В 1938 году он бежал во Францию, где наверняка имел возможность оценить братские чувства граждан этой страны и преимущества Соседства и Знакомства сравнительно с Отдаленностью и Взаимным Незнанием. Оттуда он наконец сумел вернуться в Аргентину. И тут я его снова встретил года через два после эпизода в метро, о котором рассказано выше. Я тогда был связан с группой фальшивомонетчиков, и, так как нам нужен был надежный и опытный человек, я подумал об Иглесиасе. Я стал расспрашивать о нем прежних своих знакомых в анархистских группах Ла-Платы [106]106
Ла-Плата – административный центр провинции Буэнос-Айрес. – Прим. перев.
[Закрыть]и Авельянеды, пока не отыскал: он работал наборщиком в типографии Крафта.
Нашел я его сильно изменившимся, особенно по причине хромоты – во время войны у него ампутировали правую ступню. Он был еще более иссохший и молчаливый, чем прежде.
Мое предложение Иглесиас после некоторого колебания принял, когда я сказал, что деньги эти будут употреблены на помощь анархистской группе в Швейцарии. Его было нетрудно убедить в чем угодно, если речь шла об общем деле, как бы невероятно оно ни казалось на первый взгляд и именно потому, что было невероятно. Наивность его не знала границ: разве не работал он на такого подонка, как Подеста? Подбирая национальность анархистов, я слегка задумался, но тут же решил вопрос в пользу Швейцарии – чем абсурдней, тем лучше! – ибо нормальному человеку поверить в существование швейцарских анархистов – это все равно что поверить в существование крыс в сейфе. Когда я в первый раз посетил эту страну, у меня создалось впечатление, что домашние хозяйки каждое утро подметают ее всю как есть (естественно, выбрасывая мусор в Италию). И впечатление было настолько сильное, что я заново обдумал проблему национальной мифологии. Анекдоты обычно по сути своей правдивы – ведь их придумывают фраза за фразой, чтобы точно подогнать к данному человеку. Нечто подобное происходит с национальными мифами, создающимися, дабы выразить душу народа; и вот пришло мне тогда на ум, что легенда о Вильгельме Телле очень верно описывает швейцарскую душу: когда стрелок угодил своею стрелой в яблоко, и наверняка в самую середку яблока, швейцарцы упустили единственную историческую возможность заиметь великую национальную трагедию. Чего можно ждать от подобной страны? В лучшем случае нация часовщиков.







