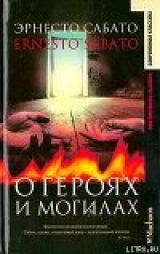
Текст книги "О героях и могилах"
Автор книги: Эрнесто Сабато
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)
XVIII
Прошло несколько дней, пока Мартин, снедаемый отчаянием, набрал номер ателье, но, когда услышал голос Ванды, у него не хватило храбрости ответить, и он положил трубку. Выждал три дня, позвонил снова. Подошла она.
– Чему ты удивляешься? – сказала Алехандра. – Мы же, кажется, договорились больше не встречаться.
Начался сбивчивый разговор, невразумительные жалобы Мартина, наконец Алехандра пообещала прийти завтра в бар на углу улиц Чаркас и Эсмеральда. Но не пришла.
Подождав больше часа, Мартин решил пойти в ателье.
Дверь была приоткрыта, и из уличной темноты он увидел там, внутри, при свете низкой лампы профиль одиноко сидящего Коко. В комнате больше никого не было, Коко сидел, сгорбясь и глядя в пол, будто погруженный в размышления. Мартин постоял, не зная, как быть. Очевидно, и в другой комнате не было ни Ванды, ни Алехандры, иначе слышались бы их голоса, а в ателье царила тишина. Но также было очевидно, что они находятся в примерочной, расположенной в задней части квартиры Ванды, наверху, куда поднимались по лесенке; иначе было бы необъяснимым присутствие Коко и открытая дверь.
Мартин, однако, не решался войти – что-то в сосредоточенной, одинокой фигуре Коко мешало ему это сделать. Возможно, из-за того, что Коко сидел сгорбившись, он показался Мартину постаревшим, а выражение лица необычно для него задумчивым. Мартину невесть почему вдруг стало жаль этого одинокого человека. Еще много лет будет он вспоминать Коко вот таким, стараясь определить, ощутил ли он эту жалость, это смутное сострадание именно в тот миг или они пришли потом. Он вспомнил слова Бруно: всегда страшно смотреть на человека, который уверен, что он совершенно один – в нем ощущается тогда нечто трагическое, едва ли не священное, и вместе с тем ужасное, постыдное. Ведь мы всегда – говорил Бруно – носим маску, и маска эта постоянно меняется для каждой из ролей, назначенных нам в жизни: роли профессора, любовника, интеллектуала, обманутого мужа, героя, любящего брата. Но какую маску мы надеваем, вернее, какая маска на нас остается, когда мы одни, когда думаем, что никто, абсолютно никто за нами не наблюдает, не контролирует нас, не слышит, никто ничего от нас не требует, не просит, не уговаривает, не нападает на нас? Такое мгновенье священно, быть может, потому, что человек остался один перед лицом божества или по крайней мере собственной беспощадной совести. И, наверно, никто не может простить, если его застигнут в момент этой окончательной и истинной наготы его лица, самой ужасной и самой истинной из всех видов наготы, ибо в ней явлена беззащитная наша душа. И тем более ужасна она и постыдна в комедианте вроде Коко, посему (думал Мартин) и логично, что он возбуждает больше сочувствия, чем какой-либо бесхитростный простак. По этой-то причине Мартин, решившись наконец войти, сперва тихонько отступил, а затем, громко стуча каблуками, пошел по коридорчику, который вел в ателье. И тогда, с проворством лицедея, Коко надел навстречу Мартину маску порочности, фальшивой мягкости и любопытства (что общего может быть у этого юнца с Алехандрой?). И его циничная ухмылка смяла ростки жалости, пробившейся Мартина.
Всегда ощущая неловкость перед чужими, Мартин в присутствии Коко не знал, как стать, как сесть, убежденный, что тот все примечает и припрятывает в своей злобной памяти: кто знает, когда и где будут потом потешаться над его видом и его страданиями. От театральных жестов Коко, его нарочитой высокопарности, двуличия, острых словечек Мартин еще острее чувствовал себя козявкой под лупой иронического ученого-садиста.
– Представь, ты мне напоминаешь какую-то из фигур Эль Греко, – сказал Коко, едва он вошел.
Фраза эта, по обычаю Коко, могла быть истолкована как похвала или как остроумная насмешка. Он славился тем, что похвалы в его критических очерках, были, по сути, закамуфлированными издевками: «Автор никогда не снисходит до того, чтобы употреблять глубокие метафоры», «Он никогда не поддается искушению быть утонченным», «Актер не боится нагнать на зрителя скуку». Молча забившись в угол, Мартин, как и в предыдущее посещение, сел на раскроенный стол и инстинктивно съежился, будто солдат на войне, чтобы быть незаметнее. К счастью, Коко заговорил об Алехандре.
– Она в примерочной, с Вандой и с графиней Телеки, née Итуррерия, а по-нашему – Маритой.
И, пристально и озабоченно вглядываясь в Мартина, спросил:
– А ты давно знаком с Алехандрой?
– Несколько месяцев, – краснея, ответил Мартин. Коко вместе со стулом придвинулся к нему и
заговорил вполголоса:
– Должен тебе сказать, что я обожаю Ольмосов. Одного того, что они живут в Барракас, вполне достаточно, чтобы la haute [88]88
Здесь: высшее общество (франц.).
[Закрыть] помирало со смеху и чтобы у моей кузины Лили начинались колики в печени и истерические приступы всякий раз, когда кто-то обнаружит, что мы с Ольмосами состоим в отдаленном родстве. Потому что – как она в ярости недавно меня спросила: нет, скажи на милость, кто теперь живет в Барракас, КТО? Я, естественно, ее успокоил ответом, что там НИКТО не живет, кроме каких-нибудь четырехсот тысяч пролетариев да еще такого же количества собак, кошек, канареек и кур. И прибавил, что это семейство – то есть Ольмосы – никогда не доставит нам ощутимых неприятностей, так как старик дон Панчо живет в кресле на колесах, ничего не видит и не слышит, кроме Легиона Лавалье, и невозможно себе вообразить, чтобы он когда-либо отправился делать визиты в Баррио-Норте или опубликовал свое мнение о Почо [89]89
Почо – презрительное прозвище Перона в среде аргентинских богачей. – Прим. перев.
[Закрыть]; старуха Эсколастика, хотя и была сумасшедшая, уже умерла; дядюшка Бебе, хотя и сумасшедший, живет, как говорится, затворником и интересуется лишь своими экзерсисами на кларнете; тетушка Тереса, хотя и сумасшедшая, также почила в Бозе, и, в конце концов, бедняжка всю жизнь провела в церквах и на похоронах, и ей недосуг было докучать кому-либо в привилегированном районе города – она ведь была из прихода Санта Лусия и практически никогда не пересекала colour line [90]90
Расовый барьер (англ.).
[Закрыть], даже чтобы навестить священника другого прихода, удостовериться, как протекает болезнь какого-нибудь пресвитера или в каком состоянии больной раком архиепископ. Остаются, сказал я Лили, только Фернандо и Алехандра. «Тоже двое сумасшедших!» – воскликнула моя кузина. А присутствующий при еем Манучо покачал головой и, вознеся очи горе, воскликнул: «Как говорят в „Федре“, о, deplorable race!» [91]91
О злосчастный род! (франц.) Реплика Эноны, героини драмы Ж. Расина «Федра». – Прим. перев.
[Закрыть] Надо сказать, что Лили, если только речь не идет об Ольмосах, держится довольно спокойно. Потому что для нее мир состоит из борьбы между Гадостью и Прелестью.
Примеры:
– Какая гадость этот роман!
– Послушай, извини меня, но то, что я должна тебе рассказать, это такая гадость!
– Картина Клориндо – просто гадость!
– Какая гадость – эта толпа плебеев до самой улицы Санта-Фе! (Сие по поводу перонистов.) Примеры Прелести:
– Что за прелесть последний рассказ Моники в «Насьон».
– Какая прелесть этот фильм с Мишель Морган [92]92
Морган, Мишель (род. 1920) – знаменитая французская киноактриса. – Прим. перев.
[Закрыть].
Мир разделен на Гадость и Прелесть. Нескончаемая, вечная борьба между этими двумя началами вмещает все альтернативы реальной жизни. Когда господствует Гадость, лучше бы умереть: ужасные, безвкусные моды, сложные, с богословскими претензиями романы, нудные лекции Капдевилы [93]93
Капдевила, Артуро (род. 1889) – аргентинский писатель, поэт, драматург, филолог, историк. – Прим. перев.
[Закрыть] или Ларреты [94]94
Ларрета, Энрике Родригес (1875 – 1961) – аргентинский писатель, дипломат. – Прим. перев.
[Закрыть] в доме «Друзей книги», куда непременно надо пойти, иначе обидится Альбертито, приходящие в Бог знает какое время гости, богатые родственники, которые никак не умрут («Вот гадость этот Марсело – прямо бессмертный со всеми своими поместьями!»). Когда верх берет Прелесть, жизнь становится очень приятной (еще одно словечко из лексикона Лили) или по крайней мере сносной: приятный юный друг, который вздумал писать, но все же не бросил играть в поло. Но далеко не всегда дела обстоят так славно – как я сказал, оба начала ведут постоянную борьбу, и порой действительность преподносит сюрпризы; тогда оказывается, что Ларрета (под таинственным влиянием Прелести) удачно сострил или, напротив, Ванде, которая прелесть что за портниха, вдруг взбредет подражать североамериканским вывертам, тогда: слушай, она же гадость! И вообще раньше жизнь была довольно приятной, но в последнее время, с этими перонистами, надо признать, что кругом сплошь Гадость. Такова философия моей кузины Лили. Скучища.
В эту минуту послышались голоса Ванды и заказчицы. Они вошли в комнату, а следом, чуть замешкавшись, появилась Алехандра. При виде Мартина на ее лице изобразилось удивление, и это внешнее безразличие убеждало Мартина, так хорошо ее знавшего, что она сильно раздражена, но сдерживает себя. В нелепой этой обстановке, ответив на его приветствие с поверхностной любезностью, как просто знакомому, даже не подумав хоть на миг уединиться с ним и объяснить, почему она не явилась на свидание, держась при Ванде и Коко с напускным легкомыслием, Алехандра словно бы стала существом другой расы, говорившим на чуждом Мартину языке и даже неспособным понять ту, прежнюю Алехандру.
Заказчица болтала без умолку с Вандой насчет того, что совершенно необходимо убить Перона.
– Вообще надо было бы всех перонистов перебить, – говорила она. – Нам, порядочным людям, теперь страшно на улице появиться.
Мартина одолевали все более печальные и противоречивые мысли.
– Я им говорю, – сказала женщина, расцеловавшись с Коко, – что на нас наступает коммунизм. Но я уже все продумала: если наступит коммунизм, я уезжаю в усадьбу, и точка.
И пока она рассеянно слушала, как ей представляют Мартина, Коко с насмешкой смотрел через ее плечо на Алехандру, потому что – заметил он потом – «кто, кроме этой сороки, мог бы сказануть такое!».
Мартин наблюдал за Алехандрой, старавшейся держаться равнодушно, но по лицу ее, будто уже неподвластному ее воле, проносились неизбежные и всегда зловещие тени – упрек, страдание, недоумение.
XIX
Мартин все ждал какого-нибудь знака, призыва. Наконец, будь что будет, подошел к ней и спросил, не может ли она выйти с ним ненадолго. «Хорошо», – ответила Алехандра и, обернувшись к Ванде, сказала:
– Я вернусь через несколько минут.
«Несколько минут», – подумал Мартин.
Они пошли по улице Чаркас в бар на углу улицы Эсмеральда.
– Я полтора часа ждал тебя, – сказал Мартин.
– Обнаружилась срочная работа, а предупредить тебя я не могла.
Мартин, предчувствуя катастрофу, пытался по крайней мере изменить свой тон, говорить спокойнее, равнодушнее. Но напрасно.
– При этих людях ты совсем другая. Я не понимаю, как… – он запнулся, потом прибавил: – Я думаю, ты и в самом деле другая.
Алехандра не ответила.
– Разве не так?
– Возможно.
– Скажи, – взмолился Мартин, – когда же ты – настоящая ты? Когда?
– Я всегда стараюсь быть настоящей, Мартин.
– Но как ты можешь забыть о тех минутах, которые мы пережили вместе?
– А кто тебе сказал, что я о них забыла? – Она с возмущением обернулась к нему. И чуть погодя сказала: – Вот именно потому, чтобы не сводить тебя с ума, я и не хочу тебя больше видеть.
Она сидела угрюмая, подавленная, избегала его взгляда, и вдруг он услышал:
– Я не хочу, чтобы эти минуты повторились. – И с грубой иронией прибавила: – Эти пресловутые прекрасные минуты.
Мартин смотрел на нее, и не только ее слова, но и беспощадный ее тон вызывали в нем ужас…
– Ты, конечно, спрашиваешь себя, откуда эта ирония, почему я заставляю тебя страдать. Верно?
Мартин принялся разглядывать бурое пятно на розовой грязной скатерке.
– Так вот, – продолжала она, – я сама не знаю. И не знаю, почему мне не хочется еще пережить хоть одно из этих прекрасных мгновений. Пойми, Мартин, это должно кончиться раз навсегда. Что-то тут не так. И самое честное – больше нам не видеться никогда.
На глаза Мартина навернулись слезы.
– Если ты меня оставишь, я покончу с собой, – сказал он.
Алехандра посмотрела на него очень серьезно. Затем с твердостью, к которой как-то странно примешивалась грусть, сказала:
– Я ничего не могу поделать, Мартин.
– И тебя не трогает, что я покончу с собой?
– Конечно, трогает.
– Но ты пальцем не пошевельнешь, чтобы этому помешать?
– А как я могла бы помешать?
– Значит, тебе все равно, буду ли я жить или покончу с собой?
– Я этого не сказала. Нет, мне не все равно. Мне кажется, это было бы ужасно.
– Ты бы очень страдала?
– Очень.
– Ну а дальше?
Он смотрел на нее с надеждой и тревогой, как смотрим мы в минуту неизбежной опасности, жаждая увидеть хоть намек на спасение. «Не может этого быть, – думал он. – Человек, всего несколько недель тому назад переживший со мною все то, что мы пережили, не может в действительности так думать».
– Ну а дальше? – повторил он.
– Что дальше?
– Я говорю, что могу сегодня же покончить с собой – брошусь под поезд в Ретиро или в метро. Тебе это все равно?
– Я сказала, что мне не все равно, что я буду Ужасно страдать.
– Но будешь продолжать жить?
Не ответив, она выпила остаток кофе и посмотрела на дно чашки.
– Значит, все, что мы вместе пережили в эти месяцы, все это как мусор, который надо выбросить на улицу!
– Никто тебе этого не говорил! – почти выкрикнула она.
Смущенный и страдающий, Мартин молчал.
– Я тебя не понимаю, Алехандра, – сказал он наконец. – По правде, я никогда тебя не понимал. То, что ты мне теперь говоришь, то, что ты делаешь, меняет все прошлое.
Он попытался сосредоточиться, подумать. Алехандра сидела мрачная, будто не слушая его, и, уставившись в одну точку, смотрела на улицу.
– Ну а дальше? – не унимался Мартин.
– А дальше ничего, – сухо ответила она. – Больше мы встречаться не будем. Это самое честное.
– Для меня невыносима мысль, что я больше не увижу тебя, Алехандра. Я хочу с тобой встречаться, пусть так, как ты пожелаешь…
Алехандра не отвечала, из глаз у нее потекли слезы, однако на лице было все то же жесткое и как бы отсутствующее выражение.
– Так как же, Алехандра?
– Нет, Мартин. Я ненавижу половинчатые решения. Либо будут повторяться сцены вроде этой, от которых ты так страдаешь, либо будут встречи как та, в понедельник. А я не хочу – ты понял? Не хочу больше спать с тобой. Ни за что на свете.
– Но почему? – воскликнул Мартин, беря ее за руку, чувствуя с волнением, что между ними все же остается нечто очень важное, очень-очень важное, несмотря ни на что.
– Потому! – с ненавистью во взгляде крикнула она, вырывая руку из его ладоней.
– Не понимаю тебя… – пробормотал Мартин. – Я никогда тебя не понимал…
– Из-за этого не беспокойся. Я и сама себя не понимаю. Не знаю, зачем я все это делаю. Не знаю, почему заставляю тебя страдать. – И, закрыв лицо ладонями, она воскликнула: – Какой ужас!
Не отнимая ладони от лица, Алехандра истерически зарыдала, повторяя со всхлипами: «Какой ужас! Какой ужас!»
За все время знакомства Мартин очень редко видел ее плачущей, и это всегда волновало его. Даже пугало. Словно проливал слезы смертельно раненный дракон. Но слезы эти (такими представлял он себе слезы дракона) были страшными, они говорили не о слабости, не о жажде любви, нет, то были горькие капли жгучей ненависти, капли кипящие и убивающие.
И все же Мартин решился взять ее руки, нежно, но твердо попытался оторвать их от ее лица.
– О, Алехандра, как ты мучаешься!
– И ты еще жалеешь меня! – пробормотала она сквозь зубы таким тоном, что нельзя было понять, звучит в нем ярость, презрение, ирония или скорбь или все эти чувства вместе.
– Конечно, Алехандра, конечно, жалею. Разве я не вижу, что ты безумно страдаешь? И я не хочу, чтобы ты страдала. Клянусь, это никогда не повторится.
Она постепенно успокаивалась. Наконец вытерла платочком слезы.
– Нет, Мартин, – сказала она. – Лучше нам больше не встречаться. Потому что рано или поздно придется расстаться, и тогда это будет еще тяжелее. Я не могу справиться с тем ужасом, который у меня в душе.
Она снова прикрыла лицо руками, и Мартин снова попытался их отвести.
– Не надо, Алехандра, не будем мучить друг друга. Вот увидишь. Во всем виноват я, потому что настоял на встрече. Потому что пришел к тебе. – И, пытаясь пошутить, прибавил: – Как если бы кто-то отправился искать доктора Джекила, а встретил мистера Хайда [95]95
Имеется в виду философско-психологический роман английского писателя Р.Л. Стивенсона «Странная история д-ра Джекила и м-ра Хайда» (1886), где один и тот же человек является в двух ипостасях: днем он добродетельный д-р Джекил, ночью – злодей м-р Хайд. – Прим. перев.
[Закрыть]. Ночью. В маске. С когтями Фредерика Марча [96]96
Марч, Фредерик (1897 – 1975) – американский актер, чьим первым успехом в кино была главная роль в фильме «Доктор Джекил и мистер Хайд» (1932). – Прим. перев
[Закрыть]. Правда, Алехандра? Слушай, мы будем встречаться только тогда, когда ты пожелаешь, когда ты меня позовешь. Когда ты будешь себя хорошо чувствовать.
Алехандра не отвечала.
Медленно тянулись минуты, Мартин терзался, что время уходит бессмысленно, – он знал, что она уже опаздывает, что ей надо уходить, что она сейчас уйдет и оставит его в полной безнадежности. А потом настанут черные дни, дни вдали от нее и без нее.
И случилось то, чего он ждал, – она посмотрела на наручные часы и сказала:
– Мне надо идти.
– Не будем так расставаться, Алехандра. Это ужасно. Сперва решим, что будем делать дальше.
– Не знаю, Мартин, не знаю.
– Ну, хотя бы договоримся встретиться в другой раз, без спешки. Не будем ничего решать в таком состоянии.
Когда они вышли, Мартин подумал, как мало, как чудовищно мало времени понадобится, чтобы пройти эти два квартала. Шли медленно, но все равно вскоре осталось пятьдесят шагов, потом двадцать, десять, потом ничего. И тогда Мартин в отчаянии взял ее за запястье и, сжимая его, стал снова умолять, чтобы они встретились еще хоть раз.
Алехандра взглянула на него, ее взгляд, казалось, был устремлен откуда-то издалека, из каких-то печальных, чуждых пределов.
– Обещай же, Алехандра! – молил он со слезами на глазах.
Алехандра посмотрела на Мартина долгим, жестким взглядом.
– Хорошо, пусть так. Завтра в шесть вечера, в кафе «Адам».
ХХ
Мучительно долго тянулись часы – словно взбираешься на гору, последние уступы которой почти неодолимы. Мартин был в смятении – к нервному возбуждению перед предстоящей встречей примешивалось предчувствие, что свидание это будет просто еще одним свиданием, возможно последним.
Задолго до шести он уже был в кафе «Адам» и не сводил глаз с двери.
Алехандра пришла после половины седьмого.
От вчерашней агрессивной Алехандры не осталось и следа, зато на лице ее было отсутствующее выражение, которое приводило Мартина в отчаяние.
Зачем же тогда она пришла?
Ему пришлось два или три раза повторить свой вопрос. Она заказала джин и сразу посмотрела на свои треклятые часы.
– Ну что? – с иронической грустью спросил Мартин. – Тебе уже пора уходить?
Алехандра вскинула на него затуманенные глаза и, не замечая иронии, ответила, что нет, у нее еще есть немного времени.
Опустив голову, Мартин подвигал своим стаканом.
– Зачем же ты тогда пришла? – снова не удержался он.
Алехандра смотрела на него, как бы силясь сосредоточиться.
– Я же тебе обещала, что приду. Разве нет? Едва принесли джин, она выпила его залпом. Потом сказала:
– Выйдем. Я хочу на воздух.
Когда вышли, Алехандра направилась к площади, они поднялись по газону и сели на одну из скамей, обращенных к реке.
Довольно долго сидели молча, нарушила молчание Алехандра.
– Как приятно ненавидеть друг друга! – сказала она.
Мартин посмотрел на Башню Англичан, где часы отмечали ход времени. За нею виднелась громада КАДЭ с ее высокими, толстыми дымовыми трубами и Новый Порт с подъемными кранами: изображенные абстракционистом допотопные животные, стальные клювы и головы гигантских птиц, склоненные вниз, как бы готовясь клевать суда.
Безмолвный, удрученный, смотрел Мартин, как на город ложатся сумерки, как загораются на фоне темно-синего неба красные огоньки на верхушках труб и башен, неоновые рекламы в парке Ретиро, фонари на площади. Тысячи мужчин и женщин выбегали из зияющих пастей метро и с тем же повседневным неистовством устремлялись в пасти пригородных электричек. Смотрел он на Каванаг [97]97
Небоскреб в Буэнос-Айресе. – Прим. перев.
[Закрыть], где начинали светиться окна. Там, наверху, на каком-нибудь тридцатом или тридцать пятом этаже, в комнатушке одинокого человека тоже зажигался свет. Сколько таких невстреч, как вот эта, сколько одиноких в одном этом небоскребе!
И тут он услышал то, чего все время ждал со страхом.
– Мне надо идти.
– Уже?
– Да.
Они спустились по заросшему травой склону, внизу Алехандра простилась и пошла прочь. Мартин пошел следом на небольшом расстоянии.
– Алехандра! – позвал он каким-то чужим голосом.
Она остановилась, подождала. Свет из витрины оружейного магазина падал на нее: выражение лица было жесткое, непроницаемое. Больней всего ранила Мартина эта неприязнь. Что он ей сделал? В порыве отчаяния он невольно высказал этот вопрос. Она еще сильнее сжала челюсти и отвернулась к витрине.
– Я же тебя люблю, стараюсь тебя понять. Вместо ответа Алехандра сказала, что не может
задерживаться ни минутой дольше – в восемь она должна быть в другом месте.
И вдруг он решил проследить за ней. Если она даже и заметит, хуже быть не может!
Алехандра пошла по улице Реконкиста и скрылась в маленьком баре при ресторане «Украина». С большими предосторожностями Мартин подошел туда и из темноты заглянул в окно. Сердце у него сжалось и окаменело, как если бы его вынули из груди и бросили на глыбу льда: Алехандра сидела напротив мужчины, чей вид показался Мартину столь же зловещим, как и весь этот бар. Смуглолицый, но со светлыми, возможно серыми, глазами. Зачесанные назад прямые, с проседью, волосы. Черты лица жесткие, словно топором вырубленные. В этом человеке чувствовалась не только сила, он был наделен какой-то мрачной красотой. Мартину стало так больно, он показался себе таким жалким по сравнению с незнакомцем, что все на свете стало ему безразлично. Как будто он себе сказал: «Разве может со мной случиться что-либо более ужасное?» Словно завороженный, он с грустью наблюдал за лицом незнакомца, смотрел, как тот молчит, как движутся его руки. Говорил незнакомец мало и, по-видимому, короткими, резкими фразами. Худые, нервные его руки чем-то напоминали лапы сокола или орла. Да, именно так, во всем его облике было что-то от хищной птицы: тонкий, но крепкий орлиный нос, костлявые, жадные, безжалостные руки. Этот человек был жесток и способен на все.
Мартину чудилось в нем сходство с кем-то, но он не мог сообразить с кем. В какой-то миг он подумал, что, вероятно, встречал его где-то – такое лицо невозможно забыть и, кто хоть раз видел его, тому оно непременно должно казаться знакомым.
Алехандра что-то возбужденно говорила. Странное дело, оба, видимо, были жесткого нрава и один другого ненавидели – однако эта мысль Мартина отнюдь не утешила. Напротив, сделав такое наблюдение, он еще больше затосковал. Почему? Причину он уловил не сразу, но все же уловил: этих двоих соединяла бурная взаимная страсть. Вроде бы любовь орлиной пары, свирепых птиц, которые могут и готовы друг Друга изорвать на части своими клювами и когтями, растерзать до смерти. И когда он увидел, что Алехандра двумя своими руками взяла руку, хищную лапу этого мужчины, Мартин почувствовал, что ему все безразлично и что все в мире бессмысленно.







