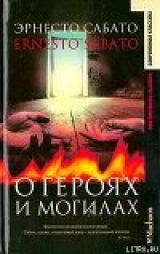
Текст книги "О героях и могилах"
Автор книги: Эрнесто Сабато
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
VII
Можно себе представить, что в мир слепых меня привело невероятное стечение случайностей: если бы я не вошел в контакт с анархистами, если бы среди этих анархистов не оказался бы такой человек, как Иглесиас, если бы Иглесиас не был фальшивомонетчиком, если бы он, даже будучи фальшивомонетчиком, не пострадал от несчастного случая, из-за которого лишился зрения, и так далее… Стоит ли продолжать? События бывают или кажутся случайными в зависимости от того, с какой точки рассматривать реальность. А почему бы не посмотреть с противоположной точки и не предположить, что все происходящее с нами повинуется конечной цели? Слепые были моей навязчивой идеей с детства, и, сколько я себя помню, у меня всегда было смутное, но неизменное желание проникнуть когда-нибудь в мир их обитания. Не окажись у меня под рукой Иглесиаса, я бы придумал другой способ, так как все силы моего ума были направлены на достижение этой цели. А когда человек энергично и систематически стремится к цели, доступной в пределах нашего детерминированного мира, когда мобилизуются не только сознательные усилия нашей личности, но самые мощные силы подсознания, то в конце концов возникает поле телепатических волн, подчиняющее других нашей воле, и даже происходят события, внешне как бы случайные, но по сути вызванные тайным могуществом нашего духа. После неудачи со слепым из метро я порою думал, что мне сгодился бы некий посредник между двумя царствами, человек, который, потеряв зрение при несчастном случае, еще оставался бы, пусть недолго, членом нашего мира зрячих и одновременно уже стоял бы другой ногой на территории слепых. И, возможно, эта все более неотвязная идея овладела моим подсознанием до такой степени, что в конце концов материализовалась, как я уже сказал, в виде незримого, но мощного магнетического поля и произвела с человеком, в нем находившимся, то действие, какого я более всего жаждал в этот момент своей жизни: несчастный случай, приведший к слепоте. Размышляя об обстоятельствах, при которых Иглесиас манипулировал с кислотами, я вспоминаю, что тому взрыву предшествовало мое появление в лаборатории и внезапная, пронзившая меня мысль, что если Иглесиас приблизится к горелке Бунзена, то случится взрыв. Предчувствие? Не знаю. А не мог ли несчастный случай каким-либо образом произойти из-за моего желания, и это происшествие, воспринятое тогда как типичное явление равнодушного материального мира, не было ли, напротив, типичным явлением того мира, где рождаются и произрастают наши самые темные наваждения? Я сам не очень-то четко помню этот эпизод, так как переживал тогда один из периодов, когда мне приходилось очень трудно, когда я чувствовал себя как капитан корабля в бурю – ураганные ветры сметают все с палубы, корпус корабля трещит под ударами волн, а я пытаюсь сохранять ясность ума, чтобы все оставалось на месте, и вся моя воля, вся энергия устремлены на то, чтобы держать верный курс, несмотря на качку и мрак. Обессиленный, я падал на кровать – мучили провалы в памяти, словно мой дух был опустошен ураганом. Лишь через несколько дней все понемногу приходило в норму, и по мере того, как волны успокаивались, люди и события реальной моей жизни постепенно являлись мне, всплывали в памяти, унылые и бледные, обескровленные и серые.
После таких периодов я возвращался к нормальной жизни, лишь смутно вспоминая о своем предыдущем существовании. Так, мало-помалу, в памяти моей снова возник Иглесиас, и я с трудом восстановил события, кульминацией которых был взрыв.
VIII
Прежде чем наметились первые результаты, был пройден долгий путь. Нетрудно вообразить, что промежуточная область, разделяющая два мира, полна неясностей, недоразумений, двусмысленностей: при затаенных и жестоких нравах мира слепых естественно, что никто не может туда пролезть без череды искусных преображений.
Я наблюдал этот процесс вблизи, по возможности не расставаясь с Иглесиасом: он был самым надежным моим средством пробраться в запретную среду и я не желал потерпеть неудачу из-за глупой оплошности. Итак, я держался рядом с Иглесиасом, поскольку это было возможно и не вызывало подозрений. Я за ним ухаживал, читал ему какие-то книги Кропоткина, беседовал о Взаимопомощи, но главное – наблюдал и ждал. У себя в комнате я повесил, чтобы было видно от изголовья моей кровати, большой лист с надписью:
НАБЛЮДАТЬ
ВЫЖИДАТЬ
Я говорил себе: рано или поздно они должны появиться, в жизни новоиспеченного слепого должен настать момент, когда ОНИ придут за ним. Момент этот, однако (говорил я себе с тревогой), момент этот может быть не очень заметен, скорее наоборот, весьма возможно, что все произойдет вполне банально, даже буднично. Надо внимательно следить за мельчайшими деталями, наблюдать за каждым, кто приблизится к Иглесиасу, пусть даже это будет человек, не внушающий подозрений – в этом случае особенно, – надо следить за письмами, телефонными звонками и тому подобным. Понятно, что мой план действий был изрядно путаный, хаотический. Чтобы представить себе, какая тревога терзала меня в те дни, достаточно подумать об одной подробности: посредником Секты, даже вполне невинным, мог оказаться кто-то из пансиона, и этот человек мог встретиться с Иглесиасом тогда, когда мне было невозможно за ним следить, мог даже поджидать его в уборной. Долгими ночами размышляя у себя в комнате, я разработал столь подробные планы слежки, что для их осуществления пришлось бы содержать целую шпионскую сеть масштаба тех, какие требуются государству в военное время, да еще при неизбежной угрозе контршпионажа, ибо хорошо известно, что любой шпион может оказаться двойником, и от этого не защищен никто. В конце концов, после тщательнейшего продумывания, от которого я чуть не спятил, я все же упростил задачу и свел ее к тому, что было мне по силам. Надо быть скрупулезным и терпеливым, действовать с отвагой и мягкостью: неудавшийся эксперимент со слепым продавцом пластинок научил меня, что быстрой и напористой лобовой атакой я ничего не добьюсь.
Я написал слово «отвага», но мог также написать «тревога». Ибо меня мучило подозрение, что после эпизода с тем ее членом Секта учредила за мной неусыпное наблюдение. И я понимал, что все предосторожности напрасны. Приведу пример: сидя в кафе на улице Пасо и делая вид, что читаю газету, я вдруг, с молниеносной быстротой, поднимал глаза, пытаясь перехватить подозрительную гримасу на лице Хуанито, загадочный блеск в его взгляде, румянец смущения. И тут же подзывал его жестом. «Хуанито, – говорил я ему в том случае, когда он краснел, – почему ты покраснел?» Он, ясное дело, отрицает. Но это тоже было превосходной уликой: если он отрицал, не покраснев, невинность его была достаточно убедительной; если же он краснел – тогда берегись! Но, логически рассуждая, сам тот факт, что он не покраснел при моем вопросе, тоже не доказывал его непричастности к заговору (потому-то я и написал «достаточно убедительной») – ведь опытному шпиону не пристало иметь слабости такого рода.
Все это можно счесть за манию преследования, однако дальнейшие события ДОКАЗАЛИ, что мое недоверие и подозрительность, к несчастью, не были таким уж безумством, как может предположить человек неподготовленный. Почему же я решался на столь рискованное приближение к бездне? А я рассчитывал на неизбежное несовершенство реального мира, где даже служба наблюдения и шпионажа слепых не может быть свободна от огрехов. И еще рассчитывал на обстоятельство, логически вполне вероятное: на вражду и дрязги, которые должны существовать в среде слепых, как во всяком другом сообществе смертных. В целом, рассуждал я, трудности, которых может ожидать зрячий при исследовании их мира, не должны слишком отличаться от тех, с которыми мог встретиться во время войны английский шпион в тщательно отлаженном, однако не избавленном от трещин и склок гитлеровском государстве.
И все же задача оказалась сугубо сложной, ибо, как можно было предвидеть, начал меняться склад ума Иглесиаса, хотя вернее было бы назвать нечто большее (и меньшее), чем склад ума, а именно его «порода» или «зоологический склад». Как если бы в результате эксперимента с генами человек начал медленно, но неукоснительно превращаться в нетопыря или в ящерицу; и страшней всего то, что во внешнем его облике ничто не обнаруживало бы столь глубокого изменения. Находиться ночью в закрытом, темном помещении одному, зная, что там есть летучая мышь, – это всегда действует на нервы, особенно если чувствуешь, что эта крылатая крыса летает вокруг тебя, и уж совсем невыносимо, если в своем жутком бесшумном полете она заденет крылом твое лицо. Но насколько ужасней будет ощущение, если эта тварь имеет человеческий облик! В Иглесиасе происходили изменения, для окружающих, возможно, незаметные, но для меня, умно и систематически его наблюдавшего, весьма явные.
С каждым днем он становился все более недоверчивым. Дело понятное: он ведь еще не был настоящим слепым, наделенным способностью уверенно двигаться в темноте, обостренными слухом и осязанием, однако уже не был способен видеть все своими глазами. У меня создалось впечатление, что он считает себя человеком пропащим: у него не было правильного ощущения расстояния, он совершал ошибки при движениях, спотыкался, с трудом нащупав стакан, неуклюже подносил его ко рту. То и дело раздражался, хотя из гордости пытался это скрыть.
– Это пустяки, Иглесиас, – говорил я, вместо того чтобы промолчать и притвориться, будто ничего не замечаю. Чем только усиливал его раздражение и обострял ответную реакцию – а именно этого я и добивался.
Потом я вдруг умолкал – пусть его, так сказать, окружает абсолютная тишина. Так вот: для слепого абсолютная тишина вокруг него – это как для нас темная пропасть, отделяющая нас от остального мира. Он впадает в растерянность, все его связи с внешним миром исчезают в том мраке, каковым для слепых является абсолютная тишина. Им приходится настороженно ловить малейший шум, опасность поджидает их со всех сторон.
В такие моменты они чувствуют себя одинокими и беспомощными. Обычное тиканье часов для них как огонек вдали, тот огонек, который в детских сказках вдруг видится устрашенному герою, когда он считает, что заблудился в чаще.
Тогда я тихонько, словно ненароком, ударял пальцем по столу или по стулу и замечал, как Иглесиас мгновенно всем своим существом устремлялся с болезненной тревогой в этом направлении. Вероятно, в одиночестве своем он спрашивал себя: чего хочет Видаль? Где он? Почему так долго молчал?
Надо сказать, что ко мне он относился с большим недоверием. Со дня на день это недоверие возрастало, и к концу трех недель, когда метаморфоза в нем завершилась, оно стало неустранимым. Был один признак, который, если теория моя верна, указывал на окончательный переход Иглесиаса в новое животное царство, на его полное преображение, – то было отвращение, которое мне внушают настоящие слепые. Это отвращение, страх или фобия возникают не сразу: на своем опыте я убедился, что они назревают тоже постепенно, пока в один прекрасный день мы не оказываемся перед фактом, вполне завершенным и устрашающим: перед нами нетопырь или рептилия. Вспоминаю тот день: уже подходя к пансиону, где жил Иглесиас после того, как ослеп, я ощутил непонятное недомогание, смутный страх, все возраставший по мере приближения к его комнате. Я даже помедлил, прежде чем постучать. Наконец, чуть не дрожа, я окликнул: «Иглесиас!», и НЕЧТО мне ответило: «Войдите!» Я отворил дверь и в темноте (разумеется, когда он был один, то света не включал) почувствовал дыхание новоявленного чудовища.
IX
Но еще до этого важнейшего мига произошли всякие другие события, о которых я должен рассказать, ибо именно они помогли мне войти в мир слепых, прежде чем завершилась метаморфоза в Иглесиасе, – а я спешил, подобно тем отчаянным вестовым на мотоциклах, которые на войне мчатся по мосту, зная, что он с минуты на минуту должен быть взорван. Я ведь чувствовал, что приближается роковой миг, когда метаморфоза завершится, и старался ускорить ход событий. Временами мне казалось, что я не успею вовремя и что мост будет взорван неприятелем прежде, чем я в своей безумной гонке сумею проскочить через пропасть.
Рассчитывая на то, что внутренний процесс в Иглесиасе идет неуклонно, я с возрастающей тревогой отмечал, как бежит время, но не видел никакого признака, что ОНИ намерены появиться.
Предположение, будто слепые не узнали, что кто-то лишился зрения и посему должен быть отыскан и включен в Секту, сперва казалось мне абсурдным. Однако равнодушный ход времени и мое все возраставшее беспокойство заставили меня задуматься над этим предположением и другими, еще более нелепыми – волнение словно затуманило мою способность рассуждать, и я даже забыл все, что знал о Секте. Могу допустить, что эмоции благоприятны для сочинения стихов или музыкальной партитуры, однако для задач чистого разума они гибельны.
Стыжусь вспоминать глупости, приходившие мне в голову, когда я начал бояться, что не успею проехать через мост. Я дошел до мысли, будто ослепший человек может оставаться один, как островок посреди огромного равнодушного океана. Иначе говоря, я размышлял о том, что произошло бы с человеком, который, вроде Иглесиаса, ослеп от несчастного случая и по особенностям своего характера не пожелал бы и не искал бы контакта с другими слепыми? Который под влиянием мизантропии, подавленности или робости не стремился бы наладить связь с обществами, представляющими видимые (и поверхностные) проявления запретного мира: с Библиотекой для Слепых, с Хорами и тому подобным? И впрямь, что может помешать человеку вроде Иглесиаса жить уединенно и не только не искать, но даже избегать сближения с подобными себе? У меня чуть не закружилась голова в тот миг, когда я вообразил себе эту идиотскую возможность (ведь идиотские мысли тоже могут нас волновать). Но я тут же постарался успокоиться. Я размышлял так: Иглесиасу надо работать, он беден, он не может пребывать в бездействии. Как работает слепой? Он должен выйти на улицу и заняться одним из тех видов деятельности, которые им отведены: продавать расчески и безделушки, портреты Гарделя и Легисамо [107]107
Легисамо – известный аргентинский жокей. – Прим. автора.
[Закрыть], пресловутые пластинки для воротничков – словом, что-нибудь такое, благодаря чему его, рано или поздно, заприметят и примут в свой круг члены Секты. Я решил ускорить процесс, убедив Иглесиаса заняться одним из этих дел. Я стал расхваливать торговлю пластинками и расписывать, сколько он мог бы выручить только в метро. Я рисовал ему будущее в розовых тонах, однако Иглесиас слушал меня молча и недоверчиво.
– У меня еще есть немного денег. Потом посмотрим.
Потом! Как горько мне было слышать это слово! Я заговорил о газетном киоске, но это также не вызвало в нем восторга.
Не оставалось ничего иного, как ждать и продолжать наблюдение, пока нужда не заставит его выйти из дому.
Повторяю, теперь мне стыдно, что я под влиянием страха дошел до такой степени идиотизма. Как это я, находясь в здравом уме, мог предполагать, будто Секте требуется нечто столь пошлое, вроде работы в газетном киоске, чтобы узнать о появлении нового слепого? А люди, видевшие Иглесиаса после несчастного случая? Врачи и сестры в больнице? И это уж не говоря о невероятных возможностях Секты, об огромной, разветвленной системе слежки и доносов, которая, наподобие чудовищной паутины, оплела весь мир. Должен, однако, сказать, что после нескольких ночей столь нелепых тревог я пришел к выводу, что предположения мои бессмысленны – совершенно невозможно, чтобы Иглесиаса оставили на произвол судьбы. Следовало бояться одного – что контакт осуществится слишком поздно для меня. Но тут уж я ничего не мог поделать.
Я, конечно, не мог все время находиться рядом с ним. И я придумывал способы следить за ним, не находясь к нему в непосредственной близости. Мною были приняты следующие меры:
1. Я дал порядочную сумму хозяйке пансиона, некой сеньоре Этчепареборда, которая, к моему удовольствию, производила впечатление умственно недалекой особы. Я попросил ее ухаживать за Иглесиасом и предупреждать меня обо всем, что может иметь к нему отношение, – разумеется, под благовидным предлогом заботы о слепом инвалиде.
2. Самого наборщика я попросил ничего не предпринимать, не посоветовавшись со мною – мол, для меня его польза превыше всего. На этот вариант я больших надежд не возлагал, имея все основания думать, что он с каждым днем будет все сильнее отдаляться от меня и его недоверие к моей особе будет лишь возрастать.
3. В пределах возможного я постарался установить самую тщательную слежку за его маневрами, на случай если ему вздумается выйти, или за маневрами тех, кто станет подходить близко к нему. Пансион его находился на улице Пасо. К счастью, метрах в двадцати было кафе, где я, подобно другим праздношатающимся, мог просиживать часами, притворяясь, будто читаю газету, или болтая с официантами, с которыми мне надо было подружиться. Было лето, и, сидя у открытого окна, я мог наблюдать за входом в здание пансиона.
4. Я воспользовался обществом Нормы Гладис Пульесе, имея в виду двойную цель: не вызывать подозрений, естественных при виде сидящего в одиночестве посетителя, и хоть отчасти заменить тему футбола и аргентинской политики скромным удовольствием, которое я получал, совращая школьную учительницу.
X
Последовавшие затем пять дней привели меня в отчаяние. Что я мог делать, кроме того, что беседовал с официантом да листал газеты и журналы? Читал я в них только два раздела, которые всегда меня привлекали: объявления и полицейскую хронику. Это единственное, что я читаю вот уже двадцать лет, единственное, что дает нам знание о природе человека и о важнейших метафизических проблемах. Например, вы читаете: «ВНЕЗАПНО ПОМЕШАВШИСЬ, МУЖ ТОПОРОМ ЗАРУБИЛ ЖЕНУ И ЧЕТВЕРЫХ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ». Мы ничего не знаем об этом человеке, кроме того, что его зовут Доминго Салерно, что он был трудолюбив и честен, что у него была лавочка в Вилья-Лугано и что он обожал свою жену и детей. И вдруг убивает их ударами топора. Глубочайшая тайна! И какое острое ощущение правды испытываешь, читая полицейскую хронику после заявлений политических деятелей! Все они напоминают каких-то ряженых шутов, мошенников, продающих средства для ращения волос, или заклинателей змей. Как можно сравнивать кого-либо из этих обманщиков с человеком чистейшей души, вроде Салерно? Волнуют меня также рекламы: «В АКАДЕМИЯХ ПИТМЭНА [108]108
Американцы братья Питмэн изобрели стенографию и первыми открыли стенографические курсы. – Прим. перев.
[Закрыть] ОБУЧАЮТСЯ ЗАВТРАШНИЕ ПОБЕДИТЕЛИ». Сияющая пара, юноша и девушка, рука об руку, улыбающиеся и торжествующие, шагают в Будущее. На другой рекламе изображен письменный стол с двумя телефонами и селектором; кресло стоит пустое, оно ждет, чтобы его заняли, а из телефонов исходят как бы лучи света и надпись гласит: «ЭТО МЕСТО ЖДЕТ ВАС». Особенно привлекает меня демагогическая реклама оптики Подеста: «ВАШИ ГЛАЗА ДОСТОЙНЫ ЛУЧШЕГО». Реклама крема для бритья подается в виде коротких историй с моралью: на первой картинке Педро, сильно бородатый, приглашает Марию Кристину на танец; на второй картинке дано крупным планом расстроенное лицо Педро и выражение глубокого неудовольствия на лице танцующей с ним Марии Кристины, которая старается отвернуться подальше; на третьей картинке она говорит подруге: «Какой противный этот бородатый Педро!» – и та ей отвечает: «Почему ты ему об этом не скажешь напрямик?»; на следующей картинке Мария Кристина говорит подруге: что сама она сказать не решается, но, может быть, подруга скажет об этом своему парню, чтобы тот посоветовал Педро побриться; на предпоследней картинке мы действительно видим, как жених подруги что-то шепчет Педро на ухо; на последней картинке крупным планом Педро и Мария Кристина – счастливые, улыбающиеся, они танцуют, он идеально выбрит с помощью знаменитого крема «Пальмоливе», и надпись гласит: «ИЗ-ЗА ПРИСКОРБНОЙ ОПЛОШНОСТИ ОН МОГ ПОТЕРЯТЬ НЕВЕСТУ».
Варианты: некто теряет возможность получить великолепную работу; или другой: его всегда обходят с повышением по службе – из глубины большого зала, заполненного письменными столами и служащими, среди которых легко обнаружить небритого Педро, на него смотрит лощеный шеф с выражением досады и отвращения. Дезодоранты: Удачная женитьба, место в замечательном учреждении, приглашение на праздник – всего этого по глупости можно лишиться из-за того, что не воспользовался дезодорантом «Одороно».
Рекламы с идеально причесанными, широко улыбающимися, но в то же время энергичными и весьма положительными мужчинами, обладателями крупных квадратных суперменских челюстей – ударяя кулаком по столу, уставленному телефонами, устремляясь всем торсом к невидимому и колеблющемуся собеседнику, они восклицают: «УСПЕХ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС!» В других случаях Супермен не стучит по столу, но энергичным, без тени колебания, жестом, тычет указательным пальцем в читателя газеты, в этого малодушного, апатичного типа, вечно растрачивающего на всякую чепуху свое Время и Выдающиеся Способности, и говорит: «В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ВЫ МОГЛИ БЫ ЗАРАБОТАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ПЕСО ЕЖЕМЕСЯЧНО», убеждая его сейчас же написать свое имя и адрес на пунктирных строчках в маленьком прямоугольнике.
Демонстрируя могучие мышцы с ободранной кожей, Мистер Атлант обращает свой призыв к слабакам всего мира: через семь дней вы заметите ощутимый Прогресс и, решительно занявшись переделкой и преображением своего тела, вскоре станете обладателями такой же фигуры, как у Мистера Атланта. Надпись: «ВСЕ ВОСХИЩАЮТСЯ ШИРИНОЙ ЕГО ПЛЕЧ», «ВАМ ДОСТАНЕТСЯ САМАЯ ХОРОШЕНЬКАЯ ДЕВУШКА И САМАЯ ЗАВИДНАЯ ДОЛЖНОСТЬ!».
Но нет ничего лучше для распространения Оптимизма и Добрых Чувств, чем «Ридерз дайджест» [109]109
«Ридерз дайджест» – популярный американский литературно-политический журнал. – Прим. перев.
[Закрыть]. Статья господина Фрэнка И. Эндрюса, озаглавленная «Когда собираются владельцы отелей», начиналась так: «Знакомство с лучшими владельцами отелей, прибывшими в Соединенные Штаты в качестве представителей своих коллег из испаноамери-канских стран, было для меня одним из самых волнующих моментов в жизни». И затем сотни статей, предназначение коих поднять дух у бедняков, прокаженных, хромых, страдающих Эдиповым комплексом, глухих, слепых, немых, глухонемых, эпилептиков, туберкулезных, больных раком, парализованных, макроцефалов, микроцефалов, детей или внуков буйнопомешанных, страдающих плоскостопием, астматиков, умственно отсталых, заик, людей с дурным запахом изо рта, несчастливых в браке, ревматиков, у художников, потерявших зрение, у скульпторов, потерявших обе руки, у музыкантов, потерявших слух (вспомните о Бетховене!), у атлетов, оставшихся после войны парализованными, у отравленных газами в первую мировую войну, у безобразных женщин, детей с заячьей губой, гнусавых, у робких торговцев, у долговязых, низкорослых (почти карликов), у весящих более двухсот кило и т. д. Заглавия: «С ПЕРВОЙ РАБОТЫ МЕНЯ ПРОГНАЛИ ВЗАШЕЙ», «НАШ РОМАН НАЧАЛСЯ В ЛЕПРОЗОРИИ», «Я ЖИВУ СЧАСТЛИВО, ХОТЯ БОЛЕН РАКОМ», «Я ПОТЕРЯЛ ЗРЕНИЕ, ЗАТО ПРИОБРЕЛ БОГАТСТВО», «ВАША ГЛУХОТА МОЖЕТ СТАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВОМ» и т.д. и т.п. Выйдя из бара и нанеся обычный мой вечерний визит в пансион, я еще полюбовался на Пласа-Онсе большой рекламой, предлагавшей вермишель «Санта Каталина», и, хотя я не помнил, кто она была, эта святая Екатерина, я вполне допускал, что она претерпела мученичество, ибо мученичество всегда было профессиональной обязанностью святых; и я не мог не задуматься над странным свойством человеческого существования – над тем, что человека распнут или заживо сдерут с него кожу, а со временем он превращается в фирменную марку вермишели или каких-нибудь там консервов.



































