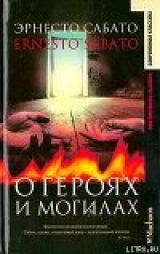
Текст книги "О героях и могилах"
Автор книги: Эрнесто Сабато
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Эрнесто Сабато
О героях и могилах
Ernesto Sábato
SOBRE HÉROES Y TUMBAS
© Е. ЛЫСЕНКО, перевод с испанского, 2003
Существует род художественного творчества, через которое автор пытается избавиться от наваждения, ему самому не вполне понятного. Хорошо это или плохо, но я способен писать лишь в таком роде. Есть еще разные непонятные истории, которые я, будучи подростком, не мог не писать. К счастью, издавать их я не спешил и только в 1948 году решился опубликовать одну из них – «Туннель». В последующие тринадцать лет я продолжал исследовать темный лабиринт, ведущий к главной тайне нашей жизни. Не раз и не два пробовал я изложить плоды моих изысканий, однако, разочарованный жалкими результатами, в конце концов уничтожал написанное. Но вот теперь несколько друзей, прочитав мою рукопись, убедили меня отдать ее в печать. Хочу здесь выразить им всем благодарность за доверие и за их веру в меня, которой у меня самого, к сожалению, никогда не было.
Посвящаю этот роман женщине, стойко поддерживавшей меня в периоды упадка, которые у меня так часты. Без нее я вряд ли смог бы довести дело до конца. И хотя она достойна лучшего, но и в таком виде, со всеми несовершенствами, книга эта принадлежит ей.
Предварительное сообщение
Данные первого осмотра показали, что бывший бельведер, служивший Алехандре спальней, был заперт на ключ изнутри самою Алехандрой. Затем (через какое время, точно определить невозможно) она застрелила своего отца четырьмя пулями из револьвера тридцать второго калибра. После чего разлила керосин и подожгла.
Эта трагедия, потрясшая весь Буэнос-Айрес, ибо речь шла о старинной аргентинской семье, могла сперва показаться следствием приступа безумия. Однако теперь в первоначальную схему вторгся новый элемент, ее нарушающий. В квартире, которую под вымышленным именем занимал в Вилья-Девото [1]1
Вилья-Девото – район Буэнос-Айреса. – Прим. перев.
[Закрыть] Фернандо Видаль, было обнаружено странное «Сообщение о слепых», завершенное им в ночь своей гибели. По имеющимся у нас сведениям, это рукопись параноика. Тем не менее, полагают, что из нее можно извлечь данные, которые проливают свет на совершенное преступление и опровергают гипотезу о безумии в пользу гипотезы более мрачной. Если эта версия подтвердится, станет также понятно, почему Алехандра не покончила с собой двумя оставшимися в револьвере пулями, а предпочла самосожжение.
(Из полицейской хроники, опубликованной в газете «Расон» от 28 июня 1955 года, выходящей в Буэнос-Айресе)
I. Дракон и принцесса
I
Однажды в майскую субботу 1953 года, за два года до событий в Барракас [2]2
Барракас – район Буэнос-Айреса. – Прим. перев.
[Закрыть], по одной из дорожек парка Лесама шагал высокий сутулый юноша.
Он сел на скамью возле статуи Цереры да так и застыл в неподвижности, погруженный в свои мысли. «Как лодка, дрейфующая по большому озеру, с виду спокойному, но с глубокими и сильными подводными течениями», – подумал Бруно, когда после гибели Алехандры Мартин сбивчиво, отрывочно рассказал ему кое-что из того, что было связано с сообщением о ее смерти. И Бруно не только подумал это, но понял – еще бы! – ибо тот семнадцатилетний Мартин напомнил ему собственного его предка, давнего Бруно, который иногда смутно виделся ему за далью туманного пространства в тридцать лет, – пространства, обогащенного и опустошенного любовью, разочарованием и смертью. Он меланхолически воображал себе Мартина в старом парке, при сумеречном свете, медлящем на скромных статуях, на задумчивых бронзовых львах, на дорожках, покрытых увядшими мертвыми листьями. Видел его в тот час, когда становятся слышны тихие шорохи, а сильные шумы постепенно отдаляются, вроде того, как стихают чересчур громкие разговоры в комнате умирающего; и тогда ропот фонтана, шаги прохожего, щебетанье птиц, без устали мостящихся в своих гнездах, далекий крик ребенка обретают необычную значительность. В эти секунды происходит таинственное событие: наступает ночь. И все вокруг меняется: деревья, скамьи, пенсионеры, там и сям разжигающие костры из сухих листьев, сирена парохода в Дарсена-Сур [3]3
Дарсена-Сур – порт в Буэнос-Айресе. – Прим. перев.
[Закрыть], глухие отзвуки города. Это час, когда все погружается в существование более глубокое и загадочное. Но также более опасное для одиноких людей, которые молча и задумавшись сидят на скамьях в парках и на площадях Буэнос-Айреса.
Мартин поднял с земли обрывок газеты, клочок, имевший очертания какой-то страны – несуществующей, но возможной. Машинально прочел слова о Суэце, о коммерсантах, которых отправляют в тюрьму в Вилья-Девото, о речи Георгиу по прибытии. С оборотной стороны, наполовину заляпанной грязью, виднелся снимок: «Перон [4]4
Перон де ла Coca, Хуан Доминго (1895 – 1974) – государственный и политический деятель Аргентины, генерал. В 1946 – 1955 гг. – президент, основатель Перонистской партии, в идеологии которой сочетались идеи корпоративизма, национал-реформизма и социального христианства. Правительство Перона сделало ряд уступок народным массам, проводило национализацию предприятий, но в дальнейшем перешло к репрессиям. В 1955 г. Перон был свергнут и находился в эмиграции до июня 1973 г., а в сентябре был вновь избран президентом. – Прим. перев.
[Закрыть] посещает театр Диссеполо [5]5
Речь идет о театре братьев Диссеполо, аргентинских драматургов; старший из них, Армандо (род. 1887), во время действия романа еще жив, младший, Энрике, скончался в 1951 г. – Прим. перев
[Закрыть]». Ниже заметка о том, как бывший солдат зарубил топором свою жену и еще четырех человек.
Мартин отшвырнул клочок. «Почти никогда ничего не происходит, – скажет ему Бруно через несколько лет, – пусть даже чума где-нибудь в Индии выкосит девять десятых населения». Он снова увидел размалеванное лицо своей матери, когда она говорила: «Ты существуешь, потому что я прозевала». Храбрости, да, да, просто храбрости ей не хватило. Иначе угодил бы он в клоаку.
Матьклоака.
– И вдруг, – сказал Мартин, – я почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной и смотрит на меня.
Несколько секунд он сидел, застыв в той выжидающей, напряженной неподвижности, что сковывает нас, когда в темной спальне нам чудится подозрительный скрип половиц. У него уже не раз бывало это ощущение в затылке, однако обычно оно было стесняющим, неприятным; он ведь всегда считал себя (объяснил Мартин) некрасивым и нелепым, и само предположение, что кто-то за его спиной изучает его или хотя бы наблюдает, раздражало; поэтому в трамваях и автобусах он усаживался в самом конце и в кинозал входил, когда свет уже был погашен. Но на этот раз он почувствовал что-то иное.
– Что-то, – он запнулся, как бы подыскивая подходящее слово, – что-то тревожащее, похожее на подозрительный скрип, который мы слышим или чудится нам, что слышим, глубокой ночью.
Мартин сделал усилие, чтобы не отвести глаза от статуи, но на самом-то деле он ее уже не видел: глаза его были обращены внутрь, как бывает, когда думаешь о прошлом и пытаешься восстановить смутные воспоминания, требующие полной сосредоточенности духа.
«Кто-то старается вступить со мной в контакт», – взволнованно, по его словам, подумал он.
Чувство, что за ним наблюдают, по обыкновению усугубило его застенчивость: он считал себя уродливым, нескладным, неуклюжим. Даже его семнадцать лет казались ему достойными осмеяния.
«Да это вовсе не так», – скажет ему через два года девушка, которая в тот момент стояла у него за спиной; огромный срок – думал Бруно – ведь измеряется он не месяцами и даже не годами, но, как это присуще подобному сорту людей, катастрофами духа и днями полного одиночества и несказанной печали; днями, которые удлиняются и искривляются, как тени-призраки на стенах времени. «Да это вовсе не так, ну нисколечко», – и, как художник изучает свою модель, она разглядывала его, нервно посасывая неизменную сигарету.
«Погоди», – говорила она.
«Нет, ты не просто славный парень», – говорила она.
«Ты интересный и глубокий человек, да и внешность у тебя очень необычная».
«Ну да, конечно», – соглашался Мартин, горько улыбаясь и думая: вот видишь, я прав, ведь такое говорится, когда ты отнюдь не славный парень, а все прочее уже не имеет значения.
«Но я же тебе сказала: погоди, – с раздражением ответила она. – Ты длинный и узкий, как типы Эль Греко».
Мартин что-то хмыкнул.
«Да помолчи ты», – с возмущением продолжала она тоном ученого, которого перебили или отвлекли какими-то пустяками в тот самый момент, когда он вот-вот должен был найти желанную формулу. Снова принимаясь жадно сосать сигарету, как обычно в минуты сосредоточенности, и сильно хмуря брови, она прибавила:
«Но знаешь, будто в нарушение этой схемы испанского аскета, тебя выдают чувственные губы. И кроме того, глаза у тебя влажные. Да молчи ты, я знаю, тебе совсем не нравится то, что я говорю, но дай мне закончить. Думаю, что вопреки твоим предположениям женщины должны находить тебя привлекательным. И даже выражение твоего лица. Смесь чистоты, грусти и подавляемой чувственности. Но кроме того… минуточку… Есть какое-то беспокойство в глазах под выступом лба, нависающего вроде балкона. Впрочем, не знаю, нравится ли мне в тебе именно это. Возможно, тут что-то другое… То, что твой дух господствует над плотью, как если бы ты постоянно держался по стойке «смирно!». Ладно, «нравится» – это, пожалуй, не то слово, скорее, меня поражает, или восхищает, или раздражает, сама не пойму… Твой дух царит над телом, как суровый диктатор. Ну как если бы Пию XII пришлось сторожить публичный дом. Брось, не сердись, я знаю, ты ангельское существо. Кроме того, я же говорю, я сама не знаю, нравится ли мне это в тебе или же я это больше всего ненавижу».
Он изо всех сил старался не отводить глаз от статуи. Сказал, что в тот момент его пронзили страх и жгучее желание: страх обернуться и неодолимое желание сделать это. Он вспомнил, как однажды в ущелье Умауака [6]6
Умауака – горная цепь на севере Аргентины (провинция Жужуй); во время Войны за независимость испанских колоний в Америке (1810 – 1826) там находилась база Северной армии; теперь в ущелье Умауака расположен туристский центр. – Прим. перев.
[Закрыть], на краю Гарганта-дель-Дьябло [7]7
Букв.: Глотка Дьявола.
[Закрыть], когда он смотрел в зияющую бездну у своих ног, неодолимая сила толкнула его вдруг перескочить на другую сторону. И в эту минуту с ним происходило нечто подобное: что-то словно бы толкало его перескочить через темную бездну «на другой край моего существования». И эта сила, бессознательная, но неодолимая, заставила его повернуть голову.
Едва увидев ее, он мгновенно отвел взгляд и снова уставился на статую. Он страшился людей: они казались ему непредсказуемыми, но главное, извращенными и порочными. Статуи же, напротив, доставляли ему спокойную радость, они принадлежали к миру стройности, красоты и чистоты.
Но видеть статую он уже был не в состоянии – перед глазами стоял мимолетный образ незнакомки: синее пятно ее юбки, чернота прямых длинных волос, бледность обращенного к нему лица. Это были словно бы цветные пятна на беглом эскизе художника – никаких деталей, указывающих на определенный возраст или тип. Но он знал – Мартин выделил это слово, – что в его жизни произошло нечто очень важное; знал не по тому, что увидели его глаза, но по мощному, воспринятому им в безмолвии сигналу.
– Вы мне об этом много раз говорили, Бруно. Что события происходят редко, что они почти никогда не происходят. Кто-то там переплывает Дарданеллы, кто-то стал канцлером в Австрии, чума в десять раз уменьшила население какой-то области в Индии, а для тебя все это не имеет значения. Вы сами говорили мне, что это ужасно, но это так. И напротив, в тот момент у меня было четкое ощущение, что что-то произошло. Что-то такое, что изменит весь ход моей жизни.
Он не мог точно сказать, сколько прошло времени, но помнил, что после промежутка, показавшегося ему бесконечным, почувствовал, что девушка поднимается и уходит. И тогда он на нее посмотрел: она была высокого роста, в левой руке держала книгу и шагала с какой-то нервной энергией. Мартин невольно поднялся и пошел за нею. Но вдруг, спохватившись и подумав, что она может обернуться и заметить его, идущего следом, в испуге остановился. И тут он увидел, что она идет в гору по улице Брасиль по направлению к улице Балькарсе.
Вскоре она скрылась из виду.
Он медленно побрел к своей скамье и снова сел.
– Но, – сказал он Бруно, – я уже не был тем человеком, что прежде. И больше никогда им не стал.
ІІ
Прошло много дней, насыщенных волнением. Потому что он знал, что увидит ее снова, был уверен, что она вернется на то самое место.
За все это время он ничем иным не занимался, только думал о незнакомой девушке и каждый вечер усаживался на ту скамью, чувствуя в душе ту же смесь страха и надежды.
Пока однажды, подумав, что все это сплошная нелепость, он не решил сходить в Боку [8]8
Бока – район Буэнос-Айреса, примыкающий к портовой зоне. – Прим. перев
[Закрыть], вместо того чтобы еще раз со смехотворным упорством идти к скамье в парке Лесама. И он шел уже по улице Альмиранте-Браун, как вдруг повернул обратно к привычному месту – сперва не торопясь и как бы колеблясь и робея, затем со все возрастающей спешкой, пока прямо-таки не побежал, будто боясь опоздать на условленное свидание.
Да, она была там. Он издали увидел, что она идет ему навстречу.
Мартин остановился, ощущая, как колотится его сердце.
Девушка подошла к нему и, стоя уже совсем близко, сказала:
– Я тебя ждала.
Мартин почувствовал, что у него слабеют ноги.
– Меня? – спросил он, краснея.
Он не смел на нее взглянуть, но заметил, что на ней был черный свитер с высокой горловиной и юбка, тоже черная или очень темного синего цвета (этого он сказать точно не мог, да и какое это имело значение). Глаза, показалось ему, у нее были черные.
– Черные? – спросил Бруно.
Да нет же, это ему так показалось. И когда он увидел ее во второй раз, то с удивлением обнаружил, что глаза у нее темно-зеленые. Возможно, первое впечатление объяснялось сумерками или его робостью, не позволявшей взглянуть на нее прямо, а верней всего, и тем и другим. И еще он при второй встрече увидел, что ее длинные прямые волосы, которые ему показались такими черными, на самом деле были с рыжеватым оттенком. Впоследствии ее портрет уточнился: губы пухлые, рот большой, пожалуй, слишком большой, складки в уголках рта опускались книзу, словно бы с горечью и презрением.
«Описывать мне внешность Алехандры, – сказал себе Бруно, – какое у нее лицо, какие складки у рта!» И он подумал, что именно эти презрительные складки и мрачный блеск в глазах более всего отличали лицо Алехандры от лица Хеорхины, которую он на самом-то деле любил. Потому что теперь он понял, что по-настоящему любил Хеорхину и, когда полагал, что влюбился в Алехандру, на самом-то деле стремился к матери Алехандры – подобно средневековым монахам, которые старались обнаружить изначальный текст под слоем реставрации, под зачеркнутыми и замененными словами. И это безумие было причиной столь печальных невстреч с Алехандрой, и Бруно иногда испытывал то же чувство, какое могло бы охватить его, если бы после долгих-долгих лет отсутствия он вернулся в дом своего детства и, попытавшись ночью открыть какую-то дверь, наткнулся бы на стену. Несомненно, ее лицо было почти копией лица Хеорхины: те же черные волосы с рыжеватым оттенком, те же серо-зеленые глаза, тот же большой рот, те же монгольские скулы, та же матовая, бледная кожа. Но это «почти» жестоко ранило, и ранило тем сильнее, чем было незаметней, неощутимей – тогда иллюзия становилась еще более глубокой и болезненной. Потому что костей и плоти – думал он – еще недостаточно, чтобы создать лицо; вот почему в лице куда меньше физического, чем в теле; от лица неотделимы взгляд, складка рта, морщины, вся совокупность тончайших признаков, через которые душа обнаруживает себя в плоти. Вот почему в тот миг, когда человек умирает, его тело превращается в нечто иное, настолько иное, что мы могли бы сказать «как будто другой человек», хотя у него те же кости, та же плоть, что за секунду до того, всего за одну секунду до таинственного этого мгновения, когда душа покидает тело и оно остается столь же мертвым, как дом, откуда ушли навсегда существа, что в нем обитали, а главное, страдали и любили в нем. Потому что облик дома создают не стены, не потолок, не пол, но люди, в нем живущие, их разговоры, их смех, их любовь и ненависть; люди, наполняющие дом чем-то нематериальным, но характерным, чем-то столь же мало материальным, как улыбка на лице, хотя делается это с помощью разных предметов вроде ковров или книг, или даже красок. Ибо картины, которые мы видим на стенах, цвета, в которые окрашены двери и окна, узоры на коврах, букеты в комнатах, пластинки и книги, хотя и материальны (все равно как губы и брови на лице), тем не менее, они – проявление души, так как душа не может проявить себя для наших материальных глаз иначе как посредством материи, и в этом есть некая ущербность души, но также особая утонченность.
– Как? Как она сказала? – спросил Бруно.
«Я пришла, чтобы встретиться с тобой», – сказала Алехандра, по словам Мартина.
Она села на траву. И в лице Мартина, видимо, появилось удивленное выражение, потому что девушка прибавила:
– Ты, может быть, не веришь в телепатию? Это было бы странно, тип у тебя как раз подходящий. Когда я в прежние дни видела тебя на этой скамейке, я знала, что в конце концов ты обернешься. Разве не так? Ну вот, и сегодня я была уверена, что ты вспомнишь обо мне.
Мартин ничего не ответил. Сколько раз потом повторялись такие сцены! Она угадывала его мысль, а он молча слушал. У него было отчетливое чувство, что он ее знал раньше, чувство, иногда возникающее у нас, будто мы этого человека видели в какой-то прежней жизни, чувство столь же похожее на действительность, как сновидение – на события вчерашнего дня. И должно было пройти еще немало времени, пока Мартин понял, почему Алехандра показалась ему смутно знакомой, и тогда Бруно снова усмехнулся про себя.
Мартин смотрел на нее с восхищением: черные волосы в контрасте с матовой, бледной кожей, высокий рост, угловатость; что-то в ней было от модели из модного журнала, но в то же время и суровость и глубина, какие не встречаются у женщин этого типа. Очень-очень редко Мартину случалось уловить оттенок нежности в ее лице, один из тех оттенков, которые считают характерными для женщины и особенно для матери. Улыбка ее была жесткой и саркастичной, смех – резким, как движения и характер в целом. «Я с трудом научилась смеяться, – сказала она однажды, – но все равно я никогда не смеюсь от души».
– И однако, – прибавил Мартин, глядя на Бруно с той страстностью, с какой влюбленные стараются заставить других признать достоинства любимого существа, – и однако, разве не правда, что мужчины и даже женщины оборачивались на нее?
И Бруно, кивая в знак согласия и забавляясь в душе этим наивным проявлением гордости, подумал, что так оно и было, что Алехандра в любом обществе везде и всегда привлекала внимание не только мужчин, но и женщин. Хотя и по разным причинам. Алехандра женщин терпеть не могла, просто ненавидела, утверждала, что они презренные существа, и говорила, что может поддерживать дружбу только с некоторыми мужчинами; и женщины в свой черед ненавидели ее столь же сильно и по тем же причинам, что вызывало у Алехандры презрительное безразличие. Хотя, ненавидя ее, они наверняка втайне не могли не восхищаться ее внешностью, которую Мартин называл экзотической и которая парадоксальным образом являла собой аргентинский тип, нередкий и в других южноамериканских странах, когда цвет лица и черты белого сочетаются с монгольскими скулами и индейским разрезом глаз. И эти глубокие, тревожные глаза, большой, презрительный рот, эта смесь противоречивых чувств и страстей, сквозивших в ее чертах (желание и усталость, энергия и рассеянность, почти свирепая чувственность и отвращение, порожденные чем-то смутным и сокровенным) – такое лицо, увидев раз, забыть было невозможно.
Мартин тоже сказал, что, даже если бы между ними ничего не произошло, если бы ему случилось с ней увидеться и говорить лишь однажды и о каком-нибудь пустяке, он бы не смог забыть ее лицо до конца своих дней. И Бруно думал, что это правда, потому что в Алехандре было нечто большее, чем красота. Или, вернее, нельзя было с уверенностью сказать, что она красива. Это было нечто иное. Она была необычайно привлекательна для мужчин, что можно было заметить, идя рядом с нею. Вид у нее был одновременно рассеянный и сосредоточенный, как будто она размышляет над какой-то страшной тайной и целиком погружена в себя, – несомненно, всякий, встречая ее, задавался вопросами: кто эта женщина? чего она хочет? о чем думает?
Та первая встреча была для Мартина решающей. До тех пор женщины ему представлялись либо чистыми и героическими девами из легенд, либо легкомысленными, ветреными созданьями, сплетницами и неряхами, эгоистками и болтуньями, коварными и практичными («как собственная мамаша Мартина», – подумал Бруно, приписав эту мысль Мартину). И вдруг он встретил женщину, не укладывавшуюся ни в одну из этих двух схем, казавшихся ему до их встречи единственно возможными. Долго еще его смущало это открытие, эта неожиданная разновидность женщины, которая, чудилось ему, обладала кое-какими добродетелями героинь, восхищавших его в книгах для подростков, но, с другой стороны, обнаруживала такую чувственность, какой он наделял лишь ненавистный ему сорт женщин. И даже впоследствии, уже после гибели Алехандры, после их мучительной бурной связи, ему не удавалось найти разгадку этой тайны, и он спрашивал себя, как бы он поступил при той второй их встрече, угадай он, что Алехандра такова, какой оказалась. Убежал бы?
Бруно молча посмотрел на него: «Да, как бы он поступил?»
Мартин в свой черед посмотрел на Бруно с пристальным вниманием и несколько секунд спустя сказал:
– Я так страдал с нею, что не раз был на грани самоубийства.
«И все же, при всем этом, даже зная заранее, что со мною произойдет, я бы побежал за ней».
«Разумеется, – подумал Бруно. – И кто из мужчин, мальчик или взрослый, глупый или мудрый, не поступил бы так же?»
– Она завораживала меня, – добавил Мартин, – как мрачная пропасть, и если я впадал в отчаяние, то именно потому, что я ее любил и нуждался в ней. Ведь то, к чему человек равнодушен, не может довести до отчаяния.
Он надолго задумался, потом снова вернулся к своей навязчивой теме: он стремился вспомнить (попытаться вспомнить) минуты, проведенные с нею, как влюбленные перечитывают хранимое в кармане старое любовное письмо, когда тот, кто его написал, ушел навсегда; и, как строки письма, воспоминания ветшали и стирались, целые фразы терялись в складках души, выцветали чернила и с ними дивные, магические слова, порождавшие чары. И тогда приходилось напрягать память, как, бывает, напрягаешь зрение, приближая к глазам измятый, пожелтевший листок. Да, да, она его спросила, где он живет, и при этом сорвала травинку и стала жевать ее (это ему запомнилось очень четко). А потом спросила, с кем он живет. С отцом, ответил он. И после минутного колебания прибавил, что и с матерью. «А чем занимается твой отец?» – спросила тогда Алехандра, на что он ответил не сразу, но потом все же сказал, что отец у него художник. Однако на слове «художник» голос его чуть изменился, прозвучал как-то надтреснуто, и Мартин испугался, что это может привлечь ее внимание, как непременно привлек бы внимание прохожих человек, шагающий по стеклянной крыше. И Алехандра действительно заметила что-то странное в его тоне – потому что наклонилась к нему и внимательно на него посмотрела.
– Ты покраснел, – заметила она.
– Я? – удивился Мартин.
И как всегда бывает в таких случаях, покраснел еще сильней.
– Да что с тобой? – допытывалась она, перестав жевать стебелек.
– Со мной? Ровно ничего.
Наступила недолгая пауза, потом Алехандра растянулась навзничь на траве, опять занявшись стебельком. А Мартин, наблюдая за сражением крейсероподобных ватных облаков, думал, что ему, собственно, нечего стыдиться неудач отца.
Донесся с Дарсены гудок парохода, и Мартин подумал: «Coral Sea [9]9
Коралловое море (англ.).
[Закрыть], Маркизские острова». Но сказал другое:
– Алехандра – редкое имя.
– А твоя мать? – спросила она.
Мартин сел и принялся обрывать травинки вокруг. Обнаружил камешек и стал изучать его с видом геолога.
– Ты меня не слышишь?
– Слышу.
– Я спросила про твою мать.
– Моя мать, – ответил Мартин еле слышно, – клоака.
Алехандра привстала, опершись на локоть и пристально глядя на него. Мартин не сводил глаз с камешка и молчал, крепко сжимая челюсти и думая «клоака, матьклоака». Потом прибавил:
– Я всегда был ей помехой. С самого рожденья. Он чувствовал себя так, будто в душу ему под
тысячефунтовым давлением вкачали ядовитые, зловонные газы. С каждым годом все более распираемая ими душа уже не вмещалась в теле и в любой момент грозила извергнуть сквозь трещины потоки нечистот.
– Она всегда кричит: «Почему я прозевала!»
«Как будто в душе моей скопилась под сильным давлением вся грязь моей матери», – подумал он под взглядом Алехандры, лежавшей на боку. И такие словечки, как «плод», «ванна», «мази», «живот», «аборт», плавали в его мозгу, в мозгу Мартина, будто липкие, тошнотворные отбросы в застоявшейся, тухлой воде. И, точно разговаривая с самим собой, он прибавил, что долго думал, будто мать не кормила его грудью из-за того, что у нее не было молока, пока однажды она не крикнула ему, что не кормила, не желая портить фигуру, и еще объяснила, что делала все возможное, чтобы скинуть плод, все, кроме чистки, потому что боялась боли, зато любила карамельки и шоколад, любила читать модные журналы и слушать мелодичную музыку. Хотя говорила, что ей, мол, нравится и серьезная музыка, например венские вальсы. Так что можно себе представить, с какой радостью встретила она ребенка, после того как месяцами прыгала через веревку, как боксеры, и била себя по животу, по каковой причине (объясняла ему, крича, мать) он и получился придурком и еще чудо, что не угодил в клоаку.
Мартин умолк, снова оглядел камешек, потом отшвырнул его.
– Наверно, поэтому, – прибавил он, – всегда, когда я о ней думаю, мне на ум приходит слово «клоака».
И он снова засмеялся каким-то нехорошим смехом.
Алехандра взглянула на него, удивляясь, как это у него хватает еще духу смеяться. Но, увидев на его глазах слезы, вероятно, поняла, что то, что она услышала, было не смехом, а (так уверял Бруно) тем странным звуком, который существа человеческие издают в необычных обстоятельствах и который – быть может, по бедности нашего языка – мы пытаемся определить как смех или как плач; ибо это результат чудовищного сочетания фактов достаточно мучительных, чтобы вызвать плач (и даже безутешный плач), и событий достаточно гротескных, чтобы превратить этот плач в смех. Вот и получается некое гибридное, жуткое клохтанье, возможно, самый жуткий из звуков, какие способен издать человек, и самый неподвластный нашей воле, ибо слишком сложны смешанные чувства, его породившие. Слыша его, испытываешь то же противоречивое ощущение, что при виде иных горбунов или безногих. Горести Мартина копились постепенно на его детских плечах как все возраставшее, непомерное (но также гротескное) бремя – и он всегда чувствовал, что должен двигаться осторожно, как канатоходец, который по проволоке переходит через пропасть с каким-то гадким, дурно пахнущим грузом, вроде огромных мешков с грязью и экскрементами, и, когда он сосредоточивает все свое внимание на том, чтобы пройти и не свалиться в пропасть, в черную пропасть своего существования, визгливые мартышки да маленькие, крикливые, вертлявые клоуны кричат ему обидные слова, насмехаются над ним и затевают на мешках с грязью и экскрементами адскую возню, осыпая его бранью и издевками. Столь трагикомическое зрелище (по его мнению) непременно вызывает у зрителей горечь, смешанную с невероятным, чудовищным весельем; по этой-то причине он не считал себя вправе отдаться простому плачу даже перед таким созданьем, как Алехандра, созданьем, которое он словно бы ждал целый век; нет, им владело чувство долга, почти профессионального долга паяца, убитого горем, – превратить плач в гримасу смеха. Однако по мере того, как он высказывал Алехандре свои немногие «ключевые» слова, ему становилось все легче, и в какой-то миг он подумал, что эта смеющаяся гримаса может в конце концов перейти в безудержный, судорожный, теплый плач; о, если б он мог припасть к ней, словно бы перейдя наконец ту пропасть. И он так бы и сделал, хотел бы так сделать, Бог мой, но не сделал; нет, он только слегка опустил голову и отвернулся, чтобы скрыть слезы.








