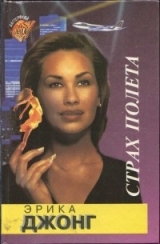
Текст книги "Страх полета"
Автор книги: Эрика Джонг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Пока я поднималась по холму и размышляла о страшных немецких сказках, бросающих напуганных маленьких девочек на произвол судьбы в дремучих лесах, внезапно заглох фольксваген. Опасаясь, что я вот-вот скачусь с горы вниз, я переключила передачи с третьей на вторую и спустя некоторые время застряла снова; в конце концов, я бы выкарабкалась на первой, но этого не пришлось делать, так как я была на вершине.
Там была крохотная башенка, построенная из красного песчаника, с покрытой мхом лестницей с покатыми ступеньками, ведущей к смотровой площадке. Я забралась туда и встала на мыски, чтобы оглядеться вокруг, и это было удивительно прекрасно: виднелся город, сверкала река, розоватые неуклюжие развалины. Почему летописцы Третьего Рейха говорили все о Германии кроме того, что она прекрасна? Прекрасные пейзажи и безобразные люди. Можем ли мы справиться с такой иронией?
Спустившись с башенки, я решила проехать вглубь леса. Через некоторое время я наткнулась на милый маленький ресторанчик Waldschenke (то есть «Лесная таверна») с характерными бюргерами, летом пьющими пиво перед рестораном, а зимой потягивающими подогретое вино с пряностями. Там я оставила машину и двинулась дальше прямо через лес (хруст листьев под ногами, иголки сосновые падали на голову, солнце закрыто листьями). Так как скамьи амфитеатра были расположены прямо на склоне холма, то вход в него был с вершины. Внезапно театр распахнулся предо мной – ряд за рядом, заросшие травой сиденья, литровая бутылка со стаканом, обертки конфет, кожура бананов. В центре был укреплен флагшток – для флага со свастикой или германским орлом.
Но больше всего изумляла окружающая обстановка: гигантская сосновая чаша, притулившаяся в глубине неземного покоя сказочных лесов. Священная земля. Сначала поклонялись Одину, затем Иисусу, а потом Гитлеру. Мне захотелось броситься вниз по рядам скамеек и, стоя в самом центре арены, читать свои стихи лесному эху.
Однажды я сказала Хорсту, что хочу написать об амфитеатре.
– Почему? – спросил он.
– Потому, что все делают вид, что его нет, – ответила я.
– Ты думаешь, это достаточная причина?
– Да.
Я пришла в Гейдельбергскую центральную библиотеку и начала просматривать путеводители. В основном это была тоска зеленая: глянцевые фотографии Шлосса и каких-то одутловатых лиц, скорее всего, политических деятелей. Я не нашла упоминаний об амфитеатре нигде. Я вернулась к началу груды путеводителей, бегло просмотренных мной. Наконец я нашла публикацию 1937 года, в ней в десяти местах или около того оказалась черно-белая фотография какой-то дубовой рощицы. В местах, где были фотографии, бумага была в несколько раз плотнее, как будто сделана из картона. Я пригляделась: маленькие рощицы были приклеены к страницам, однако, как ни хорошо они были приклеены, у нескольких фотографий оказались отогнуты уголки, как будто кто-то пытался отковырнуть их ногтями. Я огляделась вокруг. Я положила книгу в сумочку вместе с четырьмя другими, так что у библиотекаря это не вызовет подозрений. Выйдя из библиотеки, я полетела домой, где, успокоившись, смогла наконец перевести дух.
Было бы интересным узнать, что думал цензор, вычеркивая все это:
Фотография амфитеатра. Ряды забиты людьми в нацистской форме. Развеваются на ветру флаги, руки подняты в нацистском приветствии, солнце отражается от сотен орденов, кажущихся блистающими точками. Это избранные арийской расы.
Абзац, описывающий амфитеатр как «одно из монументальных строений Третьего Рейха, гигантский (так!) открытый театр, построенный для объединения в едином порыве тысяч молодых немцев для празднований и торжеств в атмосфере любви к Отечеству и вдохновения перед красотой Природы».
Абзац, описывающий автобан Гейдельберг-Франкфурт (теперь покореженный и колдобистый) как «гигантское (так!) и грандиозное создание Нового Века, который столь много обещает».
Абзац, описывающий Германию как «нацию, благословенную Богом и занимающую первое место среди Великих и Властных народов…»
Фотография главного зала университета со свастиками, развевающимися в каждой готической арке…
И так далее на протяжении всей книги.
Я бесилась от негодования и гнева. Я села за стол и настрочила яростную статью о честности, бесчестности и всемогуществе истории. Я ставила истину выше красоты. Историю выше красоты, и честность выше всего. Я брызгала слюной и исходила желчью. Я указывала на оскорбительные заплатки в старых путеводителях, как на примеры всего самого одиозного в жизни и искусстве. Я сравнивала их с викторианскими фиговыми листиками на греческих скульптурах, с одеждами девятнадцатого века, намалеванными поверх эротических фресок. Я вспоминала, как Рескин сжег картины Тернера в венецианских борделях; как праправнуки Босуэлла пытались уничтожить непристойные места в его дневниках, и сравнивала это с тем, что немцы стараются сделать со своей собственной историей. Таков грех умолчания! Ни один человек не заслужил того, чтобы его стерли из истории. Даже если он совершал нечто отвратительное, мы можем учиться на этом, не так ли? Действительно, можем? Я никогда не задавала таких вопросов. Только истина – я была уверена – сможет сделать нас свободными.
Следующим утром я двумя пальцами взяла статью с материалами и поехала в центр города к Хорсту. Я бросила все это ему на стол и уехала домой.
Три часа спустя он позвонил.
– Ты действительно хочешь, чтобы я перевел это? – спросил он.
– Да, – постаралась спокойно ответить я, начиная уже закипать от злости, ведь он обещал не подвергать меня никакой цензуре.
– Я сдержу слово, – ответил он. – Но ты молода и не понимаешь немцев.
– Что ты имеешь в виду?
– Немцы любили Гитлера, – произнес он. – Если бы они были честны, ты бы это и услышала, но они не честны. В двадцать пять лет они не были честны. Они никогда не желали убийственной войны, но они любили Гитлера. Они сметали все на своем пути. Даже они сами не знали своих настоящих чувств. Если бы они были честны, ты ненавидела бы больше их, а не их лицемерие.
Потом он начал рассказывать мне, что значило работать в печати при Гитлере. Это было полувоенное положение и все новости цензурировались сверху. Они знали множество вещей, которые держались в тайне и тщательно скрывались от широкой публики. Они знали о лагерях смерти и депортациях. Они знали и продолжали печатать пропагандистские материалы.
– Но как ты мог делать все это? – произнесла я.
– Как я мог не делать это?
– Ты мог бы уехать из Германии, ты мог бы вступить в Сопротивление, ты мог бы сделать что-нибудь!
– Но я не герой, я не хотел быть беженцем. Журналистика – вот моя профессия.
– Ах так!
– Я всего лишь сказал, что многие люди не герои, и многие из людей не честны. Я не говорил, что я хороший или превосходный. Я всего лишь сказал, что похож на всех остальных людей.
– Но почему?! – кричала я.
– Потому, что похож, – ответил он. – Других причин нет.
У меня было гораздо больше вопросов, и Хорст знал это. Я начала удивляться, что тоже похожа на всех остальных людей. Было ли у меня больше мужества, чем у него? Я тогда думала, как долго не смогу писать после этого? Даже без фашизма я была нечестна. Даже без фашизма я сама подвергала себя цензуре. Я не позволяла себе писать о том, что на деле волновало меня: мое самочувствие в Германии, несчастье в браке, сексуальные фантазии, мое детство, мое плохое отношение к моим родителям. Даже без фашизма честность трудно давалась мне. Даже безо всякого фашизма я налепляла воображаемые заплатки на многое в моей жизни и с готовностью отказывалась смотреть туда. Я поняла, что не могу чувствовать себя полностью правой в споре с Хорстом, пока я не научусь быть честной с самой собой. Возможно, наши грехи умолчания были не равны, но побуждающая сила в обоих случаях была одной и той же. До тех пор, пока я вижу доказательства собственной нечестности в моих произведениях, какое я имею право требовать честности от других? Статья была издана так, как я написала ее. Хорст перевел слово в слово. Я думала, что Гейдельберг взлетит на воздух, но писатели часто преувеличивают важность своих работ. Ничего не случилось. Несколько моих знакомых отпустили иронические замечания по поводу того, что я все принимаю слишком близко в сердцу. И все. Я удивлялась тому, что хоть кто-то читает «Гейдельберг Арт унд Нев». Вероятно, никто. Мои статьи были подобны переписке при забастовке почт или тайному дневнику. Я чувствовала, что сильно раздуваю эту историю, но никто даже не моргнул. Весь этот Sturn und Drang потонул в тишине. Это было почти тоже самое, что печатать стихи.
Репортаж с конгресса снов, или Ох уж эти конгрессы
Я – Изадора,
Летайте мной.
Национальные авиалинии
Доктор Гудлав председательствовал на заседании. Оно проходило в сыром подвале университета, в лишенном окон амфитеатре с громыхающими деревянными стульями. Адриан натянул свои лучшие английские манеры (равно как и свою старую дырявую рубашку) и заговорил с роскошным английским произношением перед полиглотами-кандидатами, рассыпанными по рядам стульев.
Выглядел он, как Христос на Тайной Вечере. Справа и слева от него сидели одетые в темное аналитики, все при пиджаках и галстуках. Он убежденно вещал в микрофон и, посасывая свою трубку, подводил итоги предыдущей части встречи – ее мы пропустили. Он покачивал босой ногой прямо перед носом слушателей, а его старенькая сандалия отдыхала в это время под столом.
Я дала понять Беннету, что хочу сесть где-нибудь в дальних рядах у двери – как можно дальше от тепла, испускаемого Адрианом. Беннет ответил мне кислым взглядом и с грустью направился к переднему ряду, где нашел себе место подле крашенной хной кандидатки из Аргентины.
Я уселась в последнем ряду и уставилась на Адриана. Адриан уставился на меня. Он облизывал мундштук своей трубки с таким видом, будто лизал меня. Волосы упали ему на глаза. Он отбросил их назад. Волосы упали мне на глаза. Я отбросила их назад. Он приложился к своей трубке. Я приложилась к его призрачному члену. Казалось, что маленькие лучики связывают наши глаза, как в космическом комиксе. И казалось, что маленькие волны тепла связывают наши бедра, как в порнографическом комиксе.
А может, он и не смотрел на меня вовсе?
– …конечно, остается еще проблема полной зависимости кандидата от своего аналитика, – говорил аналитик, сидевший слева от Адриана.
Адриан одарил меня своей улыбкой.
– …полная зависимость может быть сдержана только самостоятельной оценкой реальности со стороны кандидата, которая, учитывая Кафкинскую атмосферу нашего института, может оставаться весьма недостаточной.
Кафкинскую? Мне всегда казалось, что Кафкианскую.
Должно быть, у меня первый случай менопаузы, наблюдаемый у 29-летней женщины. Похоже, начались климактерические приливы. Я чувствую, что лицо багровеет, сердце молотит, как мотор спортивной машины, а в щеки словно вонзаются иголки, как на сеансе акупунктуры. Вся нижняя часть моего тела стала жидкой и медленно стекает на пол. Так что я могу больше не беспокоиться, что мои трусики увлажнились – я растворяюсь.
Я достала записную книжку и накарябала:
– «Мое имя Изадора Зельда Уайт Столеман Винг, – написала я, – и я была бы не против стать Гудлав».
Это я зачеркнула.
Потом написала:
Адриан Гудлав
Доктор Адриан Гудлав
Мистер Адриан Гудлав
Изадора Винг-Гудлав
Изадора Уайт-Гудлав
Изадора Гудлав
А. Гудлав
Мистер А. Гудлав
Леди Изадора Гудлав
Изадора Винг-Гудлав, кавалер Ордена Британской Империи
Сэр Адриан Гудлав
Изадора и Адриан Гудлав
Желают вам
Исступленного
Рождества (зачеркнуто)
Хануки (зачеркнуто)
Зимнего Солнцестояния
Изадора Уайт Винг и Адриан Гудлав
абсолютно балдея
объявляют
о рождении своего любимого ребенка
Зигмунды Китс
Уайт Винг-Гудлав
Изадора и Адриан
приглашают вас
на новоселье
в свою новую берлогу
35 Фласк Вок
Хэмпстед
Лондон NW3
галлюциногены приносить с собой.
Я поспешно зачеркнула все это и перевернула страницу. Я не впадала в такой маразм с тех пор, как была ждущим любви пятнадцатилетним подростком.
Я надеялась поговорить с Адрианом после заседания, но Беннет утащил меня раньше, чем Адриан выбрался из толпы, окружающей сцену. Мы уже составили причудливое трио. Беннет почувствовал мое взрывоопасное настроение и сделал все возможное, чтобы побыстрее увести меня из университета. Адриан почувствовал мое взрывоопасное настроение и предпочел понаблюдать за Беннетом и определить, что тот понял. Я чувствовала себя так, словно они меня разрывали пополам. Хоть в этом, конечно, нет их вины. Они вели борьбу лишь внутри меня. Беннетовские осторожность, обязательность и скучная однообразность вполне отвечали той части моей натуры, что панически боялась перемен и одиночества и нуждалась в ощущении безопасности. Адриановское фиглярство и стремление все заполучить приветствовались той моей частью, в которой жизнь била через край. И у меня никогда не получалось примирить обе мои половинки. Если я ухитрялась, ну хоть на некоторое время ужать одну, то другая немедленно пролезала на освободившееся место. У меня никогда не вызывали восторга скромные буржуазные добродетели вроде брака, стабильности и работы, которая стоит превыше развлечений. Во мне слишком много любопытства и авантюризма, чтобы долго выдерживать гнет таких ограничений. Но я очень страдала от ночных страхов и была подвержена приступам засасывающего одиночества. Поэтому я всегда буду жить с кем-нибудь или буду замужем.
Кроме того, я искренне верила в возможность долгих и глубоких связей с кем-нибудь одним. Я полностью признавалась себе в том, что бессмысленно перескакивать из постели в постель и поддерживать поверхностные отношения с поверхностными людьми. У меня был невыразимо мрачный опыт связи с мужчиной, с которым не о чем было поговорить – и мы оба чувствовали себя запертыми в клетку. Так что я не смогла найти способа совместить на деле желание жить полной мерой и стремление к стабильности. Люди, куда более умные, чем я, размышляли над этими проблемами и ничего не придумали, но это отнюдь меня не утешало. Я лишь убедилась, что мои проблемы банальны и присущи многим. Если бы я была действительно исключительна, так я думала, то не ломала бы себе часами голову над вопросами супружества и супружеской измены. Тогда бы я ухватила жизнь обеими руками и не испытывала никакого чувства вины или угрызений совести. Мое чувство вины лишь подчеркивает то, насколько я презренна и как глубоко в мой мозг въелось мещанство. Я волнуюсь лишь за то, что все это многократное повторение высвечивает мою ординарность.
Этим вечером торжества начались с вечеринки кандидатов в Гринцигском кафе. Это было крайне безвкусное действо. Всех угощали фаллическими сосисками и кислой капустой. Венские кандидаты-аналитики, которые устраивали вечеринку, спели для развлечения хором «Когда аналитик уверенно входит…» (на мотив «Когда Святые…»). Куплеты эти были преимущественно на английском, по крайней мере венским кандидатам так казалось.
Все хохотали и громко аплодировали, а я чувствовала себя Гулливером в стране лилипутов. Я хмурила брови и размышляла о конце света. Мы все провалимся прямиком в ядерный ад, пока эти шуты распевают гимны аналитикам. Глупцы. Адриана нигде не было видно.
Беннет обсуждал с коллегой из Лондонского Института проблемы обучения, а у меня завязался разговор с парнем напротив, чилийским психоаналитиком, обучающимся в Лондоне. Как только он сказал, что живет в Чили, мне пришел в голову Неруда. Так что мы принялись этого самого Неруду обсуждать. Я решила сыграть на его энтузиазме и бросила, что, должно быть, здорово жить в Южной Америке, когда все современные великие поэты и писатели – южноамериканцы. Мне даже стыдно стало за это мелкое мошенничество, но ему оно пришлось по душе. Как будто бы я и взаправду сказала комплимент. Дальше разговор поплыл по тому же литературно-шовинистическому руслу. Мы обсуждали сюрреализм и его связь с южноамериканской политикой, о которой я не имею ни малейшего представления. Зато я хорошо знаю сюрреализм. Можно даже сказать, что вся моя жизнь – это сюрреализм.
Адриан слегка постучал меня по плечу, когда я разглагольствовала о Борхесе и его лабиринтах. Разговаривала о Минотавре, а он стоял позади меня. У меня сердце едва не выпрыгнуло из груди.
Не хочу ли я потанцевать? Ну конечно, я хочу танцевать, и не только.
– Я искал тебя после полудня, – сказал он. – Где ты была?
– С мужем.
– Он выглядит слегка несчастным, не так ли? С чьей помощью ты делаешь его несчастным?
– С твоей, как мне кажется.
– Послушай, – сказал он мне, – лучше не стоит давать ему повод для ревности.
– А он уже дан.
Мы разговаривали как любовники, и, в некотором смысле, мы ими уже были. Если бы намерений было достаточно, то мы были бы обречены как Паоло и Франческа. Но у нас не было уединенного уголка, где мы могли бы укрыться от чужих назойливых взглядов – поэтому мы продолжали танцевать.
– Я никогда не умел хорошо танцевать, – сказал он.
Это вполне отвечало действительности. Зато все ошибки он совершал, улыбаясь как Пан. И при этом шаркал своими копытцами. Я смеялась, но немного истерично.
– Хорошо танцевать – все равно что хорошо трахаться, – сказала я. – Совершенно не нужно обращать внимания на внешние эффекты, стоит сосредоточиться лишь на своих ощущениях. – Ну разве я не обнаглела окончательно? Я чувствовала себя полумертвой от страха.
Я прикрыла глаза и погрузилась в музыку. Я подскакивала, приземлялась и извивалась, как ящерица. Когда-то давно, на заре твиста, мне казалось, что никто не умеет танцевать этот танец – так зачем же комплексовать самой? В танцах на людях, как и в общественной жизни, главное – стремительность. Поэтому я стала «хорошим танцором», по крайней мере считаю себя такой. Это было, как в любовном акте – все в ритме и сладости.
Адриан и я протанцевали еще пять или шесть танцев, пока не почувствовали себя взмокшими, истощенными и готовыми немедленно уехать вместе домой. Затем я танцевала с одним из австрийских кандидатов – ради внешних приличий, а соблюдать их становилось все трудней и трудней. Потом я танцевала с Беннетом, который был дивным танцором.
Меня забавляло то, что Адриан видит меня танцующей с мужем. Беннет танцевал гораздо лучше Адриана, к тому же он был полон грации, а этого Адриану всегда не доставало. Адриан умел лишь взбрыкивать, как лошадь или спортивный автомобиль. Беннет же был мягким и плавным в движениях: ягуар да и только. И он был чертовски мил. Как только на горизонте появился Адриан, Беннет сразу стал таким галантным и заботливым. Словно он снова должен был завоевывать меня. Это так все усложняло. Если бы он был ублюдком! Если бы только он был похож на мужей из романов – мерзких тиранов, заслуживающих только того, чтобы им наставили рога. Но вместо этого он был очень мягким. Но, черт возьми, вся беда была в том, что его мягкость нисколько не умеряла моей жажды Адриана.
Моя жажда, видимо, была не связана с Беннетом. Но почему она распространяется сразу на двух? Я просто хочу их обоих. И выбрать кого-то одного не представляется возможным.
Адриан вез нас обратно в отель. Как только мы отъехали от обдуваемого всеми ветрами Грицинга, он стал рассказывать о своих детях, поэтически названных Анаис и Николай, которые жили с его матерью в Ливерпуле.
– Конечно, детям тяжело расти без матери, – рассказывал он, – но я – настоящая добрая мама для своих. Я ведь даже люблю готовить. У меня здорово получается мясо с рисом по-пенджабски.
Его гордость за свои хозяйственные способности одновременно очаровывала и забавляла меня. Я сидела впереди рядом с Адрианом. Беннет приютился на маленьком сидении сзади. О если бы он сейчас исчез, испарился через окно и пропал в лесах. И, конечно, я ненавидела себя за подобные желания. Ну почему все так сложно? Почему мы не можем быть дружелюбными и открытыми? «Извини, дорогой, я выйду на секунду и перепихнусь с этим очаровательным незнакомцем?» Почему все не может быть так просто, честно и без последствий? Почему ты должен рисковать целой жизнью ради одного малюсенького секса нараспашку?
Мы подъехали к отелю и попрощались. Как тяжело подниматься наверх с человеком, которого ты не хочешь, оставив другого, желанного, одного внизу, а потом, в возбуждении, заниматься любовью с нежеланным, воображая на его месте вожделенного. И это называется верностью. Это называется цивилизацией и ее недостатками.
Следующим вечером состоялось официальное открытие конгресса, сделано это было за счет коктейль-буфета во дворе Хосбурга – одного из Венских дворцов восемнадцатого века. Внешние стены здания были переделаны так, что сразу навевали мысли об американских мотелях, внутри же сохранился дух восемнадцатого столетия.
Мы прибыли в пурпурно-закатный час – что-то около восьми или чуть позже. По краям двора стояли накрытые столы. Официанты пробирались сквозь толпу, подняв над головой подносы с бокалами шампанского (увы, это оказался сладкий германский «Сект»). Все аналитики разоделись как селезни в брачную пору. Роза Швам-Липкин, к примеру, нацепила гонконгский свитер в розовый горошек, красную сатиновую юбку и абсолютно не подходящие ортопедические сандалии. Роза Джуд втиснулась в облегающее тело одеяние серебряного оттенка. Даже доктор Шрифт надел вельветовый вечерний пиджак сливового тона и большую, розовую как цветок азалии, бабочку. А доктор Формен сделала хвостики и водрузила на голову высокую шляпу.
Беннет и я пробирались сквозь толпу в поисках хоть кого-нибудь знакомого. Мы чувствовали себя не у дел, пока официант, разносивший шампанское, не оказался рядом и занятие не нашлось само собой. Я быстро пила в надежде на немедленное опьянение – никакой хитрости в этом не было. Через 10 минут я увидела, что пузырьки шампанского, за которыми я следила уголками глаз, приобрели пурпурный закатный оттенок. Я немедленно отправилась на поиски дамской комнаты (хотя, конечно, искала Адриана). Я обнаружила его с огромным числом двойников, теряющихся в бесконечности, в длинном элегантном зале с зеркалами на стенах рядом с дамской комнатой.
Он отражался в зеркалах. Множество Адрианов в бежевых брюках, водолазках цвета спелой сливы и коричневых замшевых пиджаках. Множество несвежих носков и поношенных мокасин. Множество пенковых трубок, зажатых в замечательных чуть-чуть кривых губах. О мой секс нараспашку!
Мой мужчина под кроватью! Умножающийся, как любовники в «В прошлом году в Мариенбаде» [25]25
Фильм А. Рене, снятый по книге А. Роб-Грийе.
[Закрыть]. Умножающийся, как автопортрет Энди Уорхола. Умножающийся, как тысяча и одна статуя Будды в храме Киото. (У каждого Будды шесть рук, и каждая рука чем-нибудь замечательна… сколько же членов у этого огромного количества Адрианов? И каждый символизирует бесконечную жертву и бесконечное сострадание Господу?)
– Привет, утенок, – он повернулся ко мне.
– У меня есть кое-что для тебя, – сказала я, подавая ему надписанную книгу. Я таскала ее с собой весь день. Краешки страниц покоробились от моих потных ладоней.
– Спасибо, золотко! – Он забрал книгу. Мы взялись за руки и пошли, прогуливаясь, по зеркальному залу. «Galeotto fur il libro e chi lo scrisste» [26]26
«И книга стала нашим Галеотом» (перевод М. Лозинского), цитата из истории Паоло и Франчески.
[Закрыть], – сказал бы старый добрый Данте. Поэмы ведь взывают к любви, также как и их авторы. Книга моего тела открылась, и второй круг ада был уже недалек.
– Ты знаешь, – сказала я ему, – возможно, мы никогда больше не увидимся.
– Может быть, поэтому мы так и поступаем, – ответил он. Мы вышли из дворца и направились к следующему двору, который использовался главным образом как стоянка. Первое наше объятие произошло в тени «мерседесов», «опелей» и «фольксвагенов». Рот ко рту и живот к животу. Благодаря Адриану поцелуй получился едва ли не самым мокрым в истории. Его язык был всеобъемлющим, как океан. И мы поплыли. Его пенис (возвышающийся под брюками) был как огромная красная труба океанского лайнера. А я стонала вокруг него, как океанский ветер. Я произносила все те глупости, что произносят, обнимаясь на стоянке: попыталась выразить словами невыразимое, то, что можно высказать, может быть, только стихами, все равно выходило так неубедительно. Я люблю твой рот. Я люблю твои волосы. Я люблю твои уши. Я хочу тебя. Я хочу тебя. Я хочу тебя. Я старалась избегать слов: я люблю тебя. Потому что это было лучше, чем любовь. Это было слишком восхитительно, чтобы называться серьезным словом «любовь», от которого так веет здравомыслием. У тебя весь рот полон влаги. Его язык был вкуснее, чем сосок матери для младенца (и не надо никаких психологических интерпретаций, Беннет, потому что они меня не интересуют. Инфантилизм. Регрессирующее развитие. Латентная инцестуальность. Не сомневаюсь. Но я бы отдала остаток своей жизни за продолжение того поцелуя. Как ты это интерпретируешь?) Между тем он стиснул мой зад обеими руками. Он положил книгу на отражатель фольксвагена – и предпочел ей мой зад. Для чего я все это пишу? Чтобы быть любимой? Я ничего больше не знаю. Я даже не знаю своего собственного имени.
– Я никогда не встречал зада, способного соперничать с твоим, – сказал он. Этот комплимент так взволновал меня, как не смогла бы и Национальная Книжная премия. Ведь я получила Национальную Премию за лучший зад. Трансатлантическую Премию за Лучший Зад 1971 года.
– Я чувствую себя словно миссис Америка на Конгрессе снов.
– Ты миссис Америка на Конгрессе снов, – сказал он. – И я буду любить тебя как можно крепче, пока мы не расстанемся.
Кто предупрежден, тот вооружен, это не вызывает сомнения. Но кто прислушивался? Все, что я могла тогда слышать, было биение моего сердца.
Остаток вечера прошел в полусне, в который проникали бокалы шампанского и пьяный психиатрический жаргон. Назад мы возвращались все через тот же зеркальный зал. Мы были так возбуждены, что едва могли подумать о том, где и когда снова увидимся.
Беннет обменивался улыбками с рыжеволосой кандидаткой из Аргентины, которую вел под руку. Я выпила еще одно шампанское и сделала круг с Адрианом. Он представлял меня всем лондонским аналитикам и бормотал что-то о моей ненаписанной статье. Не согласятся ли они на интервью? Может быть, их заинтересуют мои журналистские экзерсисы? Все это время его рука покоилась на моей талии, а иногда сползала и ниже. Как же мы были нескромны. Каждый обратил на это внимание. Его аналитик. Мой экс-аналитик. Аналитик его сына. Аналитик его дочери. Экс-аналитик моего мужа. Мой муж.
– Это миссис Гудлав? – поинтересовался старший из лондонских аналитиков.
– Нет, – сказал Адриан, – но я надеюсь, что она ею станет. Я был бы просто счастлив, если бы это произошло.
Я поплыла. Голова моя была полна шампанским и матримониальными планами. Я соображала, как сменить старый жалкий Нью-Йорк на великолепный тенденциозный Лондон. Где же была моя голова? «Она сбежала с каким-то англичанином», – услышала я голоса своих друзей из Нью-Йорка, и в голосах этих звучала зависть. Всех их камнем на дно тянули дети и няни детей, выпускные курсы и учительская работа, аналитики и пациенты. Я же летала в венском небе на позаимствованной где-то ручке от метлы. Они считали, что только я могу воплотить в жизнь их затаенные фантазии. Лишь обо мне, как они считали, можно рассказывать забавные истории, в которых фигурируют прежние любовники. Лишь мне они могли завидовать на публике, а потом смеяться в одиночестве. Я могла представить себе репортаж в «Класс Ньюз»:
Изадора Уайт Винг и ее новый муж доктор Адриан Гудлав живут в Лондоне возле Хэмпстед-Хис – не путать с Хитклифом [27]27
Герой «Грозового перевала» Э. Бронте, а также кот – герой популярных комиксов.
[Закрыть], к сведению всех студентов-математиков. Изадора была бы рада известиям от всех выпускников Барнарда, находящихся заграницей. Сейчас она поглощена написанием романа и нового сборника стихов, а в свободное время посещает Международный Психоаналитический конгресс, где принимает участие в заседаниях…
Все мои мечты включали женитьбу. Как только мысли касались разрыва с одним мужчиной, как тут же я думала о том, как связать себя с другим. Я подобна кораблю, у которого всегда есть порт приписки. Я просто не представляю себя без мужчины. Когда рядом никого нет, я чувствую себя подобно собаке без хозяина, лишенной корней, лица и цели.
Но что же такого особенного в замужестве? Я была замужем и еще буду. В этом есть свои приятные стороны, но есть, конечно, и неприятные. Но добродетели брака в большинстве своем – отрицательные добродетели. Замужем лучше. Но ненамного. Чертовски умно, думала я, со стороны мужчин сделать жизнь такой нестерпимой для женщины, что большинство предпочитает хоть плохонькое, но замужество полным чувства объятиям. Любая жизнь покажется раем после того, как ты мечешься как белка в колесе на низкооплачиваемой работе, в свободное время воюешь с невпечатляющим мужчиной и одновременно безуспешно выслеживаешь впечатляющих. Однако же у меня не возникает и тени сомнения, что, хотя одиночество остается проблемой и для мужчин, им оно не наносит смертельного удара, не делает их беззащитными, и вовсе не влечет за собой возникновения образа неудачника и статуса отверженного.
Стремились бы женщины замуж, если бы понимали, что их ждет? Я думаю о молодых женщинах, которые настолько же привязаны к своим мужьям, как их мужья привязаны к карьере. Я думаю о тех, кто вдруг понял, что очутился за тысячи миль от друзей и семьи. Я думаю о тех, кто живет в местах, где не найти работу и не с кем поговорить. Я думаю о тех, кто заводит детей от скуки и одиночества, не понимая, на что они решились. Я думаю о вечно спешащих мужчинах, опустошенных количеством дел, ждущих своего часа. Я думаю о тех, которые после женитьбы видятся реже, чем до нее. Я думаю о тех, кто едва добирается до постели, слишком опустошенный, чтобы там чем-нибудь заниматься. Я думаю о тех, кто гораздо больше отдален друг от друга после свадьбы, чем они могли себе вообразить по дороге к ней. В этот момент, я думаю, и начинаются обманы. Он пожирает глазами четырнадцатилетнюю постнимфетку в бикини. Она ложится под телевизионного мастера. Когда заболевает ребенок, она делает это с педиатром. Он спит со своей маленькой секретаршей-мазохисткой, которая читает «Космополитен» и мечтает жить с размахом. Нет: когда же все стало так плохо? Но: а когда оно было хорошо?
Прискорбное зрелище. Конечно, не все замужества напоминают это. Возьмите брак, который я представляла в идеалистической юности (когда была уверена, что Беатрис и Сидней Вебб, Вирджиния и Леонард Вулф действительно женаты). Что я тогда знала? Я мечтала о «полной взаимности», «товариществе», «равенстве». А представляла ли я тогда себе мужчин, которые сидят, уставившись в газету, пока ты убираешь со стола? Как они притворяются, что у них грязные руки, когда ты просишь смешать охлажденный апельсиновый сок. Как они приводят домой друзей и ожидают, что ты будешь прислуживать им, но тем не менее считают, что это дает им право дуться и уходить в другую комнату, если в доме твои друзья? Может ли себе это вообразить девица в возрасте идеальной юности, начитавшаяся Шоу и Вирджинии Вулф?








