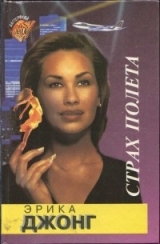
Текст книги "Страх полета"
Автор книги: Эрика Джонг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
– Изадора!
Почти тридцать. Иностранцы иногда давали мне двадцать пять, но я вижу, как неумолимо подкрадывается возраст, подарок смерти. Уже были легкие морщины на моем лбу, я могла не обращать на них внимания. Гораздо хуже было с глазами. Под глазами была мелкая сеть морщинок, крошечные борозды, отметины болезни глаз. А в уголках стали заметны три четкие линии, как будто начали проявляться невидимые чернила, все больше и больше. В уголках рта тоже были морщины, из-за чего улыбка получалась поблекшей. Как будто старость приближалась к лицу в предзнаменовании суровой смерти. О, подбородок пока гладкий, но на него почти не смотрят на фоне шеи. Груди пока еще высокие, но надолго ли?
Это смешно: вопреки моему желанию забеременеть, я словно живу своей тайной мечтой о ребенке. Я, кажется, была напугана всеми переменами, происходящими со мной. Они не пропустят это незамеченным. Я, кажется, Знаю, когда могла быть оплодотворена, на второй неделе цикла я почувствовала тихий зуд в животе, который потом превратился в звон. Несколько дней спустя я часто обнаруживала крошечные пятнышки крови на мембране. Яркие красные пятна – заметный след, ставший показателем того, что я могу иметь ребенка. Я почувствовала волны неописуемого уныния и облегчения. Действительно, лучше никогда не родиться.
Мембрана стала для меня подобна фетишу. Барьером между моей маткой и мужчинами. Когда-нибудь мысль о рождении ЕГО ребенка разозлит меня. Позволить ему родить его, собственного ребенка! Если у меня будет ребенок, я захочу, чтобы он был весь мой. Девочка, похожая на меня, даже лучше. Девочка, которая тоже будет способна завести своего собственного ребенка. Ребенка, который получит их имя. Ребенка, который закрывает твою любовь к мужчине и ты служишь и нравишься ему, и любишь его после всего этого еще крепче. Единственное, что сильно раздражало и истощало терпение – быть заложницей своих собственных ощущений и своего ребенка.
– Изадора!
Но, может быть, я уже была заложницей. Заложницей моего страха. Заложницей моего ошибочного выбора. Что значит быть женщиной? Если это подразумевает такую же жизнь, как у Рэнди или как у моей матери, то я не желаю этого. Гораздо лучше быть такой интеллектуальной монашкой, какой была я, чем такой, как они.
Но быть интеллектуальной монашкой – это развлечение не для каждого. Это не представляет большого интереса. И какая альтернатива? Почему никто не предлагает альтернативы? Я смотрела вверх, и воротник маминого темного пальто касался моего подбородка.
– Изадора!
– О'кей, я иду.
Я вышла и остановилась напротив Пьера.
– Извинись перед Рэнди, – потребовал он.
– По какому это поводу?
– Ты, сука, говорила обо мне гадкие вещи, – прокричала Рэнди. – Извинись!
– Я только сказала, что не хочу быть похожей на тебя. За что ты требуешь извинений?
– Извинись! – проорала она.
– За что?
– С каких это пор тебя стала так охрененно волновать иудейская вера? Ты что, святой заделалась?
– Я не святая, – ответила я.
– Тогда почему ты так говоришь? – Пьер старался смягчить ближневосточный французский акцент.
– Я никогда не объявлю крестового похода в защиту своей веры – ты знаешь. Я никогда не пыталась ничего навязать тебе. Я просто стараюсь сохранить мою собственную долбанную жизнь такой, чтобы я сама могла управлять ею.
– Но, Изадора, – подлизнулся Пьер, – мы же стараемся только помочь тебе.
У черного леса
Малолетние дети постоянно уничтожались по причине их нетрудоспособности… Очень часто женщины пытались спрятать детей под одеждой, но, конечно, после того, как их обнаруживали, мы посылали детей на уничтожение. Мы хотели выполнить эту операцию в тайне, но, конечно, вонь и тошнотворный запах от непрерывно сжигаемых тел полностью проникал наружу, и все, живущие в окрестностях, знали, что в Освенциме происходит массовое уничтожение людей.
Письменные показания оберштурмфюррера СС Рудольфа Гесса Апрель 5, 1946, Нюрнберг
8.29 ФРАНКФУРТ
Европа – пыльный плюшевый диван
в первоклассном вагоне
с первоклассной пылью,
а кондуктор похож на розовую
марципанную свинью
и ходит, переваливаясь, как гусь, по коридору.
Фрейлен!
Он говорит это с четырьмя умляутами,
и его красная кожаная сумка
на ремне позвякивает и повизгивает,
как тормоза.
Его кепка поднимается и поднимается,
она словно папский венец,
достигающий небес, требуя
полной власти,
божественного права
для кондукторов Бундесбана.
Фрейлен!
E pericoloso sporgersi.
Nicht hinauslеhnen.
Il estdangereeux [21]21
Высовываться опасно (итал.). Не высовываться (нем.). Опасно (франц.).
[Закрыть]… – повторяют колеса.
Но я не дура.
Я знаю, где конец колеи,
и где поезд въезжает
в тишину.
Я знаю, станция
не будет обозначена.
У меня арийские волосы.
Мое имя вереск,
мой паспорт, глаза,
голубее Баварского неба.
Но он может видеть
Звезду Давида
в моем пупке.
Удар. Скрежет.
Я надеваю это
для последнего стриптиза.
Фрейлен!
Кто-то толкнул меня локтем, чтобы разбудить.
Моя трусливая рука
почти поднимается в приветствии
перед враждебным жалким
мундирчиком этого мужчины.
– Schones Wetter heute [22]22
Сегодня хорошая погода (нем.)
[Закрыть]
говорит он,
кивая головой
на неясные очертания полей
вдали за окном.
Решительно пробивает
мой билет, затем
его сморщенное лицо улыбается
на солнечном свету, который
вдруг становится мягким,
как куриный бульон.
Когда я жила в Гейдельберге, я не очень концентрировалась на своем еврействе. О, я определенно запомнила: моя бабушка мылила мои руки между своих и говорила, что она «смывает Германию» (ее каламбурный синоним для микробов [23]23
Микробы по-английски germ.
[Закрыть]). Моя сестра Рэнди придумала игру под названием «Убежим от немцев», в которой мы надевали самые теплые вещи, запихивали нашу младшую сестру Хлою в кукольную коляску, делали огромные сэндвичи и садились есть их в благоухающей глубине чулана, надеясь, что наших запасов хватит до тех пор, пока не закончится война и не придут союзники. И тут же шальные воспоминания о моей лучшей подруге Джилиан Бэтнок (возраст 5 лет), которая принадлежала к англиканской церкви. Она говорила, что не может мыться со мной в одной ванне из-за того, что евреи «всегда делают пи-пи в воду, в которой моются». Но в общем у меня было экуменическое детство. Друзья моих родителей принадлежали ко всем нациям, всем религиям и расам, точно так же, как и мои друзья. Должно быть, я поняла смысл фразы «мы все одна семья» еще до того, как перестала пачкать в штанишки. Хотя в доме иногда говорили на идиш, но только для того, чтобы скрыть что-нибудь от нашей любопытной горничной. Иногда это говорилось для того, чтобы обмануть детей, но мы с нашим превосходным детским восприятием всегда чувствовали смысл, хотя и не понимали значения слов. В результате нам не пришлось учиться идишу. Мне пришлось прочитать «Прощай, Колумб» Филиппа Рота, чтобы узнать слово штар(сильный), и «Волшебный сундучок», чтобы узнать о газете «Вперед». Мне было уже четырнадцать, когда я впервые была приглашена на бармицву [24]24
Праздник совершеннолетия.
[Закрыть]к какому-то двоюродному брату из Спринг Валли, штат Нью-Йорк, а моя мать осталась дома, сославшись на головную боль. Мой дед, старый марксист, свято веривший в то, что «религия – опиум для народа», запретил моей верующей бабке «приучать ребенка к этой религиозной чепухе», а затем обвинил меня (когда ему стукнуло 80) в симпатиях к «проклятым антисемитам». Конечно, я не была антисемиткой, просто я не чувствовала себя еврейкой и не могла понять, почему он, единственный из моих знакомых, вдруг начал говорить, как Хаим Вейцман. Моя юность (в лагере «Брейк Нек Уорк», высшей школе музыки и живописи, и когда я была стажером в поездах в «Гералд Трибюн Фреш Эйр Фонд) прошла в те благословенные дни, когда черных постоянно выбирали старостами в старших классах и это считалось самым ярким свидетельством нашей интернациональности. Не то чтобы я не чувствовала фальши в этой «дискриминации наоборот» уже тогда – я просто искренне разделяла доктрину «интеграции». Я считала себя интернационалисткой, осторожной (фабианской) социалисткой, другом человечества (никто не упоминал тогда о том, что оно состоит не только из мужчин, но и из женщин), гуманисткой. Я ужасалась, когда слушала невежественных еврейских шовинистов, которые говорили о том, что Маркс, Фрейд и Эйнштейн – все были евреями, что евреи имеют лучшие гены, лучшие умы. Мне было ясно, что считать себя выше, чем кто-нибудь, означало быть ниже, а думать о себе как о существе необычном было знаком, что ты совершенно заурядна.
Каждое Рождество, с того времени, как мне исполнилось два года, у нас была новогодняя елка. Только мы отмечали не Рождество Христово; мы отмечали (по словам моей мамы) «Зимнее Солнцестояние». Джилиан, у которой под елкой всегда стоял вертеп, а над елкой горела Вифлеемская звезда, горячо спорила со мной, а я решительно повторяла за своей матерью: «Зимнее Солнцестояние» было до всякого Иисуса Христа.» Бедная набожная мать Джилиан настаивала на младенце Христе и непорочном зачатии.
К Пасхе мы искали краску для яиц, но праздновали не Воскрешение Христа, а Весеннее Равноденствие. Перерождение жизни, обряды Весны. Слушая мою мать, мы могли бы подумать, что мы друиды.
– Что случается с людьми, когда они умирают? – спрашивала я ее.
– На самом деле они не умирают. Они возвращаются в землю и через некоторое время рождаются снова, как трава, или даже, может быть, помидоры. – Это был странный диалог. Возможно, ее слова о том, что люди «на самом деле не умирают» и могли бы успокоить. Но кому захочется стать помидором? И это моя судьба? Стать помидором и расти в окружении прочих растений?
Но так или иначе, это была единственная моя религия. Мы были настоящими евреями; мы были язычниками и пантеистами. Мы верили в перерождение души в помидоры и другие растения. И однако, несмотря на мои убеждения, я начала чувствовать себя слишком еврейкой и слишком параноиком (может быть, это одно и то же?), как только ступила на землю Германии.
Внезапно люди из автобусов разбрелись по домам, где у них были припрятаны золотые зубы и обручальные кольца (с войны)… Люстра в отеле «Европа» была подозрительно хорошо огранена… Безупречный вагон железной дороги действовал клаустрофобически, а кроме того, там пахло скотиной… Кондуктор с лицом розовой свиньи не позволял мне выйти… Начальник станции в заостренной нацистской шляпе рассматривал мои документы, как будто они поддельные, но очень хорошего качества, подталкивал меня к полисмену в зеленом плаще, в черных кожаных ботинках и с резиновой дубинкой… Таможенники, конечно, собрались остановить меня, чтобы обнаружить в сумочке небольшой склад моих таблеток и порошков – обычный запас для различных поездок, схватить меня и заточить в пещеру под Альпами, где меня будут пытать до тех пор, пока я не признаюсь в своем язычестве, пантеизме, знании английской поэзии. Каждой своей клеткой я ощущала себя еврейкой не хуже Анны Франк.
Если учитывать историческую перспективу, становится понятно, что мы с Беннетом очутились в Гейдельберге (впрочем, как и поженились), благодаря тому, что американский народ был обманут правительством, как позднее обнаружилось в бумагах Пентагона. Другими словами, наш брак был прямым следствием того, что Беннета призвали в армию, а то, что он был призван, – результатом вьетнамского призыва 1965–1966 гг. А этот призыв был результатом обмана народа правительством.
Но кто знал об этом тогда? Мы подозревали, но у нас не было доказательств. Мы видели крошечные заголовки в газетах с обещаниями, что скоро война кончится и мы вернемся к прежнему миру. Но мы видели ветеранов этой войны, которые вернулись едва не расчлененными. Но мы не видели доказательств на черно-белых полосах «Таймс».
Беннет, детский психиатр, пройдя едва половину обучения, был призван в армию, когда ему исполнился 31 год. Мы были знакомы три месяца. Мы сошлись друг с другом из-за другой несчастливой любовной истории – с моей стороны это был неудачный первый брак. Нас тошнило от одиночества: нас ужасно тошнило от одиночества; в постели мы вместе были счастливы; нас пугало будущее; мы поженились, когда Беннет покинул Дорт Сэм Хьюстон.
С самого начала мотивы свадьбы были туманными. Мы оба надеялись на спасение. Мы царапали друг друга и плакали вместе. Днем мы враждовали, но потом мгновенно переходили от словесных перепалок к молчаливым занятиям любовью. А затем опять никто не знал, как мы будем себя вести и почему.
Перед тем, как приехать в Гейдельберг, мы провели два месяца, которые были столь же странными, как и наше решение пожениться. Мы пробыли там два ужасных месяца, приехали в Манхэттен, бросились в Сан-Антонио, Техас. Беннету коротко остригли волосы, обрядили в хаки и заставили часами сидеть на лекциях о том, что должен делать военный врач – хотя он ненавидел все это всем сердцем.
Я оставалась «дома», то есть в стерильном мотеле на окраине Сан-Антонио, смотрела телевизор, доводила до ума свои стихи, испытывая бешенство и бессилие. Как обычные нью-йоркские девушки, я никогда не училась водить машину. Мне было 24 года, я спала, и мне снилось, что я застряла в каком-то техасском мотеле между Сан-Антонио и Остином. Я проспала до половины одиннадцатого, проснулась, посмотрела телевизор, тщательно накрасилась (для кого?), пошла вниз, затолкала в себя завтрак, состоящий из оладий, сосисок и сока, надела купальник (который становился все уже и уже) и решила позагорать пару часов или около того, затем на пять минут окунулась в бассейн позади мотеля и поднялась к себе наверх, решив немного поработать. Но тут же я ощутила, что ничего не могу делать; одиночество и работа ужасали меня. На каждый довод я находила отговорку. Я не чувствовала себя писательницей и не верила в свое умение писать (я не могла не видеть всю мою жизнь, когда писала). Я сочиняла и иллюстрировала маленькие историйки, когда мне было 8 лет; я вела дневник с 10 лет; я превратилась в ненасытную любительницу писать письма в 13 лет. В 17 лет, когда я с родителями поехала в Японию, я потащила с собой портативную пишущую машинку «Оливетти» и проводила все вечера, фиксируя свои дневные впечатления и наблюдения. Я начала публиковать поэмы в маленьком литературном журнале, когда училась в старших классах в колледже (где я выиграла множество призов за поэтические произведения и издавала литературный журнал). Несмотря на очевидный факт, что меня преследовало желание писать, несмотря на письма от литературных агентов, которые спрашивали, работаю ли я над романом, я не могла поверить, что это на самом деле мое призвание. Взамен я позволила загнать себя в аспирантуру. Предполагалось, что аспирантура – это очень спокойное место, которое удержит меня на привязи (как младенца), прежде чем я окончательно научусь писать. Сейчас это представляется форменным идиотизмом, но тогда казалось очень осторожным, мудрым и ответственным решением.
Я была такой образцовой девушкой, что мои профессора старались навязать мне свою дружбу. Мне хотелось послать их к такой-то матери, но не хватало мужества; таким образом, я убила там два с половиной года, пока не догадалась, что аспирантура серьезно повлияла на мое образование в худшую сторону.
Брак с Беннетом вырвал меня оттуда, и я последовала за ним в армию. Что я еще бы могла сделать? Не так, чтобы я хотела оставить колледж – просто он отдалял меня от моих родителей и развлечений. Свадьба с Беннетом тоже отдаляла меня от Нью-Йорка, моей матери, моего экс-мужа, моих экс-ухажеров – всех, кто приходил мне на ум. Я хотела свободы. Я хотела убежать. Наша свадьба не была средством для этого. Она начиналась под этой тяжелой ношей.
В Гейдельберге мы обосновались в огромном американском концентрационном лагере, в послевоенной части города (совершенно непохожей на прекрасный старый район вокруг Шлос, который осматривают туристы). Наши соседи были большей частью армейские капитаны и их «домашние». За небольшим исключением, они были на редкость общительные люди, и я часто болтала с ними; их жены всегда приглашали меня – на чашечку кофе. Дети были буйно-приветливы и вежливы. Мужья источали галантность и предлагали помощь, чтобы откопать мою машину из сугроба или отнести наверх тяжелую поклажу. Это все было более чем изумительно. Разговоры между такими, как Беннет, сводились к тому, что жизнь на востоке дешевле, чем в Штатах, и что давно пора разбомбить Вьетконг к черту. Они относились к нам с Беннетом как к пришельцам из Космоса, мы сами это чувствовали.
Через дорогу жили наши соседи-немцы. В 1945 году они ненавидели американцев за участие в войне. Сейчас, в 1966 году, немцы стали пацифистами (по крайней мере, по отношению к другим нациям) и ненавидели американцев за происходящее во Вьетнаме. Если в Сан-Антонио все было чужим, то здесь, в Гейдельберге, было в тысячу раз хуже. Мы жили между двух противников, и в конце концов стали врагами между собой.
И я сейчас закрыла глаза, вспоминая обед в Марк-Твен Виллидж, в Гейдельберге. Радио Вооруженных Сил, по которому передают результаты футбольных матчей и (невероятно!) количество вьетконговских убитых на другой стороне мира. Плач детей. Двадцатипятилетние матроны из Канзаса повсюду бродят в домашних халатах и ожидают, как Золушки, какого-нибудь вечера, ради которого можно накрутиться. Он никогда не наступает. Вместо этого появляются коммивояжеры, топают по коридорам, трезвонят в двери, продавая все, что угодно: от энциклопедий с картинками до восточных ковров. Помимо приблудных американцев, завалящих англичан, пакистанских студентов, торгующих в сторонке, были немцы, торгующие игрушечными сахарными немцами, стоящими на масляных склонах сахарных Альп, и немцы с пивными кружками в руках, выстукивающими «Боже, храни Америку!», а в ответ раздается кукование кукушки из черного леса. И военные покупают, покупают и покупают. Жены покупают, заполняя свою пустую жизнь, создавая иллюзию быта в своих скучных квартирах, расплачиваясь сальными банкнотами. Дети покупают каски и автоматы, чтобы можно было играть в свои любимые игры в зеленых беретов, готовясь к будущей «взрослой жизни». Мужья покупают электрические вибраторы, чтобы нейтрализовать свою собственную импотенцию. Они все покупают часы: часы, символизирующие, что армия транжирит их жизнь. Однажды кто-то распустил слух, что на немецких часах можно сделать состояние в стране больших Оружейных магазинов, так что каждый капитан, сержант или младший лейтенант приносят домой за время службы, по крайней мере, тридцать штук, развешивают их на стенах и они висят там два года, звонят и кукуют через неравные промежутки времени, а от этого жена и дети вояки становятся такими же сумасшедшими, каким сам он стал от своей службы. Так как стены в домах были тоньше бумаги, даже те, кто (вроде нас) не держал кукушек, слышали это упорное кукование весь день. А если у соседей не было кукушек, то был ребенок, которому медведь наступил на ухо, а он упорно пытался играть на эймондовском органе, «наилучшем изумительном инструменте» (на котором, правда, невозможно играть), взятом по причине «невообразимо низкого ежемесячного взноса», и впрямь – слушать его было невообразимой пыткой. А если и этого не было, то орал какой-нибудь старший офицер, зовя домой детей (близнецов Вэйна и Двейэна – в добрую минуту он именовал их «шалунами»). Когда меня не злило кукование, то забавлял заключенный в нем символ: в армии каждый считает дни и минуты – еще восемь месяцев до смены, еще три месяца до того, как твой муж уйдет во Вьетнам, еще два года до возможного повышения, еще три месяца до того, как ты сможешь послать за женой и детьми… Кукушки фиксируют каждую минуту каждого часа на долгом пути к забвению.
За исключением того, что у нас не было кукушек, наша квартира не сильно отличалась от типичных офицерских квартир. Мебель была отвратительного немецкого производства, сделанная после войны и полученная американцами в качестве репарации. Несомненно, она была сделана необычайно отвратительно, словно в отместку. Сначала она была бледно-бежевого цвета, но сейчас, через двадцать лет, она стала сочной, покрытой пятнами цвета мочи и испещренной множеством древесных жуков. Мы положили наше лучшее покрывало на похожую на гиппопотама кровать; другими покрывалами закрыли похожие на слонов кресла; мы заклеили стену плакатами, подоконники заставили разнообразными цветочками в горшках; мы забили полки нашими книгами, но помещение осталось безжизненным. Гейдельберг сам производил гнетущее впечатление. Отличный город, в котором дожди идут 10 месяцев в году, и солнце, кажется, борется за появление на небе, захватывая позиции на час или около того, а затем отступает снова. И мы жили в этой тюрьме. Дух и интеллект не мог жить в этом гетто.
Беннет потерялся в армии и своей депрессии. Он не хотел помогать мне, я не хотела помогать ему. Я привыкла к прогулкам под дождем по улицам старого города. Я часами скиталась по нескончаемым универсальным магазинам, ощупывая товары и тыкая в них пальцами, хотя знала, что, наверняка, ничего не буду покупать; невольно подслушивала длинные разговоры, из которых понимала лишь обрывки фраз, слушала рекламу разносчиков товаров.
Несколько бесформенных, как картофелины, женщин окружили меня, создав серую стену из тканей. Германия наполнена армией таких женщин в серых плащах и тирольских шляпах, в огромных башлыках, с малиновыми щеками, на которых проступает сетка кровеносных сосудов, похожих на фотографию фейерверка. Такие крепко сбитые вдовы были везде; они носили матерчатые сумки с высовывающимися оттуда бананами, ездили на велосипедах, едва умещаясь широкими задницами на узеньких сиденьях, или на поездах, исполосованных дождем, из Мюнхена до Гамбурга, из Нюрнберга до Фрайбурга. Мир вдов. Окончательное решение, обещанное нацистской партией: мир без евреев и мужчин. Иногда одиночество становилось невыносимым, и я ездила на Штрассербах, там шла в кафе или, точнее, кафетерий в кондитерской, представляя, будто бы я – привидение еврея, убитого в концлагере и воскресшего на день. Кто скажет мне, что это не так? Я выдумывала сложные похождения духа в моей плоти, просто сюрреалистические рассказы, которые собиралась записать когда-нибудь потом. Но они оказывались большим, чем просто рассказы, и я никогда не записывала их. В это время я думала, что схожу с ума.
В первый раз в жизни я сильно заинтересовалась историей евреев и историей Третьего Рейха. Я пошла в библиотеку и сосредоточилась над книгами, которые описывали ужас ссылаемых в лагеря смерти. Я читала и представляла, как стою на краю только что вырытой ямы, которая была могилой, а в это время нацистские офицеры поднимают автоматы. Я представляла пронзительные крики ужаса и глухой звук падающих в могилу тел. Я была ранена и упала туда вместе с дергающимися в предсмертных судорогах людьми, а затем почувствовала, как могилу засыпают землей. Как могла я утверждать, что я не иудейка, а пантеистка? Как могла верить и поклоняться зимнему солнцестоянию и «обрядам весны»? Для нацистов я была всего лишь какой-то еврейкой. Возвратилась бы я в землю и стала бы цветком или плодом? Не это ли случилось с душами евреев, убитых в тот день, когда я родилась?
В редкие солнечные дни я привычно шла на немецкую фруктовую ярмарку. Она очаровывала меня своей дьявольской красотой. Эта субботняя ярмарка находилась за старой церквью Святого Духа на площади семнадцатого века. Ярмарка раскинулась под бело-красными полосатыми навесами, и горы фруктов истекали соком, словно человек кровью. Малина, клубника, фиолетовые сливы, голубика, черника, вишня, яблоки. Море роз, пионов, тюльпанов. Все кровавого цвета, и все обливается кровью в деревянных ящиках, и все лежит на верхних крышках ящиков. Были ли это души евреев, погибших во время войны? Почему немецкое садоводство расстраивало меня? Но мы ничего не знали о том, что случилось с евреями, повторяли они снова и снова. Газеты об этом не писали. И это длилось всего двенадцать лет. Я отчасти верила им. И отчасти понимала их. И отчасти хотела бы посмотреть на каждого из них, умирающего медленной и мучительной смертью. Это была прекрасная кровожадная ярмарка – дряхлые старые перечницы, которые взвешивают кровавые фрукты, распущенные белокурые девицы, которые пересчитывали свои кровавые розы, которых всегда не хватало, чтобы разбудить все, что я чувствовала к Германии.
Позднее я была способна написать об этих вещах и частично изгнать бесов. Позднее я была способна найти немецких друзей и даже немного полюбить их язык и поэзию. Но в первый одинокий год я была не в состоянии писать и заводить новых друзей. Я жила, словно в полном одиночестве, читала, гуляла, представляла, что моя душа выскользнула из тела и на ее месте поселилась другая душа, душа давно умершего человека.
Я исследовала Гейдельберг подобно шпиону, обнаруживая все не указанные в путеводителе пометы времен Третьего Рейха. Я искала места, где до сожжения стояли синагоги. После того как я научилась вождению, я заехала далеко в поле и нашла заброшенную запасную железную дорогу и старый поезд с надписью «рейхсбан» на боку (все новенькие блестящие поезда имели надписи «бундесбан»). Я чувствовала себя, как один из фанатичных израильтян, который выслеживал нацистов в Аргентине. Только я выслеживала мое собственное прошлое, мое собственное еврейство, в которое прежде неспособна была поверить.
Что меня сильно разъярило, я думаю, так это немецкий образ действий, измененный предохранительной раскраской, образ действий, говоривший о мире и гуманизме, но требовавший сражений на фронтах. Это было их притворство, к которому я питала огромное отвращение. По крайней мере, они могли бы прийти и сказать прямо и открыто: «Мы любили Гитлера», единственное, что могло бы придать вес их гуманности, их честности и, возможно, дать им прощение. В течение трех лет, что я прожила в Германии, я встретила только одного человека, который согласился с этим. При Гитлере он был нацистом, а теперь стал моим другом.
Хорст Хаммел заведовал маленькой типографией. Его письменный стол был завален высокими стопками книг, разными бумагами и другим хламом, он все время разговаривал по телефону, а если нет, то орал на съеживающихся от страха трех помощников. Он был пяти футов росту, с солидным брюшком, носил толстые очки янтарного оттенка, которые подчеркивали синяки под глазами. После того, как Беннет повстречал Хаммела, первое время он относился к нему, как к гному. В общем-то герр Хаммел (как я вначале его называла) знал английский язык хорошо, но делал грубейшие ошибки, которые подвергали опасности всю беглость его речи. Однажды, когда я сказала ему, что отправляюсь домой затем, чтобы приготовить обед Беннету, он ответил: – Если ваш муж голоден, вы должны идти домой и приготовить его.
Хаммел печатал все: от меню до рекламных объявлений или «Новостей Гейдельбергского клуба офицерских жен» – глянцевой газетенки на четырех страницах, усеянной типографскими ошибками, скверными стихами о бедственном положении офицерских жен, картинами толп матрон, вырядившихся в цветные шляпки, с орхидеями, приколотыми к корсажам. Они всегда принимали различные решения по улучшению обслуживания населения.
Для своего собственного развлечения Хаммел еще печатал еженедельную брошюру «Гейдельберг Арт унд Нев», состоящую из рекламы ресторанов, отелей, расписания поездов, телевизионных программ и подобной чепухи. Временами Хаммел издавал так называемый общественный выпуск и время от времени интервьюировал горожан, нанося им визиты.
После года охоты на нацистов в Гейдельберге (и странной серии самых необычных дел, которыми я пыталась занять себя и которые только усилили мою депрессию), я наскочила на Хаммела, который попросил меня быть его «американским редактором» и помочь ему увеличить количество англоязычных читателей его «Гейдельберг Арт унд Нев». Идея заключалась в том, чтобы завлечь их туристской колонкой и затем всучить рекламируемые продукты: розентальский фарфор, хаммелевские (никакой связи с ним) статуэтки, домашние качели, местные вина и пиво. Я должна была вести недельную колонку за двадцать пять марок (или за семь?). Хаммел мог бы запастись фотографиями и переводчиками и печатать немецкий перевод на первой странице. Я могла бы писать обо всем, что было мне интересно. Обо всем. Конечно, я согласилась на эту работу.
Во-первых, я написала о «сохранившихся» предметах – руинах замков, винных фестивалях, исторических ресторанах, странностях и окраинах Гейдельберга. Я привыкла обучать себя. Некоторое время я писала сатиру, выдумывая события, похожие на германо-американскую неделю дружбы или «Изумительный вечер» в городском зале. Временами я писала обозрения по искусству, живописи, об операх и дискуссиях, об архитектуре и музыке, доклады об исторических посетителях Гейдельберга, таких как Гойя и Марк Твен. Я узнавала множество интереснейших подробностей о городе, находила разговорчивых немцев, становилась небольшой знаменитостью среди городских жителей и армии почтальонов, получала щедрые угощения в гейдельбергских ресторанах, которые хотели быть описанными. Но был слишком большой разрыв между моими хрупкими, остроумными статейками об удовольствиях гейдельбергской жизни, и тем, что я действительно ощущала в Германии. Постепенно я становилась храбрей и была уже способна соотнести свои чувства и свое писательство. То, чему я научилась в этих статейках, впоследствии пригодилось мне, когда я занялась «настоящим писательством». Я стала ловкой, поверхностной и бесчестной. И постепенно набралась храбрости. Так же постепенно меня стала утомлять моя маскировка. Раз за разом я снимала маски: ироническую маску, маску псевдоразвращенности, маску равнодушия.
В своих назойливых поисках в городе теней я открывала главную тень: нацистский амфитеатр, располагавшийся на холме около Гейдельберга. Походы туда стали моим наваждением. Возможно, это происходило помимо моей воли. Я возвращалась туда снова и снова.
Он был построен в 1934 или 1935 году Молодым Рабочим Корпусом (я могла только представлять себе: молодые, здоровые блондины без рубашек на жаре поют «Дойчланд, Дойчланд юбер Алес» и без устали поднимают вверх куски песчаника…) Постройка скрывалась на склоне Гейдельберга, или Святой Горы, где находится хорошо известная гробница Одина. Я добралась до амфитеатра, проехав через реку от старого города вниз по широкой улице, которая ведет к пригороду; потом поднялась на Святую Гору, следуя указателям, к руинам базилики Святого Михаила. Сам амфитеатр не был нигде указан. Дорога петляла вверх через лес, свет рассеивался между деревьями, и я чувствовала себя словно Гретель, внутри страшного серого волка-фольксвагена, но никто не помечал мой путь хлебными крошками.








