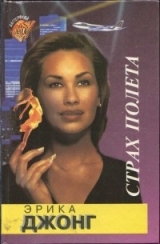
Текст книги "Страх полета"
Автор книги: Эрика Джонг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
– Я уезжаю, – сказала я и заревела. – Я вот писала тебе письмо, но теперь это уже не нужно. – Я начала рвать письмо.
– Не смей, – закричал он, отнимая у меня письмо. – Это все, что мне осталось от тебя.
Тут я заревела еще громче, икая и всхлипывая.
– Пожалуйста, прошу тебя, прости меня, – умоляла я. (Палач тоже всегда просит прощения у осужденного на казнь прежде, чем снести ему голову.)
– Тебе нет нужды просить прощения, – отрезал он.
Он начал швырять свои вещи в чемодан, подаренный ему на свадьбу человеком, который нас и познакомил. Долгого и счастливого брака вам. Множества путешествий по дороге жизни.
Неужели я всю эту сцену подстроила, чтобы насладиться ее надрывом? Я никогда не любила его так, как в ту минуту. Я никогда прежде так сильно не хотела остаться с ним. Происходило ли это из-за того, что я должна была уйти? Почему он не сказал: «Останься, останься, я люблю тебя»? Он этого не сказал.
– Я больше не могу оставаться с тобой в одной комнате, – сказал он, запихивая в чемодан буклеты и прочий хлам. У стойки портье мы задержались, чтобы заплатить по счету. Адриан ждал меня снаружи. Вот бы он ушел! Но он ждал. Беннет поинтересовался, есть ли у меня дорожные чеки и карточка «Америкэн Экспресс». В порядке ли я? Он пытался сказать: «Останься, я люблю тебя». Он и говорил это, на свой манер, но я была так околдована, что мне послышалось в этих словах только одно: «Уезжай!»
– Я ненадолго уеду, – снова сказала я, как бы раздумывая.
– Ты не останешься одна, это я останусь.
Это была правда. По-настоящему независимая женщина удалилась бы медитировать в горы, а не удирала бы с Адрианом Гудлавом в обшарпанном «триумфе».
Я никак не могла решиться. Я тянула время.
– Чего ты ждешь, черт подери? Когда ты наконец уедешь?
– А ты куда едешь? Где тебя искать?
– Я еду в аэропорт. Возвращаюсь домой. А может, поеду в Лондон, чтобы узнать, смогу ли оплатить по чеку билет на чартерный рейс, а может, полечу прямо домой. Какая тебе разница? Тебе-то какая разница?
– Мне есть разница.
– Ну-ну.
После этих слов я схватила чемодан и выскочила из отеля. А что еще я могла сделать? Я сама себя загнала в угол. Я вписала себя в банальнейшую ситуацию. Но все это было как пари, дерзость, игра в русскую рулетку, тест на женскую полноценность. И пути назад уже не было. Беннет был очень спокоен, на его лице ничего не отразилось. На нем была ярко-красная водолазка. Почему он не выбежал и не сломал Адриану челюсть? Почему он не боролся за себя? Они могли бы устроить дуэль в Венском лесу, используя в качестве оружия тома сочинений Фрейда и Лаинга. Они в крайнем случае могли бы сразиться на словах. Скажи Беннет слово – и я бы осталась. Но никто меня не остановил. Беннет предоставил мне право уйти. И мне пришлось воспользоваться этим правом, как бы то ни было тяжело.
– Ты целый час уже копаешься, солнышко, – упрекнул меня Адриан, убирая мой чемодан в багажник, который он называл «калошей». И мы выкатились из Вены, как парочка изгнанников, спасающихся от нацистов. По дороге в аэропорт мне хотелось закричать: «Останови! Высади меня здесь! Я не хочу уезжать!» Я представляла себе Беннета, одинокого, в красной водолазке, ожидающего какого-то самолета в ту или иную сторону. Но было слишком поздно. Я влезла в эту авантюру – к добру или к худу, не знаю – при этом совершенно не представляя, куда меня занесет.
Новый взгляд на экзистенциализм
…Экзистенциалисты утверждают,
Что в совершенном горе пребывают,
Но продолжают все-таки писать.
У.Х. Оден
Когда я связалась с Адрианом Гудлавом, я вошла в мир, жизнь которого определялась его, Адриана, правилами, – хотя он, разумеется, делал вид, что живет безо всяких правил. Скажем, на расспросы о том, что мы будем делать завтра, было наложено строгое табу. Экзистенциалистам не полагалось произнесть слово «завтра». Оно было изъято из нашего лексикона. Нам нельзя было говорить о будущем или вести себя так, как будто будущее существует. Будущего не существовало. Существовало лишь наше путешествие, наши остановки в пути и отели. Существовали только наши беседы и взгляд перед собой, за лобовое стекло, которое Адриан называл ветровым. За спиной у каждого из нас оставалось лишь прошлое, к которому мы обращались все настойчивее и настойчивее, чтобы убить время и как-то развлечь друг друга (точно так же, как родители стараются развлечь во время долгой автомобильной поездки заскучавшего ребенка, придумывая географические игры и угадайки типа «Скажи название песни». Мы рассказывали друг другу длинные истории – каждый о своем прошлом, приукрашивая и драматизируя события, как делают романисты. Конечно, мы притворялись, что говорим правду, всю правду и ничего, кроме правды, но ни один человек (как писал Генри Миллер) не способен все время говорить только правду. И даже наши самые, на первый взгляд, откровенные автобиографические подробности были обработаны – были, иначе говоря, беллетризованы. Говоря о прошлом, мы задумывались о будущем. Порой мне казалось, что я похожа на Шехерезаду, забавляющую падишаха рассказами о придуманных заговорах, чтобы настоящий заговор настиг его внезапно. Каждый из нас мог (теоретически) в любой момент сдаться, но я боялась, что Адриан скорее, чем я, может так поступить, и постоянно развлекать его было моей задачей. Когда дело подойдет к развязке и я на веки вечные расстанусь с этим человеком, тогда более, чем когда бы то ни было, я осознаю, насколько несвободна. Мои природные импульсы придется подавить. И весь этот возмутительный бунт предстанет как свидетельство моей тайной рабской покорности.
Лишь тогда, когда тебе запрещено говорить о будущем, ты внезапно понимаешь, как властно будущее присутствует в настоящем, как много сиюминутной жизни проводится в придумывании планов и попытках определить будущее. И совершенно не имеет значения, что будущее не поддается контролю. Сама мысль о будущем – это величайшее развлечение, наслаждение и способ убить время. Уберите это, оставьте себе только прошлое – и лобовое стекло облепят мертвые насекомые.
Адриан устанавливал правила, а еще он имел обыкновение часто их менять в угоду своим настроениям. В этом он напоминал мне мою старшую сестру Рэнди в детстве. Она научила меня играть в кости, когда мне было семь лет (а ей двенадцать), но каждую минуту меняла правила в зависимости от того, проигрывала она или выигрывала. Поспорив с ней минут десять, я вынуждена была в результате отдать ей все содержимое долгое время наполняемой хрюшки-копилки, а она (разбив копилку) разбогатела, как Сай Мастерсон. Как бы ни была милостива ко мне Госпожа Удача, я всегда оказывалась в дураках.
– Два очка – я выиграла! – вопила моя сестра.
– Ты?
Я собирала свои долларовые накопления, как муравей, а она транжирила свои, как стрекоза. И всегда она оказывалась в выигрыше, а я – банкротом. Таковы преимущества первородства. Мне всегда доставались вторые роли. Кстати, Адриан родился в том же году, что и Рэнди (в 1937), и у него тоже был младший брат, над которым он все время издевался. Мы стремительно связывали нити этого старого гобелена поведения, пробираясь по лабиринтам старушки Европы.
Нам довелось познакомиться с крошечными австрийскими пансионатами, с белыми кружевными занавесками в гостиной, с подоконником, уставленным кактусами, с краснощекой хозяйкой (которая обязательно спрашивала, сколько у нас детей – как будто бы она забыла, что мы уже отвечали ей на этот вопрос сколько-то километров назад), с огромной, поистине королевской постелью с матрасом, разделенным на три части по горизонтали (причем границы матраса проходили как раз по стратегически важным частям тела – вроде груди или гениталий, так что в середине ночи непременно проснешься от того, что один сосок или яичко застряло между частью 1 и частью 2, или между частью 2 и частью 3).
Нам довелось познакомиться с австрийскими перинами, заливавшими нас потом в начале ночи, а затем сползавшими на пол, как бы в результате злого колдовства, как раз тогда, когда тебя настигал глубокий сон; их приходилось натягивать обратно и в довершение всего пробуждаться от того, чтобы губы и глаза чудовищно распухали от тонн вековой пыли и других зловещих аллергенов, накопившихся в перине.
Нам довелось познакомиться с пансионскими завтраками, состоявшими из холодных твердых булочек, баночек абрикосового джема в фабричной упаковке, крошечных завитков масла и громадных, подошедших бы и Гаргантюа, чашек кофе с молоком, в котором плавали отвратительные пенки.
Нам довелось познакомиться с убогого вида кемпингами, со специфическим запахом мочи, длинными рядами умывальников, затхлым рассадником комаров, называемым «бассейном» (где Адриан обязательно купался) и веселыми гражданами Германии, которые искрометно острили по поводу адриановой английской надувной палатки (в которой ночи напролет горела синяя лампочка дневного света) и расспрашивали нас о нашей жизни, как наиискушеннейшие в своем деле шпионы.
Нам довелось познакомиться с кафе-автоматами на немецких «автобанах», где продавались сосиски, с их подносами, застеленными засаленными бумажками с рекламой пива, с их зловонными платными туалетами, их торговыми автоматами, выплевывавшими мыло, полотенца и презервативы. Нам довелось познакомиться с немецкими пивными парками, с их вонючими столиками и грудастыми официантками средних лет в плотно облегающих платьях с широкими юбками, и с пьяными водителями грузовиков, выкрикивавшими обидные замечания в мой адрес, когда я нетвердой походкой направлялась в туалет.
Обычно мы начинали пить еще с утра, проносясь по «автобану» в машине с правым рулем, везде делая неправильные повороты. Нас обгоняли «фольксвагены» на скорости 80 миль в час, «БМВ», агрессивно мигающие фарами на скорости 110 миль в час, «мерседес-бенцы». Каждый немец считал своим долгом, заметив наши английские номера, обойти нас. Адриан вел машину, как маньяк, делая обгон не с той стороны, вихляясь туда-сюда по дорожке для грузового транспорта, чем приводил немцев в бешенство. Одна моя половина дрожала от страха, а другая стремилась к этому. Мы ходили по краю. Мы как будто бы погибали в ужасной катастрофе, стиравшей воспоминание о наших лицах и наших грехах. Но единственное, в чем я была уверена: мне не скучно.
Как все, кто озабочен проблемой смерти, кто ненавидит авиаперелеты, кто изучает в зеркале едва наметившиеся морщинки и панически боится своих дней рождения, кто страшится умереть от рака, или от инсульта, или от апоплексического удара, я на самом деле была тайно влюблена в смерть. Я могла испытывать чудовищные страдания во время чартерного перелета Нью-Йорк – Вашингтон, но за рулем спортивной машины я без колебаний выжму 110 миль в час, наслаждаясь каждой минутой опасности. Волнение, вызванное сознанием того, что ты сама себя можешь отправить на тот свет, – ощущение еще более сильное, чем оргазм. Должно быть, так чувствовали себя камикадзе, вершившие над собой обряд жертвоприношения вместо того, чтобы лежать в теплой постельке где-нибудь в Хиросиме и Нагасаки и дождаться сюрприза в одно «прекрасное» утро.
Мы много пили еще по одной причине: меня терзали частые депрессии. Я балансировала между приливами энтузиазма и депрессией (ненавидя себя за то, что я сделала, впадая в отчаяние от одиночества рядом с человеком, который меня не любит, с ужасом заглядывая в будущее, о котором нельзя было даже упоминать). Так что мы пили, хихикали и гримасничали, и отчаяние отступало. Оно не улетучивалось совсем, конечно же, но его становилось легче переносить. Все равно что напиться в самолете, чтобы приглушить страх перед полетом. Ты все еще убежден в надвигающейся гибели и думаешь так каждый раз, когда рокот моторов немножко меняется, но тебе уже наплевать, случится это или нет. Ты превращаешься в мысль о себе самом. Ты представляешь себе, как паришь среди кучевых облаков в голубом океане лучших воспоминаний детства.
Нам довелось познакомиться с французскими стоянками для грузовиков, с итальянскими автоматами «эспрессо», готовящими исключительно крепкий кофе. Нам довелось познакомиться с прелестями эльзасского пива и ящиками груш, купленных на придорожных фермах. Мы поняли, что пересекли границу Франции, когда фары машин замигали горчично-желтым вместо белого цвета и хлеб стал вкуснее.
Нам довелось познакомиться с самой уродливой частью Франции, у границы с Германией, где дороги совершенно разбиты снующими туда и обратно кавалькадами машин, а французы отказываются их ремонтировать, ссылаясь на то, что немцы и так доберутся до Парижа, и чем медленнее, тем лучше.
Нам довелось познакомиться с бесчисленными дешевыми постоялыми дворами с тусклыми лампочками и усиженными мухами биде (в которые мы писали, потому что брезговали входить в тесный заплеванный туалет в холле, где свет зажигался только ценой ободранных ногтей).
Нам довелось познакомиться с еще более шикарным типом кемпинга с сортиром на улице и баром с музыкальным автоматом, оравшим песни «Битлз». Но чаще всего (а это был август, и все бюргеры Европы, словно сговорившись, бросились в автопутешествия со своими двумя с половиной детьми – как утверждает статистика) самые приличные кемпинги оказывались переполненными, и нам приходилось ставить палатку у дороги (и бегать облегчаться в кусты, где колючая трава щекотала задницу, а слепни, жужжащие в опасной близости от заднего прохода, норовили тут же облепить свежие какашки).
Нам довелось познакомиться с «Аутострада дель Соле», с ее фантасмагорическими грилями «павезе» и видами, достойными Феллини: леденцы в красочных обертках, горы игрушек, бочонки «пантеоне», обвязанные бантиками, баночки с джемом и коробочки с карамелями.
Нам довелось познакомиться с итальянскими сумасшедшими, гонявшими со скоростью девяносто миль в час на своих фиатах «чинточенто» и останавливавшимися всякий раз при виде статуи Христа у дороги, чтобы осенить себя крестным знамением и бросить пару лир в коробку для пожертвований.
Нам довелось познакомиться с дюжиной аэропортов и аэропортиков в Германии, Франции и Италии. Дело в том, что иногда, когда кончался второй ящик пива и подымала свою уродливую голову моя всепоглощающая депрессия (вкупе со вторичными симптомами в виде головной боли и утомления), я впадала в панику и требовала, чтобы Адриан отвез меня в ближайший аэропорт. Он никогда не говорил «нет». Он только замолкал и начинал вести себя так, как будто бы я его сильно разочаровала. Но никогда он напрямую не перечил моим желаниям. Мы мчались в ближайший «флюгхафен» или «аэропорто», по дороге умудрялись заблудиться, по пятьсот раз спрашивал, как туда проехать. Когда мы попадали в нужное место, обязательно выяснялось, что следующий самолет будет не раньше, чем через два дня, или что на него нет билетов [47]47
Europe im August: tout le monde en vacances – Европа в августе: весь мир в отпуске (нет. и франц.)
[Закрыть], или что он улетел две минуты назад. А потом мы шли в бар, брали еще пива, и Адриан целовал меня, и шутил со мной, и сладострастно хватал меня за задницу, и говорил о нашем безумном приключении. И мы снова возвращались в машину в преотличном настроении. В конце концов, я не совсем была уверена, что мне есть куда еще отправиться.
Наше путешествие едва ли было приятной увеселительной прогулкой. И когда мы петляли, и кружили, и блуждали, это происходило из-за того, что наш маршрут определялся не дорожными знаками или завлекательными трехзвездочными отелями, а головокружительной сменой настроений – моих и – в меньшей степени – Адриана. Мы перескакивали от депрессии к депрессии, петляя вокруг пьяных пикников. Наш маршрут не подчинялся никаким законам географии, но это я поняла некоторое время спустя, когда записывала название тех мест, которые мы посетили. Мы заехали в Зальцбург и пробыли там достаточно долго, так что успели посетить моцартовский Gebrutshaus, объесться Leberknodel и всласть выспаться. А потом мы двинулись в Мюнхен. Мы скитались на всем пространстве от Мюнхена до Альп, заезжая в разные замки, воздвигнутые королем Людвигом Баварским Безумным, карабкаясь по горному серпантину в Шлосс Неушванстайн, штурмуя замок вместе с армадой картофелеподобных домохозяек в ортопедической обуви, работавших локтями позади нас и производящих цокающие звуки посредством своих медоточивых уст, высовывавших нам вслед язык в неистовой гордости за свое славное национальное наследие в виде Вагнера, Фольксвагена и свиных окороков.
Я помню окрестности Неушванстайна с почти кошмарной ясностью: Альпы, словно сошедшие с открытки, облака, зацепившиеся за зубцы гор, ревматические пальцы древних снежных изваяний, безмолвные рога пиков, упирающиеся в голубое небо с плывущими по нему облаками, бархатистые зеленые долины (по которым катаются зимой начинающие лыжники) и коричневые крыши замков, и белые домики, похожие на игрушки, разбросанные ребенком.
Самый знаменитый немецкий замок находится вовсе не в Швецингене или Шпейере, не в Гейдельберге или Гамбурге, не в Баден-Бадене или Ротенбурге, не в Берхтесгадене или Берлине, не в Байрау или Бамберге, не в Карлсруэ или Кранихштейне, не в Эллигеле или Эльце, – а в Диснейленде, штат Калифорния. Забавно, насколько похожи в душе были Уолт Дисней и король Людвиг Баварский Безумный. Людвигов Неушавнстайн – это созданная в XIX веке имитация средневековой постройки, которая на деле никогда не существовала. Диснеевский замок – это имитация этой имитации.
Я была в некотором роде зачарована Людвиговым оштукатуренным гротом с центральным отоплением, проведенным между спальней и кабинетом, его оштукатуренными сталактитами и сталагмитами, освещенными зеленоватыми неоновыми светильниками, надгробием Зигфрида и Тангейзера с изображениями жирных белобрысых богинь с грудями гладкими, как эпоксидная смола, и воинов с белобрысыми бородами, пробирающихся по лесистым долинам и мшистым скалам. Я была очарована портретом Людвига с глазами параноика. И везде в Шлоссе бросалось в глаза все самое слащавое, сентиментальное и тошнотворное, что только есть в немецкой культуре – особенно эта показная самовлюбленная убежденность в исключительной духовности их «расы»: «мы люди духа (geistig), мы глубоко чувствуем, мы любим музыку, мы любим звук марширующих сапог…»
Потрясающи купидоны и голуби, вьющиеся вокруг Тангейзера, который взбирается на серую оштукатуренную скалу, облокотившись нарисованным атласным локтем на тщательно выписанную драпировку, которая ниспадает с жирных бедер Венеры. Потрясающи, особенно в этом замке, живописные полотна. И вся эта страна, напоминающая Диснейленд, не оставляет никакого простора воображению. Каждый лист тщательно выписан и оттенен; каждая грудь преподносит тебе свой как бы настоящий сосок, глядящий на тебя, как глаз идиота; каждое перо купидонова крыла вот-вот затрепещет на сквозняке. Никакого простора для воображения – и от этого звереешь.
После Мюнхена и его окрестностей мы отправились на север, до самого Гейдельберга (останавливаясь, петляя и кружа по дороге), а потом поехали по автобану в Базель (швейцарский шоколад, швейцарский, немецкий и мрачный собор из камня, с видом на Рейн), а затем – в Страсбург (колыбель паштета из гусиной печенки). Беспорядочно вихляя, мы пробирались по дорогам, ведущим, более или менее, к Парижу, а потом – через юг Франции – в Италию (по Ривьере), до Флоренции, а затем снова на север до Вероны и Венеции, через Альпы, через Тичино и назад в Австрию, Германию, потом снова во Францию, и наконец – в Париж, в последний раз, где я осознала, что происходит (или часть происходящего), но и это не сделало меня свободнее (пока).
Описание этого маршрута звучит совершенно невероятно, и еще более невероятен сам маршрут, когда понимаешь, что все путешествие заняло всего две с половиной недели. Мы почти ничего не посмотрели. Большую часть времени мы провели за рулем и в трепе. И трахаясь. Адриан демонстрировал полную импотенцию, когда мы были наедине, но становился неутомимо страстным в публичных местах: в пляжных кабинках, на автостоянках, в аэропортах, на развалинах монастырей и храмов. Если во время сношения не приходилось нарушать по крайней мере два табу, то сам по себе половой акт совершенно не интересовал его. Он заводился от возможности, образно говоря, вступить в кровосмесительную связь с собственной матушкой под крышей церкви. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, et cetera.
Мы говорили. Мы говорили. Мы говорили. Выездной сеанс психоанализа. Воспоминания о прошлом. Чтобы убить время, мы составляли списки: мои бывшие любовники, его бывшие любовницы, различные варианты сношений (групповые, по любви, греховные и т. д.), места, где нам приходилось в жизни трахаться (в туалете «Боинга 707», в пустой еврейской молельне на борту «Куин Элизабет», на развалинах иоркширского аббатства, в шлюпках, на кладбище…) Должна признать, что некоторые из этих актов я сама придумала, но главной целью всех рассказов было развлечение, а не выяснение истины. Наверняка никому в голову не придет, что я когда-нибудь говорила ему полную правду.
Адриан, как любой другой психиатр, с которым я была знакома или спала, умирал от желания найти в моем прошлом какую-нибудь модель. Лучше всего – закономерную модель, саморазрушающую – хоть какую-нибудь! И конечно, я старалась ему угодить. Это было нетрудно. Когда дело касается мужчин, мне всегда не хватает такой простой черты характера, как осторожность – можно назвать это здравым смыслом. Встретив какого-нибудь идиота, от которого любая уважающая себя женщина сбежала бы куда глаза глядят, я умудряюсь находить что-то привлекательное в его сомнительных достоинствах, что-нибудь симпатичное в его заморочках. Адриану нравилось слушать такие рассказы. Конечно, он заранее исключил себя из компании этих моих знакомых невротиков. Он ни в коем случае не допускал, что может стать элементом модели.
– Я – единственный из твоих знакомых мужчин, который не относится ни к одной категории, – торжествующе говорил он. А потом призывал меня категоризировать других. И я подчинялась. Да, я знала, что превращаю свою жизнь в ритуал танца и песни, в переиздаваемый роман, в сказку про белого бычка, в дурацкую шутку… Я думала обо всех этих томлениях, боли, письмах (отправленных и неотправленных), о приступах слез, о телефонных разговорах, о страдании, о попытке представить все это в разумном свете, о психоанализе, вплетенном в живое тело наших отношений с каждым из этих мужчин, наших отношений, наших отнесений друг к другу, нашей отнесенности друг к другу. Я знала, что форма, в которой я их описала – фальсификация их сложности, их гуманности, их стыдливости. Жизнь не происходит по заранее написанному сценарию. Она гораздо интереснее и разнообразнее, чем можно сказать о ней на общепринятом языке. Возможность описать ее банальными словами не узаконивает и не расставляет ее события по местам, в действительности она беспорядочна и не укладывается ни в какую схему. Даже те писатели, которые ценят прекрасную анархию жизни и пытаются описать ее в своих книгах, невольно представляют ее другой, более закономерной и обусловленной, чем она есть на самом деле, и в результате опускаются до обыкновенной лжи. Потому что ни один писатель не способен сказать о жизни правду. Жизнь в сто раз богаче и интереснее, чем любая книга. И ни один писатель не способен написать правду о живых людях, которые гораздо богаче и интереснее, чем любой придуманный персонаж.
– Ладно, кончай философствовать об этом дурацком писательстве и расскажи-ка лучше про своего первого мужа, – сказал Адриан.
– Хорошо, хорошо.








