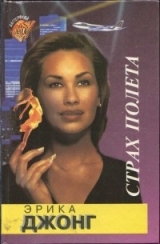
Текст книги "Страх полета"
Автор книги: Эрика Джонг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
– Нам лучше расстаться на некоторое время, дорогая, – говорит он.
– Пожалуй, – отвечаю я (ковыряясь языком в зубах, между которыми застряли куски селедки). Мы целуемся, обмениваясь пахнущей луком слюной. Я сажусь на поезд на мысе Голландии. Я машу пропахшей селедкой ладонью. Чарли посылает мне воздушные поцелуи. Он стоит на платформе, плечи у него покатые, дирижерская палочка торчит из кармана, обшарпанный чемодан распух от оркестровых партий, а в руках он держит сверток с селедкой. Поезд отходит. Весь перегон от мыса Голландии до Гарвица я стою, как в тумане, и рыдаю, думая о том, как я стою, как в тумане, и рыдаю, и прикидываю, смогу ли я это когда-нибудь описать в своей книге. Длинным наманикюренным ногтем я выковыриваю еще один ошметок селедки из зубов и театральным жестом швыряю его в Северное море.
В Йоркшире и получаю письмо от Чарли (который все еще сидит в Париже). « Дорогая, – пишет он, – не думай, что это из-за Салли, но я разлюбил тебя…«
Я живу в огромном, полном сквозняков английском сельском доме со своими безумными английскими приятелями, которые целыми днями пьют джин, чтобы согреться, и болтают об Оскаре Уайльде, и следующие десять дней я провожу в алкогольном обалдении. Я посылаю телеграмму Пие, чтобы она встретила меня во Флоренции раньше, чем мы договаривались, и мы вдвоем самозабвенно мстим нашим неверным возлюбленным (ее остался в Бостоне), переспав со всеми мужчинами Флоренции, кроме микеланджелова «Давида». Но ничего не помогает. Мы по-прежнему чувствуем себя несчастными. Чарли звонит мне во Флоренцию и просит прощения (он все еще сидит в Париже с Салли), и это толкает нас на новую безрадостную оргию… Потом Пиа и я раскаиваемся и решаем очиститься. Мы упиваемся холодным белым итальянским кьянти. Мы преклоняем колени перед статуей «Персея» в Лоджии деи Ланци и просим прощения. Мы взбираемся на верхушку звонницы Джотто и молимся его духу (для этой цели сошла бы любая знаменитость, между прочим). Мы два дня голодаем и пьем только «Сан-Пелегрино». Мы по самые уши накачиваемся «Сан-Пелегрино». Наконец, последним номером программы, мы решаем послать своим неверным возлюбленным свои лифчики, чтобы они почувствовали себя по-настоящему виноватыми. Но куда их вложить? У Пии под кроватью в номере ее полуразвалившейся гостиницы валяется старая коробка из-под «Мотта Пантеоне». Я обыскиваю все у себя, но не нахожу ничего, в чем можно было бы отправить мой лифчик, поэтому я отвергаю этот проект, может быть, даже слишком поспешно. (И вообще: правильно ли это – посылать Чарли и Салли мой лифчик в старой коробке?) Но Пиа непоколебима. Она рыскает повсюду в поисках подходящего конверта. Она надписывает на коробках адреса. Она напоминает мне, что получалось, когда в тринадцать лет я заворачивала использованные тампоны в светлые конверты.
Мы плетемся в контору «Америкэн Экспресс» (где мы спали с нищими флорентийскими почтовыми клерками). Мы говорим, что нам нужно заполнить таможенные декларации. Но как заполнить декларацию «Один лифчик, б/у»? «Один лифчик, поношенный»? А может, «ношеная одежда»? Можно ли лифчик назвать одеждой? Мы с Пией долго это обсуждали. «Ну ты же носила его», – сказала она. Я настаивала на том, что она должна послать свой лифчик в Бостон в качестве антиквариата, таким образом мы избегнем пошлины. А вдруг ее подлому дружку придется заплатить пошлину при получении посылки? Вдруг это станет приятным дополнением к чувству вины и обиды?
– Да пошел он! – говорит Пиа. – Пусть заплатит ввозную пошлину за него и удавится. – И с этими словами она пишет в реестре: «Одна флорентийская кожаная сумка – цена 100 долларов».
Вскоре после этого мы с Пией расстаемся. Я отправляюсь погостить к Рэнди в Бейрут, а она едет в Испанию, где, совершенно без лифчика, будет до самого конца лета наслаждаться любовью испанцев. Она никогда не чувствовала себя виноватой из-за того, что с кем-то переспала. Смешно звучит, но я ее хорошо понимаю. Как никак, мы все-таки пай-девочки пятидесятых!
Арабы и другие животные
Во сне течет арабских шейхов кровь,
И мне принадлежит твоя любовь.
Когда ты ночью уснешь, я найду
Твой шатер – и войду.
Тед Снайдер Вилер и Гарри Б. Смит «Арабский шейх»
Во Флоренции я села на скорый поезд, чтобы добраться до Рима и вылететь рейсом «Алиталии» в Бейрут. Тогда, помнится, я страшно беспокоилась – меня волновало буквально все, конечно же, сам перелет, и то, почему нет писем от Чарли, живущего у Салли в Париже, и то, что арабы могут посчитать меня иудейкой (может быть, чтобы избежать этого, в моей визе большими буквами было напечатано «Без определенного вероисповедания»). Я-то понимала значение этого выражения, но посчитают ли арабы, что это лучше, чем иудаизм – ведь половина населения Ливана тогда уже была католической. Я очень боялась, что меня уличат в обмане, несмотря на мое абсолютно индифферентное отношение к иудаизму. Я ненавидела лгать про свою религию. Я была уверена, что из-за своего ужасного обмана лишусь покровительства Иеговы (сколь бы незначительно оно ни было).
Кроме того, мне стало ясно, что я подхватила триппер от этих обрезанных флорентийцев. О, у меня была фобия буквально ко всему, что я только могла представить: самолетным крушениям, трипперу, проглоченным случайно осколкам стекла, ботулизму, арабам, раку легких, лейкемии, нацизму, меланоме… Боязнь триппера, например, состояла в том, что мне было неважно, насколько хорошо я себя чувствую, или что во влагалище у меня совсем не было ран и болячек. Я вглядывалась, вглядывалась и вглядывалась, и, если обнаруживалась хоть какая-нибудь мелочь, я уверяла себя, что у меня неострая асимптоматичная форма триппера. По секрету вам скажу, что мои фаллопиевы трубы уже затянулись рубцовой тканью, а яичники засохли, как гороховые стручки. Это я воображаю в очень живописных деталях. Все мои нерожденные дети засыхают на корню! Так сказать, превращаются из винограда в изюм. Самая препоганейшая вещь для женщины – это сюрпризы собственного тела. Всю свою юность ты изгибаешься дугой перед зеркалом в ванной с единственной целью – заглянуть себе между ног. И что же там увидишь? Вьющийся нимб коротких волос, ярко-красные губы, розовую кнопочку клитора – и ничего больше! Самое важное-то и не видно. Неисследованное ущелье, подземная пещера, где и сидят в засаде разные скрытые опасности.
Так уж случилось, что полет в Бейрут словно был создан для того, чтобы вызывать у меня всякие сумасшедшие страхи. В полете мы попали в грандиозную воздушную бурю над Средиземноморьем, с дождем, бьющим в иллюминаторы, с потоками непереваренной пищи в салоне и ежеминутными появлениями пилота с успокаивающими речами, которым, впрочем, я не верила ни на йоту. (Ни одна фраза на итальянском не вызывает доверия – даже Lasciate Ogni Speranza.) Я уж было приготовилась к смерти, которая должна была стать карой за это самое «Без определенного вероисповедания» в моей визе. Ведь это был бы, по сути дела, лишь один из видов трансгрессии, которым подвергает нас Иегова – как и поганых язычников.
Каждый раз, когда самолет, угодив в воздушную яму, падал на пятьсот футов, я давала обет отказаться от секса, мяса и воздушных путешествий, если только мои ноги ступят на твердую землю.
Да и мои попутчики в самолете даже отдаленно не напоминали тех людей, в компании с которыми приятно умирать. Когда дела стали совсем плохи и нас бросало в воздухе как тлей, прицепившихся к бумажному планеру, какой-то пьяный идиот принялся орать «О Маргаритка!» при каждом нашем падении в яму, а еще несколько пьяных дураков залились истерическим смехом. Перспектива гибели вместе с этими пустоголовыми комиками и прибытия на небеса с пометкой «Без определенного вероисповедания» в визе заставила меня впасть в благочестивые молитвы. Трудно быть атеистом на реактивном самолете.
Позабавившись вволю, буря ушла в сторону (мы просто пролетели сквозь нее); в это время наш самолет был где-то над Кипром. Какой-то египтянин (или что-то в этом роде) весьма сального вида даже принялся флиртовать со мной, когда понял, что остался жив. Он рассказал мне, что издает журнал в Каире, а в Бейрут летит по делу. Он уверял меня, что нисколько не боялся все это время, потому что носит вот эту голубую бусинку против дьявольского глаза. Хоть с голубой бусинкой, хоть без, но он вызвал у меня отвращение. Он принялся уверять меня, что мы оба – обладатели «счастливых носов», поэтому у самолета не было возможности разбиться с нами на борту. Он дотронулся до кончика моего носа, потом потрогал свой и сказал: «Смотрите – счастливые».
– Господи! Теперь мне сказали, что у меня уродский нос, – прошептала я.
То, что носы наши похожи, у меня не вызывало ни малейшего восторга. У него нос был кривой, как у Насера (для меня все арабы похожи на Насера), в то время как мой нос, пусть и не идеально правильный, был, по крайней мере, маленький и прямой. Хоть это и не мечта мастера пластической хирургии, но и не нос Насера. А кроме того, этот крючковатый кончик достался мне в наследство от одной из моих бабок, которую изнасиловал какой-то подонок-поляк во время давно забытого погрома в Пале.
Однако мой собеседник не ограничился разговорами о наших носах. Он взглянул в номер «Тайма», который раскрытый (но, увы, не прочитанный) валялся у меня на коленях в течение всей свистопляски, и ему на глаза попалась фотография председателя ООН Гольдберга, на что немедленно последовало значительное: «Он еврей». Сказано было лишь это, но тон и взгляд выдавали все недосказанное. Я тяжело взглянула на него (поверх польского носа) и за два цента могла бы сказать: «Я тоже», но кто бы дал мне тогда эти два цента? Как раз в этот момент наш итальянский пилот объявил посадку в аэропорту Бейрута.
Я все еще находилась под впечатлением мелких перемен, как вдруг за стеклянной стеной заметила Рэнди с огромным беременным животом. Я думала, что пройти через таможню будет намного сложнее, чем оказалось на самом деле. Мой зять был знаком чуть ли не с каждым служащим аэропорта, поэтому я проскочила на правах Очень Важного Лица. Шел 1965 год, и в это время дела на Ближнем Востоке еще не приняли своего разрушительного характера, как это случилось в шестидневной войне. До прихода израильтян по Бейруту можно было проехать, как по Майями-Бич – который, к слову, Бейрут чем-то напоминал, если бы не изобилие свах.
Рэнди и Пьер везли меня из аэропорта в черном, блестящем кадиллаке с кондиционером, который морем был доставлен из Штатов. По дороге в Бейрут мы проехали лагерь беженцев, где кровом людям служили картонные коробки и толпы грязных полуодетых ребятишек бродили с пальцами во рту. Рэнди немедленно сделала какое-то высокопарное замечание о том, как же все это неприятно.
– Неприятно? И все? – спросила я.
– Ой, не становись похожей на этих проклятых либеральных доброхотов, – отпарировала она. – Ты что, считаешь себя Элеонорой Рузвельт?
– Спасибо за комплимент.
– Я уже сыта по горло этими обвинениями из-за бедных палестинцев. Почему ты не беспокоишься и о нас заодно?
– Я беспокоюсь, – сказала я.
Город Бейрут был неплох, но вовсе не так великолепен, как можно было себе представить из рассказов Пьера. Почти все было новым. Там были сотни похожих друг на друга белых домов с очаровательными террасами, повсеместно улицы были перегорожены строительными площадками. В августе здесь было нестерпимо влажно и жарко и даже трава приобрела коричневый оттенок от солнца. Средиземное море было голубым (хотя и не таким, как Эгейское – что бы Пьер ни говорил). С некоторых точек город очень напоминал Афины – но без Акрополя. Растянутый вечный город с новыми зданиями, построенными на развалинах старых. Запомнились реклама кока-колы на мечетях, станции «Шелл» с рекламой бензина на арабском, женщины в паранджах, развалившиеся на задних сиденьях изящных «шевроле» и «мерседес-бенцев», фон из непередаваемой арабской музыки, прямые лестницы, и женщины в миниюбках с дразнящими светлыми волосами, прогуливающиеся вдоль Хамра-Стрит мимо реклам американских фильмов и книжных лотков, заваленных продукцией «Пингвина», «Ливр де Поша» и «Америкэн Пэйпербэк», – вперемешку с последними порнороманами из Копенгагена и Калифорнии. Казалось, что здесь встретились Запад и Восток, но вместо того, чтобы образовать пленяющее душу единство, они идут параллельными курсами.
В апартаментах Рэнди меня уже ждала вся семья – не было лишь родителей, но их ждали из Японии со дня на день. Рэнди, несмотря на свои многочисленные беременности, выглядела так, словно она первая женщина в истории с плодом во чреве. Хлоя хандрила в ожидании писем от Абеля (которые аккуратно приходили, начиная с ее четырнадцатилетия). Лала болела дизентерией и была уверена, что всем интересны подробности каждого приступа, вплоть до цвета и консистенции. Детей приводили в ярость все гости, поэтому они носились по террасе, ругаясь, но в основном на горничную и на арабском (что заставляло ее по меньшей мере один раз в день паковать чемоданы и заявлять о своем отъезде). А Пьер – выглядевший как Кахлил Тибран на его собственных автопортретах – слонялся по огромным апартаментам в своем шелковом банном халате и отпускал бесстыдные шуточки о традициях Ближнего Востока, согласно которым мужчина, взявший в жены старшую сестру, получает впридачу и младших. Когда же он не иронизировал над средневековыми обычаями, он читал нам переводы своих стихотворений (тогда мне казалось, что все арабы – поэты), которые, однако, для моего слуха были слишком приторны:
Моя любовь как сноп пшеницы,
Взрывающийся цветами.
Ее глаза, как топазы в пространстве…
– Беда в том, – говорила я Пьеру за чашкой арабского растворимого кофе, – что снопы пшеницы обычно не взрываются цветами.
– Поэтическая вольность, – отвечал он без тени смущения.
– Пошли на пляж, – предложила я, но все были слишком усталые, слишком сонные, да и на улице было слишком жарко. Было очевидно, что так я никогда не вытащу их ни в Баальбек, ни в Сидарз, Дамаск, Каир – об этом можно было забыть. До Израиля было рукой подать, но мы могли слетать на Кипр, хотя после последнего полета об этом не хотелось и думать. Кроме того, потом у нас были бы проблемы с возвращением обратно в Ливан. Все, что мне оставалось, – это слоняться вместе с остальными по апартаментам Рэнди и ждать вестей от Чарли, – они приходили довольно редко. Вместо этого я стала вспоминать всех других паяцев, которых я знала: женатого флорентийца, который заставлял меня шептать непристойности, американского профессора, который клялся, что я изменила его жизнь, одного из почтовых служащих «Америкэн Экспресс», который убедил сам себя, что я богатая наследница. Но я хотела лишь Чарли, и никого больше. А Чарли хотел Салли. Я была в отчаянии. Половину времени в Бейруте я провела, лелея мою боязнь триппера, разглядывала в зеркало свою промежность и подмывалась в белом очаровательном биде Рэнди.
Когда прибыли мои родители, нагруженные подарками с таинственного Востока, положение ухудшилось. Гостеприимства Рэнди хватило ровно на три дня. Потом она и Джуд ударились во все тяжкие и стали извлекать на свет божий события двадцатилетней давности. Рэнди обвиняла мать во всем: в том, что она не слишком-то часто меняла пеленки, и в том, что она меняла их чересчур часто; в том, что она слишком рано начала учить ее играть на фортепиано, и в том, что слишком поздно разрешила кататься на горных лыжах. Они накинулись друг на друга, как пара судебных обвинителей, разбирая прошлое по косточкам. Я начала мечтать о большой земле, где можно было бы укрыться от этих дрязг. Меня снова потянуло уехать. Я чувствовала себя как живой мячик для пинг-понга. Я находила мужчину, чтобы спастись от семьи, но потом возвращалась в семью, чтобы спастись от мужчины. Как только я появлялась дома, меня тянуло сбежать, но вне дома меня сразу начинало тянуть обратно. Как вы это назовете? Дилеммой бытия? Угнетением женщины? Условиями человеческого существования? И тогда и теперь это было нестерпимо: мои собственные колебания из-за внутренней двойственности. Как только я чувствовала землю под ногами, мне сразу хотелось сорваться и улететь куда-нибудь. Что же мне делать? И я смеялась. Но это был смех сквозь слезы – хотя об этом и не подозревал никто, кроме меня.
Мои родители продержались около недели, а потом умчались в Италию инспектировать завод холодильных установок. К счастью, они занимались экспортно-импортными операциями, и это позволяло им исчезать, как только уровень внутрисемейных междуусобиц переходил взрывоопасную отметку. Они прилетали с подарками в руках и благими намерениями, а улетали с дерьмом в голове. Весь этот процесс занимал примерно неделю. Оставшийся год они тосковали по своим детям, и недоумевали, почему большинство из них поселилось так далеко от дома. Все те годы, пока я жила в Германии, а Рэнди в Бейруте, моя мать грустно удивлялась, что два птенца из ее выводка поселились на, как она выражалась, «вражеской территории».
– Потому что она выглядит более гостеприимно, чем дом родной, – ответила я, чем вызвала ее непроходящую неприязнь. В общем-то это было паскудным заявлением – я и сама это осознаю – но чем, кроме слов, я могла выразить матери свой протест?
Даже после отъезда моих родителей народу оставалось довольно много: четыре сестры, Пьер, шесть детей (в 1965 их было только шесть), гувернантка и прислуга.
Было так жарко, что даже мысль о том, что нужно выйти из кондиционированных апартаментов, вызывала отвращение. Я было попыталась соблазнить всех осмотром достопримечательностей, но семейная летаргия была непреодолима. Завтра, размышляла я про себя, я отправлюсь в Каир, но ехать туда одной не хотелось, а ни Лала, ни Хлоя со мной не собирались.
На следующей неделе события развивались по такому же незамысловатому сценарию. По случаю мы сходили на пляж с кабинками для переодевания, где Пьер поэтизировал по поводу голубизны Средиземного моря, пока всех не затошнило. (Он всегда разглагольствовал о замечательной жизни в Бейруте и о том, как он рад вырваться из «коммерциализированной Америки».)
В клубе он представил нас одному из своих друзей как «четырех своих жен», и у меня возникло ползучее чувство, что я немедленно хочу домой. Но где же был дом? С моей семьей? С Пией? С Чарли? С Брайаном? С собой одной?
Несмотря на бесцельность нашей семейной летаргии, в ней проглядывала кое-какая рутина. Мы вставали, вслушивались в визжание детей, немного играли с ними, изничтожали огромное количество тропических фруктов, йогурта, яиц, сыров и арабского кофе, читали парижский выпуск «Геральд трибьюн», где текст перемешивался с черными дырами – следами деятельности цензоров. (Было запрещено любое упоминание об Израиле и евреях – как и фильмы с участием двух заметных израильтян, Сэмми Дэвиса-старшего и Элизабет Тейлор). Потом начинались споры на тему: как провести день. В этом мы были едины не больше арабов, собирающихся напасть на Израиль. В любом случае можно было смело держать пари, что никто ни на что не согласится. Хлоя будет предлагать пляж; Пьер – Библос; Лала – Баальбек; старшие мальчики – археологический музей; младшие дети – парк с аттракционами, а Рэнди будет все отвергать. К тому времени, когда дебаты подойдут к концу, будет уже поздно куда-нибудь ехать. Потом мы поужинаем и усядемся смотреть «Бонанзу» по ТВ (с арабскими и французскими субтитрами, которые покрывают полностью весь экран), или направимся в дурацкое кино на Хамра-Стрит.
Как-то наши полуденные дебаты были прерваны прибытием мамаши Пьера с тремя тетушками – тремя древними старушками в черном (с гигантскими грудями и пушистыми ушками), которые были настолько похожи, что трудно было представить их по отдельности. Они могли бы составить замечательное поющее трио, но умели петь лишь одну песню. Начиналась она так: «Понравился вам Ливан? Ливан лучше, чем Нью-Йорк?» Они повторяли это снова и снова, словно заставляли нас выучить слова. Сами они были довольно приятны, но уж очень тяжело было с ними общаться. Как только они появлялись, горничная приносила кофе, Пьер неожиданно вспоминал о каком-нибудь важном деле, а Рэнди (намекая на свое деликатное положение) отправлялась в ванную вздремнуть. Лала, Хлоя и я оставались стойкими борцами и бесконечное число раз находили свежие оттенки в припеве: «О да – Ливан куда лучше Нью-Йорка».
Не знаю, было то из-за жары, или влажности, или общения с семьей, или потому что я была на «вражеской территории», или моей депрессии из-за Чарли – но мне казалось, что никогда и никуда я отсюда уже не уеду. Мне казалось, будто я попала на землю Лотоса и так и умру в Бейруте от своей острой инертности. День за днем проходили неясной чередой, погода была угнетающая, и, казалось, не осталось никаких сил бороться с желанием сидеть на одном месте, ссориться с домочадцами, размышлять о своем возможном триппере и смотреть телевизор. Но ведь обычно кризис и толкает нас к движению.
Кризис был, нельзя не отметить, довольно незначительный, но любой кризис здесь сослужил бы свою службу. Все начиналось очень просто. Однажды шестилетний Роджер сказал «ибн шармута» Луизе. В грубом переводе это означает «твоя мать – шлюха» (ну, то есть «ты – ублюдок»), но, как это ни переводи, все равно это оскорбление из оскорблений на Ближнем Востоке.
Луиза пыталась помыть Роджера, а он визжал во всю силу легких. В это время Пьер доказывал Рэнди, что американцы подвержены глупой страсти принимать ванну каждый день, что абсолютно не естественно (одно из его любимых словечек) и, кроме всего прочего, удаляет полезные кожные выделения.
Рэнди проницательно заявила, что ей не нужен сын, который напоминает неряху-отца, и подчеркнула, что по горло сыта его проклятыми грязными привычками.
– Какие это проклятые грязные привычки ты имеешь в виду?
– Я имею в виду то, что мне прекрасно известно, как ты поступаешь, когда я прошу тебя принять душ перед сном: ты заходишь в ванную, пускаешь воду, а сам сидишь на унитазе, покуривая сигарету, – сказать такое было довольно мерзко, и перебранка начала перерастать в настоящую ссору.
Роджер довольно быстро понял, в чем дело, и отказался залезать в ванну до вынесения окончательно вердикта. Луиза же настаивала, и в ярости Роджер хлестнул ее мочалкой по лицу, пронзительно выкрикнув «ибн шармута!».
Луиза, конечно, ударилась в слезы. Она заявила, что не хочет здесь больше оставаться и отправилась паковать чемоданы. Пьер напялил свои манеры французской кинозвезды и постарался улестить ее остаться. Но безуспешно. На этот раз она была непреклонна. Пьер немедленно занялся Роджером – который, в общем-то, был не виноват: он много раз слышал это выражение от отца за рулем (в Бейруте вся регулировка движения состоит в ругани водителей). Кроме того, Пьеру обычно казалось, что это очень мило, когда дети ругаются на арабском.
Тем самым этот полдень все встретили в крике и слезах, с морем воды на полу, и в очередной раз пришлось отложить осмотр достопримечательностей и даже купание. Инцидент, однако, наложил на нас определенную миссию. Мы должны были отвезти Луизу в ее деревушку в горах («поселок предков», как называл ее Пьер) и найти более наивную горскую девушку на ее место.
Следующим утром мы провели, по традиции, несколько часов в криках и ругани, а потом набились в машину и устремились вдоль побережья в горы. Мы остановились в Библосе полюбоваться замком крестоносцев, в котором оставили свой след палестинцы, египтяне, греки, римляне, арабы, крестоносцы и турки, поели в ближайшем ресторанчике с морскими блюдами и стремились к раскаленным горам по дороге, которая сама по себе уже была археологической ценностью.
Каркаби, «деревня предков», так разрекламированная Пьером, оказалась совсем маленьким поселением, через которое можно было проехать и не заметить его. В деревню провели электричество лишь в 63 году, и линия электропередачи возвышалась над окружающими строениями. (Она была и местной достопримечательностью, которую обязательно показывали приезжим.)
Когда мы въехали на центральную площадь (где короткошерстный ослик таскал по кругу камень для обмолота пшеницы), практически все местное население развлекалось тем, что пыталось дотронуться до машины, вытягивало свои шеи, чтобы лучше нас видеть и выказывало невиданное подобострастие. Пьеру это очень нравилось. Ему нравилось сидеть за рулем своей машины и думать, что все считают нас его четырьмя женами (хотя они, конечно, так не думали). Выглядело это еще более жалко, когда мы поняли, что едва ли не каждый в поселке был родней Пьеру, и что они все неграмотны и разуты – в такой ситуации чертовски просто производить впечатление.
Пьер притормозил, и наш нелепый экипаж буквально пополз по поселку (публика разглядывала нас с интересом). И мы остановились перед «домом предков», – маленьким побеленным глинобитным домиком, с увитой виноградом крышей, без ставней и рам, но с небольшими квадратными окошками, забранными железными прутьями, и с насекомыми, жужжащими как внутри, так и снаружи – но, по-моему, больше все-таки внутри.
Наше прибытие вызвало переполох. Мать и тетушки Пьера взялись за приготовление табули и гумуса, а отец Пьера – старик лет восьмидесяти, весь день напролет подогревающийся аракой – пошел добывать птиц на ужин, и где-то недалеко были слышны его выстрелы. В это время английский дедушка Пьера Гэвин – переселившийся лондонец-кокни, который женился на тете Франческе в 1923 году (и до сих пор сожалеет об этом в Каркаби) – достал кролика, которого он подстрелил этим утром, и принялся его свежевать.
Внутри домика было лишь четыре комнаты с побеленными стенами и обязательными распятиями над кроватями (семья Пьера состояла сплошь из ревностных католиков), а также с порядком зацелованными картинками святых на небесах, вырванными из журналов. Стены там украшали еще и многочисленные фотографии королевской семьи Англии, оборванные по краям; было также и изображение самого Иисуса, одетого в тогу, чье лицо был зацеловано до неузнаваемости.
Пока готовился ужин, Пьер вознамерился показать нам «свои владения». Рэнди настаивала на отдыхе в доме, но остальные пошли покорно карабкаться по скалам (сопровождаемые выводком босоногих кузин, которые с энтузиазмом обращали наше внимание на линию электропередачи). Пьер обратился к ним на арабском: его потянуло к пастушеским картинам. И он обнаружил их, прямо под следующим скалистым холмом, где самый настоящий пастух присматривал из-под яблони за самыми настоящими овцами. Вот это-то и требовалось Пьеру. Он немедленно начал разглагольствовать о «поэтике», словно Кахлин Гибран и Эдгар Гэст причудливо переплелись у него в голове. Пастух! Овцы! Яблоня! Это очаровательно. Это пасторально. Это Гомер, Вергилий и Библия, вместе взятые. Так мы дошли до пастуха – прыщеватого паренька лет четырнадцати – и обнаружили, что он слушает маленький транзисторный приемник, откуда сначала лился голос Фрэнка Синатры, а потом донеслись слова рекламы на арабском. Тогда семнадцатилетняя Хлоя достала ментоловую сигарету из своей пачки и предложила ему – он принял дар, стараясь выглядеть совершенно невозмутимым и не потерять достоинства. А потом этот очаровательный пастушок полез в свой очаровательный карман и достал очаровательную газовую зажигалку. По тому, как он подносил огонек к сигарете Хлои, можно было безошибочно определить, что полжизни он провел в кино.
После ужина все родственники (то есть практически весь поселок) удостоили нас своим посещением. Обычно довольно много их собиралось ради просмотра ТВ-программ (тетушка Пьера входила в клан немногочисленных владельцев телевизоров в Каркаби), но этой ночью они пришли лицезреть и нас заодно. Большинство окружило нас и старалось скрыть смущение, но иногда кто-нибудь дотрагивался до моих волос (или волос Хлои, или Лалы) и издавал возглас, означавший, что все здесь без ума от блондинок. А иногда они принимались трогать нас, словно святых. О, Боже – ничто не сравнится с ощущением, когда к тебе прикасается дюжина двухсотфунтовых ливанских усатых баб. Я была в панике. Могут ли они по прикосновениям определить нашу иудейскую сущность? Я была уверена, что могут. Но я ошибалась. Потому что как раз подошло время дарить нам подарки, и я получила серебряные четки, свитер из ангоры ручной вязки 46 размера (он ниспадал мне до колен) и голубую бусинку на цепочке (старый амулет против дьявольского глаза). Мне никогда и в голову не приходило рассматривать бусину с такой точки. Здесь допускались любые пересечения с любыми богами.
Когда поток подарков иссяк, все уселись смотреть телевизор – в большинстве своем повторение старых американских программ. Люсиль Балл моргала своими накладными ресницами, Раймонд Барр изображал Пэрри Мэйсона, а экран пестрел субтитрами. Сквозь буквы с трудом удавалось увидеть лица актеров.
То, как пасторально любили друг друга Люсиль Болл и Раймонд Барр, не оставляло никаких сомнений в универсальности искусства. Я предвидела тот день, когда Америка распространит свой образ жизни и на другие солнечные системы. Вот так они и будут – все эти интергалактические типы – смотреть на Люсиль Болл и Раймонда Барра с восторженным вниманием.
Родственники и не думали уходить. Они пили кофе, вино и араку, пока тетя Франческа ломала свои коротенькие и толстые руки. Мы были настолько истощены и нам так хотелось спать, что мы готовы были прямо сказать об этом гостям, когда Пьеров дядя Гэвин тихонечко вышел, взобрался на крышу и стал раскачивать антенну до тех пор, пока на экране вместо изображения не остались лишь беспорядочные зигзаги. Через несколько минут все визитеры откланялись. Так я поняла, зачем дядюшка Гэвин частенько лазит на крышу.
Размещение для сна происходило сложным образом. Рэнди и Пьер с детьми должны были лечь в доме отца Пьера под горой. Лале и Хлое была выделена двуспальная кровать в соседнем тетушкином доме. Я же удостоилась отдельной в доме тети Франчески, хотя мне бы больше было по душе спать вместе с Лалой и Хлоей, чем одной в вызывающей страх комнате, где над головой висели распятие и неряшливо вырванные из журналов фотографии королевы. Но кровать была слишком мала для троих, поэтому я легла одна, забавляя саму себя перед сном мыслями о скорпионах, притаившихся на стенах, о смертельно ядовитых пауках и о возможности свернуть себе шею, решившись сходить в туалет во двор. Было так замечательно забивать себе голову всякими страхами за долгие часы бессонницы.








