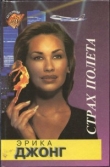Текст книги "Как спасти свою жизнь"
Автор книги: Эрика Джонг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Я была так благодарна Майклу. Он навещал меня, потому что это было нужно ему; я слушала его, потому что это было нужно мне. Кому-то покажется странным, что наша дружба взросла на такой необычной почве, но это оказалась настоящая дружба. Нога зажила, а Майкл так и остался навсегда моим лучшим другом и советчиком. Через семь месяцев осталось лишь едва заметное утолщение на голени, а мы с Майклом все продолжали наши беседы.
Шесть лет спустя. Лето. Майкл и Диди вот уже четыре года как развелись, а мы с Беннетом, сжав зубы (мои), еще тянем лямку (все потому, что почти не видим друг друга). Бунтарь на ровном месте, Майкл так и не окончил ординатуру и имеет вполне процветающую практику по лечению триппера и назначению противозачаточных пилюль молодежи в районе западных 70-х улиц.
– Чем могу служить? – спрашивает Майкл, усаживая меня на скамейку в своем закопченном садике на заднем дворе, где не стала бы расти даже марихуана.
Повсюду валяются осколки стекла и окурки, но посреди всего этого хлама стоит веселый желтенький стол под большим зонтиком от солнца. Мы пьем водку и закусываем греческими маслинами. Майкл окидывает меня оценивающим взглядом.
– Как жизнь? Купаешься в лучах славы? Тысячу лет тебя не видел!
– Тебе это действительно интересно?
Майкл смотрит на меня сквозь пушистые желтые усы, бороду и янтарного цвета оправу своих авиационных очков. Кажется, он отлично понимает, зачем я пришла.
– Как ты думаешь, кто был у Беннета в Гейдельберге?
Некоторое время он внимательно изучает меня, понимает, что мне все известно, и решительно говорит:
– Пенни. Я думал, ты давно знаешь.
– Беннет сказал мне об этом только на прошлой неделе.
– А чем прошлая неделя отличалась от всех остальных?
– Не знаю. Может быть, его раздражает моя известность и он не нашел лучшего способа мне это показать. А может, он просто хочет меня унизить. И ты знаешь, ему удалось добиться своего. Я просто в отчаянии. И вне себя от злости. Так бы и прибила на месте всех мужчин восточной наружности.
– Удивительное дело! Я думал, ты знаешь об этом тысячулет!
– Почему?
– Помнишь, когда вы вернулись из Вены, ты сказала мне, что вы все обсудили…
– Мне показалось, что все. Я-тодействительно рассказала все, а вот Беннет нет. Это и бесит меня больше всего. Я всегда считалась нехорошей девочкой. Он был вынужден пойти на это из-за меня.
– О Господи!
– Но почему тымне об этом не сказал?
Майкл задумчиво посасывает трубку:
– Потому же, почему ты не сказала мне о Диди. Я с самого начала знал про Беннета с Пенни, точно так же, как ты знала про Диди и этого хипаря. Почему же тыне сказала мне?
– Я боялась, что это заденет тебя. Я не хотела брать на себя ответственность за ваш брак. Конечно, с моей стороны это было уклонение от ответственности. Признаю себя виновной.
– Я тоже.
Мы сидим и смотрим друг на друга, размышляя о том, что все могло бы сложиться иначе, если бы мы оба знали. Мы бы могли сойтись с Майклом, или завести романы на стороне, или, в конце концов, раньше бросить своих супругов… На мгновение воцаряется тишина: мы разматываем про себя ленту памяти.
– Когда ты узнал про Беннета и Пенни? – спрашиваю я наконец.
– Почти сразу, как только они сошлись. Ты помнишь, где была квартира Пенни и Робби?
– Как раз над твоей.
– Нет, в другом подъезде. Ну так вот, как-то раз я пришел домой днем, во время тревоги, но на нашей лестнице было полно детей, и я побежал в другой подъезд, рассчитывая пройти через помещение для прислуги. И кого, ты думаешь, я встретил? Беннета. Он стоял на лестничной клетке с видом заговорщика. Увидел меня и отвел глаза. И тут меня осенило: Пенни и Беннет! Черт побери! А он и говорит – в этой своей фальшивой манере: «Привет, Майкл!» – Я хотел ему сказать: «Ах ты, сукин сын!», – ты же знаешь, я всегда считал, что он тебя в грош не ставит, но, конечно, смолчал. Ведь я по натуре профессиональный трус, тем более что он уже побежал по лестнице вниз. Так я обо всем догадался, а потом и Диди подтвердила. Ей Пенни сама рассказала обо всем, причем, думаю, с самыми пикантными подробностями. Да что говорить, об этом знали все.
Вновь открываются мои едва зажившие раны. Из них, невидимых, по капле сочится кровь.
– Неужели все?
– Да. Меня каждый раз убивало, когда я видел, как вы всей компашкой: ты, Беннет и Пенни, – бежите трусцой. Все знали, кроме тебя. И пожалуй, Робби. Но он тогда крутил со своей секретаршей… Откровенно говоря, я всегда считал, что Беннет по-свински поступает с тобой.
– Ну почему же ты не сказал?!
– Ни один здравомыслящий человек не станет лезть в чужую семейную жизнь. Ты сама ведь знаешь.
Я опускаю голову:
– Мне казалось, Диди тоже жестоко с тобой обходится.
– И ты тоже мне ничего не сказала. А однажды даже сама отвезлаее в город, чтобы она могла встретиться со своим хахалем.
– Я была вынуждена, она…
– Ладно уж. Я на тебя не в обиде. Так просто, шучу. Ты почему-то все время пыталась чем-то оправдать свою жизнь с Беннетом, старалась убедить себя, что все в порядке. Я бы так не смог. А ты старалась изо всех сил. – Он берет меня за руку, и я начинаю плакать: очень тихо, но очень упорно.
– Как ты думаешь, почему я так долго цеплялась за него?
– Трудно сказать. Все мы так или иначе стараемся оправдать свой брак. Может, всему виной наша неспособность признавать собственные ошибки. А может, сказывается желание противопоставить себя миру. Ведь если мы признаем, что наш брак – дерьмо, значит, мы частично признаем, что насмарку пошла вся наша жизнь. Столько лет отдано ошибке? Требуется большое мужество, чтобы это признать. Вот мы и защищаем свой брак, оправдываем его, пока окончательно не припрет. Лично на меня в этом плане сильно повлияла смерть отца. Почему-то тогда я особенно остро ощутил, что нельзя жить с человеком, которого презираешь. Даже если очень боишься остаться один. Жизнь – слишком дорогая вещь, чтобы растрачивать ее на презрение.
– Да, ты прав. Это ужасно – презирать мужа или жену. А ведь я так и жила все эти годы. Бог мой, как это мучительно!
– Ты помнишь ту осень, когда мы вернулись из Германии? – Я киваю. – Еще немножко, и между нами бы начался настоящий любовный роман. Ты, кажется, даже этого хотела, да и я был готов принять условия игры, к чему еще не был готов в Гейдельберге. Там я был не в состоянии завязать интрижку, хотя и знал про Диди. Знаешь, почему я не стал форсировать события?
– Нет. Почему?
– Если бы мы стали с тобой настолько близки, мне бы пришлось рассказать тебе про Беннета, а мне этого очень не хотелось.
– О, Майкл! – восклицаю я, спрыгивая со стула и бросаясь ему на шею. Я благодарна ему за то, что есть еще в мире люди, для которых интимная близость и секс – это не пустой звук.
Майкл обнимает меня, и мы стоим некоторое время обнявшись, слегка раскачиваясь и оплакивая прошлое: потерянные годы в Германии, несложившуюся личную жизнь и нашу несостоявшуюся близость. А потом он разжимает объятие, нежно, но решительно.
– Я приготовлю на обед куриную печенку, хорошо?
– Хорошо, – разочарованно говорю я. – Вообще-то я думала, что мы с тобой займемся любовью – после стольких-то лет.
Майкл улыбаясь стоит в дверях.
– Если ты через месяц не передумаешь, то обязательно займемся, я тебе обещаю. Но сейчас ты так возбуждена… Я не хочу пользоваться твоим состоянием.
– Каким еще состоянием? – спрашиваю я, слизывая слезы с уголков губ.
На кухне он рассказывает мне польские анекдоты и смешные случаи из собственной практики. На сковородке шипит печенка, а сердце разрывается от боли: все в мире против меня. В такие минуты особенно важно иметь друзей. Особенно таких, которые готовят для тебя куриную печенку.
– Помнишь, как я сломала ногу?
– Как же я могу об этом забыть? В гипсе ты была жутко сексуальной! Помню, как-то раз у тебя поверх гипса была надета черная сетка, а на коленке красовалась алая роза из бархата. А ведь ты всегда была ко мне неравнодушна, ну скажи!
– Ты же сам знаешь, что неотразим! – говорю я, вкладывая в эти слова не только иронию. В этот момент я вспоминаю всех мужчин, с которыми меня связывала нежная дружба, шутливые и приятельские отношения. Ну почему мой муж – тот единственный человек, с которым мне не о чем говорить?
– Знаешь, что самое неприятное во всей этой истории?
– Я как-то не уверена, что хочу это знать…
Наступает пауза – мы внимательно слушаем, как шкварчит печенка на плите.
– Ну так как?
– Нет… А впрочем, расскажи. Пусть я буду знать все! – отвечаю я. Мне хочется снова вскрыть мои едва затянувшиеся раны, насыпать на них соли и орать от боли до тех пор, пока не выкричу ее всю до конца.
– Машина Пенни стояла под вашими окнами почти все время, что ты лежала в больнице.
Его слова производят желаемый эффект. Я снова принимаюсь плакать; глубоко сдавленные рыдания, кажется, исторгаются из самых глубин естества: из печенок, селезенок и даже половых органов. Майкл вновь обнимает меня, и мы долго стоим так, едва заметно покачиваясь на каблуках.
– Брось ты этого ублюдка, – наконец говорит он, – и возвращайся ко мне. Хорошо?
Дома я спрашиваю Беннета, как это у него хватило наглости злиться на меня из-за ноги, хотя сам он, не испытывая ни малейших угрызений совести, трахался с Пенни все время, пока я лежала в больнице. Он спокойно выслушивает меня, поначалу, кажется, даже не понимая, о чем идет речь. Он со свойственной ему методичностью чистит зубы, а я сижу на крышке унитаза и с ненавистью гляжу на него. Наконец он вынимает зубную щетку изо рта.
– С тобой вечно что-то приключалось, нарочно, чтобы досадить мне, – говорит он, словно и не задумываясь над тем, какой смысл имеют его слова.
– Досадить тебе! Тебе?! Это ты, если помнишь, решил покататься по льду. И это все была твоязатея!
– Подумаешь, переспал с бабой, – большое дело! Доктор Стейнгессер считает, что это вовсе не является поводом для расторжения брака.
– Какого брака?! – Я срываюсь на крик. – О каком браке ты говоришь? О твоем браке с доктором Стейнгессером? или о тех муках, которые я тут терплю с тобой?!
– Очень забавно.
– Совершенно не собираюсь тебя веселить, – я поднимаюсь с толчка, иду в спальню, ложусь в постель и с головой прячусь под одеяло. Я лежу, упиваясь своим праведным гневом.
Слышно, как Беннет методично выключает повсюду свет, закрывает двери и окна, шаркая своими шлепанцами. Наконец он залезает в постель и ложится рядом со мной. На некоторое время воцаряется тишина; мы лежим, прижавшись друг к другу, как мумии в саркофаге. Царь с царицей. Два хладных трупа. Холодный мрамор могилы.
Наконец я говорю:
– Немедленно убирайся из этой постели, иначе, клянусь, я пойду на кухню, возьму нож и отрежу тебе яйца. Мне не нужен развод, я просто хочу кастрировать тебя. Вот так. И только не нужно интерпретировать мои слова: я говорю то, что имею в виду. УБИРАЙСЯ ИЗ ЭТОЙ ПОСТЕЛИ!
Тут Беннет схватил подушку и рванул в комнату для гостей.
Медленно текли минуты. Текли часы. У меня дрожали губы, а слезы по щекам стекали в уши. Я вспомнила песню, которую мы пели в школе: «Слезы льются прямо в уши, потому что я лежу на спине и плачу о тебе-е-е», – но теперь она почему-то не казалась мне смешной. Кто-то прошел по улице с транзистором, который гремел так, что на время заглушил рев кондиционера.
Это конец, низшая точка падения. Спать поодиночке в одном доме, не пытаясь даже утешить друг друга, приласкать. Одиночество еще более глубокое, чем до того, как мы познакомились с ним. Лучше уж быть монашкой или, наоборот, рыскать по притонам в поисках мимолетных ночных свиданий. Нет ничего хуже одиночества, возникающего на руинах мертвого брака. Супружеская постель становится плотом, плывущим по морю, где нет спасения от акул; планетой, где задыхаешься без атмосферы. Некуда пойти. Некуда. Душа камнем падает в пустоту.
Но вдруг из этой ледяной холодности рождается горение плоти, которая в полный голос заявляет о себе. Женщина, дошедшая до последней степени унижения, медленно встает из постели, на цыпочках проходит через гостиную и тихо заползает в узкую гостевую кровать, в которой лежит какой-то посторонний мужчина, ее законный супруг. Голубой свет луны едва проникает в комнату через тяжелые шторы. Старый кондиционер стрекочет, как целая стая сверчков, и она прижимается к его едва теплому, чужому телу.
Они могли бы случайно познакомиться в баре – и в этом есть что-то сексуальное, возбуждающее.
– Эй, что ты делаешь? – спрашивает он.
– Возбуждаю тебя, – отвечает она.
– А мне показалось, что ты хочешь меня кастрировать.
– Хочу.
Серьезность ее тона как-то сразу достигает цели. Это их известный, отработанный прием. Ее поломанные кости, вечные несчастья, его привычная жестокость, даже садизм… Все это возбуждает ее. Он – насильник, ночной громила, рассыльный из магазина, забежавший на минутку, чтобы оставить заказ. Они действуют грамотно и спокойно. Ее рука проникает в пижамные штаны. Он нащупывает ее влагалище и грубо засовывает туда палец. Ей больно, но боль – это именно то, чего она хочет сейчас. Она, как на шарнирах, вращается на его пальце; свободно поворачиваясь в постели, она берет в рот его твердый член, едва подавляя желание откусить его, и не видит вокруг ничего, кроме этого истекающего кровью живого корня, целого фонтана крови, бьющего струей на небесно-голубую постель. Но вместо этого она ласкает его языком, покусывает зубами, вовремя останавливаясь, чтобы не причинить боль. Он стонет. Он и напуган, и возбужден. Его можно брать голыми руками, но она не может – такой момент. Лучше уж пусть ей будет больно самой. Вот он грубо трогает клитор, и она слабеет от желания. Она ненавидит, презирает его, но хочет, чтобы внутрь к ней забрался его странный член, похожий на корень диковинного растения. А он уже наготове и только ждет условного сигнала, темный, как старый пень, чуть искривленный, почти недвижимый – или мертвый. Вид его еще сильнее возбуждает ее. Он лежит молча, неподвижно, человек, которого в момент эрекции подстерегла смерть, а трупное окоченение сделало член твердым, как гранит. Она взбирается на эту твердыню, вращаясь и медленно раскачиваясь на ней, словно это искусственный член. Оргазм расходится по телу женщины большими концентрическими окружностями – так расходятся круги по воде, когда спокойную гладь озера вдруг прорежет свалившийся откуда-то сверху огромный валун. Тут неожиданно и мужчина срывается с места и несется, несется вперед – чтобы не пропустить, ухватить вовремя свой оргазм, как будто он спрятан где-то внутри и ему еще нужно его отыскать, поймать на крючок и удержать, словно это извивающаяся, норовящая сорваться рыбешка. Вот, поймал. Нет, еще не совсем. Вот, клюет. Мужчина вслепую нащупывает его, но – нет, возобновляется ритмическое движение. Еще мгновение. Вот сейчас.
Она наблюдает за всем словно со стороны, как будто читает книгу, но и это возбуждает ее. Чтение часто вызывает в ней сексуальное возбуждение. И часто она сама не может сказать, где ее собственная фантазия, а где – реальная жизнь.
Здесь. Он поймал его. Здесь, здесь, здесь, здесь…Судороги прекращаются, и он уже лежит спокойно, не шевелясь. Ни слова. Ни звука. Рыбак и его добыча жадно ловят ртом воздух, высунувшись из воды. Что же это за человек, который кончает так беззвучно? Может быть, он мертвец?
Ей стыдно, словно она прикоснулась к заразе или вступила с трупом в интимную связь. Она слезает с его помертвевшего пениса и ложится рядом, погрузившись в собственные мысли. Ну не странно ли: два человека совокупляются вот уже восемь лет, а близости в их отношениях не прибавилось. Они так и остаются чужими, как товарные вагоны, на время сцепленные друг с другом, а потом разъезжающиеся по свету в разные края. «Он мог бы сказать мне что-нибудь, – думает она, – слова бы согрели, утешили…» Но он не знает слов. Слова – это единственный язык, на котором он не умеет говорить.
Моя жизнь после жизни…
Поэты и революционеры первым делом берут себе звучные имена. Лишить человека права на имя – это значит отнять у него право считать себя личностью. Так иммиграционные власти поступают с беженцами. Так поступают со своими женами мужья.
Беннет, как всегда, ушел рано. Его уже не было, когда я проснулась – одна в большой двуспальной кровати. Что же произошло? Я смутно помнила, как пришла в спальню и легла – одна. Я хотела его, но потом мне было неприятно его видеть. После восьми лет семейной жизни наша близость ограничивалась встречей на одну ночь.
Что я делаю здесь? Я лежала в постели и размышляла о своей посмертной жизни. Это слово употребил Китс, когда ему было двадцать пять и он умирал от туберкулеза. Мне тридцать два, и я умираю от зашедшего в тупик законного брака. Неизлечимая болезнь? Я вспомнила приятеля, который однажды пришел домой и заявил жене, что любит другую женщину. «Я люблю ее, но между нами ничего не было», – сказал он, желая пощадить ее чувства. И что самое невероятное, она ему поверила. – «А не можешь ли ты снова влюбиться в меня?» – задала она наивный вопрос.
Так много свадеб, так много смертей. Люди встают утром и идут на работу, вечером приходят домой, трахаются и чувствуют себя покойниками. И неудивительно, что они увлекаются секретаршами, уходят из семьи, а в сорок пять умудряются пристраститься к наркотикам и, подобно Адаму и Еве в Эдемском саду, впервые открывают для себя секс, и платят и платят за него. Адвокаты, алименты, дома, проданные за четверть цены, дети с глазами загнанного зверька, не вылезающие из кабинетов психотерапевтов, вывезенная мебель, последнее «прости» фамильному серебру, оскорбленные мужья, уязвленные жены, – и все ради чего? Если бы все это могло вернуть ощущение жизни! Но в жизненной гонке мы помним только одно: надо выжить, выжить во что бы то ни стало! Ни в коем случае нельзя терять жизненных сил. А у нас с Беннетом их больше не осталось совсем.
Неужели он сам не ощущал этого? Или эта полусонная рутина устраивала его? Он был из тех людей, что могут изо дня в день есть на ужин бифштекс с рисом, и им это не надоест. Ему и в голову не приходило попробовать икру, съесть какой-нибудь тропический плод. Каждый день в 6.30 утра он вставал, а в девять вечера возвращался домой. Всю неделю, как заведенный, работал, играл в теннис по выходным, – все по раз и навсегда заведенному распорядку. Зимний отпуск он проводил на лыжах в горах, в августе всегда отдыхал на одном и том же облюбованном психиатрами курорте. Все поехали в Вену? Хорошо, и мы – в Вену. Все в Кейп-Коде? Ну, тогда и мы там. Повсюду следуем за психиатрами! Наш август расписан на сорок лет вперед. Если у нас будут дети, Беннет станет инструктировать меня относительно проявлений эдипова комплекса у детей. Когда они подрастут – лет в пять, – мы отведем их к психоаналитику. (Интересно, на что жили бы детские психиатры, если бы у их коллег не было детей? Кто, как не жена психиатра, станет водить малыша к аналитику пять раз в неделю по сорок пять долларов за сеанс?) Вото чем стоит мечтать! Когда закончится мой изрядно затянувшийся курс психоанализа, я буду с нетерпением ждать, когда наступит очередь моих детей. Всем нам будет становиться все «лучче и лучче», и жизнь покажется тогда сущим раем.
С сентября по июль – Нью-Йорк, в августе – Кейп-Код. Раз в несколько лет – Психоаналитический конгресс в Европе, для разнообразия. Со временем мы купим кооператив побольше, на этот раз в Ист-Сайде. Потом будет нянька для детей, дачный домик в каком-нибудь приличном, заселенном психиатрами месте вроде Уэллфлита или Труро, приличная частная школа с современными идеями. Мамочка будет пописывать свои книжульки, шокируя этим окружающих, но все-таки не настолько, чтобы папочка решил уйти от нее. Она не станет, например, писать, что ее муж в личной жизни – законченный лицемер. Он ей достаточно убедительно объяснит, почему не стоит этого писать. Единственное, что ей останется, – это написать роман о сбежавшей жене, – и самой же получить нагоняй за свои сексуальные фантазии. О, муж это обожает. Все женщины – ненасытные, неисправимые, инфантильные существа. Приходится их терпеть, наставлять, водить на прием к психоаналитику. Что, опять ошиблась и полюбила законченного негодяя? Это так естественно, ведь они вечно цепляются за образ отца. Эдипов комплекс. Пошли обратно, девочка, в лапы психоаналитика. Еще пять лет психоанализа. Эти сеансы займут время, которое можно провести с любовником. Ну а как поживает сам муж, этот доктор Всезнайка, доктор Загляни-в-себя? Чем он занимается в свободное время? Помните, он «простил» вам ваши сексуальные фантазии? Сказал, что следует время от времени давать им выход (а коль скоро у вас возник комплекс вины из-за того, что вы упиваетесь ими и не можете без них обойтись, то немедленно покайтесь, придите к папочке и от него – сразу к психоаналитику в кабинет! И не бросайте курс до тех пор, пока считаете свои фантазии «незрелыми»). А уж он-то, конечно, «зрелый». Когда вы читаете лекции, он развлекается в вашем кабинете с любовницей по вечерам, хотя и не возражает, чтобы вы потихоньку кропали что-нибудь. Самое загадочное, что эта пылкая страсть разгорается именно в тот момент, когда вы становитесь настоящим писателем и начинаете чувствовать, что закончить главу для вас важнее, чем приготовить суфле. Доктор, как вы умеете выбрать момент! А как вы относитесь к тому, что в прошлом году все превозносили вас за ваше супружеское долготерпение?! Ваша отвратительная жена, пресловутая Изадора Уайт Винг, известная поэтесса и романистка, сочинила роман, героиня которого, не менее пресловутая чистосердечная Кандида, исповедуется в том, что испытывала настоящую похоть! И постоянно что-то предпринимает, чтобы ее удовлетворить! Как это революционно! Вся мужская половина Америки выражает вам соболезнование по поводу того, что у вас такая развратная жена, и гордится тем, что вы держитесь, как мужчина, и достойно сносите этот позор! Героиня книги вашей жены сбегает с другим мужчиной – и все верят, что на этом история и заканчивается. Но брак всегда намного сложнее, чем его изображает роман. Ваша жена ввязалась в авантюру, но вы сумели обратить это на пользу себе. Ведь вся эта история только укрепила ваше лидерство, не так ли? Потому что в конце концов вы поставили ее на место. Потому что вам и в голову не пришло рассказать ей тогда, что все эти годы, еще до ее небольшого приключения, до ее миниромана с мужчиной, у которого толком-то и не стоял, у вас был настоящий, страстный роман с женщиной, которую вы по-настоящему любили. Теперь-то вы рассказали ей все, – не забыв предупредить, что если она когда-нибудь про это напишет, если она только осмелится обнародовать факт, что у вас тоже бывают сексуальные фантазии, вы просто-напросто бросите ее. С некоторыми вещами мириться нельзя. Одно дело – снять покров тайны с женщины, выставить на всеобщее обозрение свое собственное «я», но совсем другое – разоблачить мужчину, показать мужа во всей красе. Лицемерие мужчины – это его броня. Ступай осторожнее – этак ты можешь мое лицемерие задеть!
Ладно. О правилах мы условились. И вот летним утром в Нью-Йорке я лежу в постели и не хочу вставать, не хочу быть замужем за собственным мужем, не могу писать – потому что самое главное для меня событие последних лет оказалось лишенным смысла. Ревность – вот о чем я хотела бы написать. Ревность – вот хорошая тема для нового романа. Но мне запретили его писать. Беннет недвусмысленно дал мне понять, что никаких откровений о ревности он терпеть не намерен.
Он вознамерился диктовать мне, о чем писать! Он собирается навязывать мне свои идеи и в то же время хочет, чтобы его продолжали считать самым кротким супругом все мужчины Америки!
Он постоянно напоминает мне, что мы с ним носим одну фамилию и мои писания могут повредить его профессиональной карьере. Но как же это могло случиться, что мы стали однофамильцами? Интересный вопрос. Дело в том, что это имя связывает нас, как иных супругов – общие дети. Мы объединены именем, вытесненным на обложках книг.
Мое имя Изадора Уайт Винг. Мне вечно суждено носить это «Винг», неважно, уйду я от Беннета или нет. Винг – это мое nom de plume. За кого бы я ни вышла замуж, кого бы ни полюбила, это имя выведено золотыми буквами на сафьяновых переплетах роскошных подарочных изданий, которые издатели преподносят мне к Рождеству; оно проставлено на моем багаже, тетрадях и ручках; оно входит в мой экслибрис. Есть в этом имени и скрытая ирония – я получила его тогда, когда еще боялась летать. Оно указывало на перспективу полетов. И неясно было, то ли оно восточного происхождения, то ли нет. Оно было необычным и каким-то странным, ни у кого из писателей не было такого имени до меня.
Моя девичья фамилия тоже была ненастоящей. Изадора Уайт. Фамилия моего отца была Вайсман. Сначала ее сократили до «Вайс», а потом и вовсе переделали на английский лад. Так что ни Винг, ни Уайт не были моими подлинными именами. Ни муж, ни отец не помогли мне обнаружить мое истинное «я». Нужно было взять дело в собственные руки и придумать себе псевдоним. Я довольно долго обдумывала его. Изадора – имя, конечно, нелепое, но, пожалуй, его придется оставить. Оно хорошо характеризует и меня, и мою мать, хотя больше всего подходит для литературного персонажа. Есть в нем что-то трогательное: мать мечтала, чтобы я стала ее крыльями, научилась летать, – у нее самой никогда не хватало на это смелости. И я люблю ее за то, что она хотела подарить миру собственные крылья.
Позже я взяла фамилию Беннета, подсознательно поразившись забавной игре слов, оригинальности каламбура, но начала печататься под своей девичьей фамилией, под фамилией той маленькой девочки, которая получала пятерки в школе и сносила из-за нее насмешки в летнем лагере. Вы, может быть, думаете, что Беннет с его фрейдистской болтовней (дескать, характер формируется в первые три года жизни) должен был с пониманием воспринимать мою привязанность к детскому имени, – но нет, он был непреклонен! Однажды, взглянув на мое опубликованное в журнале раннее стихотворение, подписанное «Изадора Уайт», он зловеще произнес: «У поэта нет мужа».
«Но ведь многиепоэтессы подписываются девичьей фамилией. Это стало почти традицией», – пыталась протестовать я. Но он лишь смотрел на меня исподлобья и нервно покашливал. Грязное ругательство не могло бы подействовать так, как это его нервное покашливание. Было ясно, что любовь мою к девичьей фамилии он воспринимает как проявление «эдипова комплекса». Верность не мужу, а отцу. Безошибочный признак инфантильности.
«Ну разве мужчинзаставляют изменять фамилию, когда они женятся? Вот тыбы хотел, чтобы тебя называли Беннет Уайт?» – Презрительное молчание и нервное покашливание в ответ. Беннет с гордо поднятой головой покидает место действия, оставляя меня наедине с комплексом вины. Может быть, он прав, думаю я. Может быть, стоит взять его имя, чтобы продемонстрировать мою лояльность ему? И все-таки это так глупо! Ведь я сжиласьсо своей девичьей фамилией, как со старыми, стоптанными башмаками. Она – мое второе « я». Отказаться от нее – все равно что дать отрубить себе руку. В конце концов, я же некитаянка. Конечно, может быть Уайт и подделка, но это подделка, унаследованная от отца, а фамилия Беннета – вообще случайная транслитерация, созданная каким-то неизвестным служащим американского посольства в Гонконге. Кто-то из его родственников Вонг, кто-то – Ванг, кто-то – Венг, а некоторые – Винг, все зависело от причуды чиновника иммиграционной службы. Зачем же мне принимать на себя эту ошибку истории – неужели только из-за того, что мне довелось переспать с ее виновником?
Но Беннет умел возбуждать угрызения совести как никто другой. Если я показывала ему свои опубликованные произведения, он только хмурился, глядя на имя внизу, так что мне больше не хотелось ничего ему показывать. Напротив, я старалась, чтобы вышедшие книги не попадались ему на глаза. Он хотел полностью завладеть мной и моей поэзией, и он не успокоился до тех пор, пока ему не удалось лишить меня моего имени.
Я подумывала было взять имя моего деда – Столофф. Но и это был бы неверный шаг. Дедушка не был мне отцом, так что если бы я взяла его имя, я дала бы повод заподозрить между ним и моей матерью инцест. Но я обдумывала и другие вымышленные имена.
Изадора Орландо – в честь женоподобного героя Вирджинии Вулф; Изадора Икар – в честь Стивена Дедала; просто Изадора – в честь Колетт. Но они тоже не очень-то подходили: уж больно напыщенно звучат. На картине – автопортрет молодой художницы, а внизу – чистый уголок холста. Нужно вписать имя.
Я еще не успела выбрать псевдоним, а моя книга уже готовилась к выходу в свет. Так Изадора Уайт или Изадора Винг? Изадора Орландо или Изадора Икар? Или же Изадора Изадора? Решение должно стать окончательным и бесповоротным. Я страшно переживала. У меня было всего два варианта: ублажить Беннета – но тогда в дураках окажусь я; навлечь на себя его гнев – но взамен сохранить дарованную мне Богом индивидуальность. Какой трудный, жестокий выбор! Все равно что отрезать себе ногу, чтобы идти на войну. Но я так нуждалась в поддержке мужа, что пошла на его условия. И стала Изадора Винг, и Беннет раскрыл свои объятия для моей поэзии и – для меня; с тех пор я слышала о ней только самые благожелательные отзывы. По крайней мере до сих пор. Пока я не дала ему недвусмысленно понять, что продала за слова одобрения неотъемлемое право на собственное «я». У женщин всегда так. Точнее, у девушек. И я не была бы женщиной, если бы поступила иначе. Теперь-то обстоятельства переменились, но с именем уже ничего нельзя изменить.
Я в западне. Теперь, когда я прославила имя Винг, Беннет собирается диктовать мне, о чем мне писать. Да если бы не это, разве я стала бы задумываться о такой ерунде! Конечно, глядя порой на имя на обложке, я поражаюсь, как дико оно смотрится там. Мои предки – выходцы из России и Польши, родители появились на свет в Глазго, Лондоне и Браунсвилле, а я ношу какое-то китайское имя. Временами мне даже кажется, что я вообще не существую как личность, а, как губка, впитываю в себя души других людей, отражаю чужие судьбы. Кто знает, может, для поэта это и есть наилучший способ самовыражения?
Иногда, правда, к горлу подкатывает ком – обида на Беннета. Какое право имел он отнять у меня детство? И как я могла ему это позволить, почему я проявила слабость, не настояла на своем? Мне так нужна была его любовь, что я отдала ему самое заветное – мое творчество. Беннет, который едва мог читать и писать, обеспечил себе место в американской литературе. Пройти путь от Гонконга до увесистого тома «Кто есть кто?» и не приложить к этому ни малейших усилий – это надо уметь!