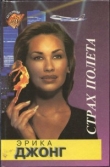Текст книги "Как спасти свою жизнь"
Автор книги: Эрика Джонг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Эрика Джонг
Как спасти свою жизнь
Джону
Сердечно благодарю Элейн Гейгер и Стерлинга Лорда, которые оказали мне моральную и физическую поддержку, выходившую за рамки их прямых обязанностей; Грейс и Дэвида Гриффинов, Элис Бах, Джонатана Фаста, которые читали и перечитывали все наброски и варианты книги; Марджори Ларкин, которая печатала и давала свои рекомендации; Дженифер Джозефи, которая редактировала и делала свои замечания; Льюиса Антемейера, которому веселые стихи нравились больше грустных, а также всех-всех, кто написал мне, хотя я и не всем смогла ответить.
Э. Дж.
В чем слава? В том, чтобы именем своим
Столбцы газет заполнить поплотнее.
Что слава? Просто холм, а мы спешим
Добраться до вершины поскорее.
Мы пишем, поучаем, говорим,
Ломаем копья и ломаем шеи,
Чтоб после нашей смерти помнил свет
Фамилию и плохонький портрет!
Лорд Байрон. «Дон Жуан»
Чтоб рассказать и горесть и напасть
Моей судьбы, не надо мне, к несчастью,
Ни на кого ссылаться: пять ведь раз
На паперти я верной быть клялась.
Чосер. «Пролог Батской ткачихи»
Самый гнусный обман – хитростью лишить кого-то любви; это роковая утрата, не восполнимая ни во времени, ни в пространстве.
Cерен Киркегор
Использовать другого в своих интересах, ради чувства собственной безопасности – это не любовь. Любовь не может дать ощущения безопасности, любовь – это такое состояние, при котором не возникает желания чувствовать себя в безопасности; это состояние незащищенности и уязвимости…
Дж. Кришнамурти
От мужа я ушла в День Благодарения…
От мужа я ушла в День Благодарения. Это случилось через девять лет после нашего знакомства; примерно столько же прошло со дня нашей свадьбы – времени достаточно, чтобы понять, что что-то сломалось, и все же это решение далось мне с трудом.
Конечно, День Благодарения был выбран не вполне удачно – а, может, наоборот? И до, и после свадьбы я жила в одном и том же квартале Манхаттана, в доме напротив Музея естественной истории, на той самой улице, которая служила стартовой площадкой для гигантских воздушных шаров, из года в год сопровождавших парад. Девочкой мне разрешали всю ночь напролет смотреть, как подъезжают грузовики с баллонами гелия и огромными сморщенными камерами и те вдруг прямо у тебя на глазах начинают раздуваться под сеткой, обвешанной мешками с песком.
Первые грузовики появлялись часов в девять вечера накануне парада, и постепенно вся улица заполнялась огромными фигурами Микки Мауса, Дональда Дака, Панды и Динозавра. Позже к этому веселому зверинцу добавились новые герои, но я стала старше, и это событие потеряло для меня былое очарование. Хотя и потом меня больше всего привлекал Буллуинкл [1]1
Буллуинкл – американский лось, персонаж детских мультфильмов ( прим. перев.)
[Закрыть]: у нас с ним было что-то общее, какая-то смесь воплощенной глупости и неистребимой наивности.
Не одной мне на нашей 77-й улице разрешалось не ложиться в постель в эту удивительную ночь. Другим детям нашего квартала везло ничуть не меньше. Мы были уверены, что парад устраивают только для нас; мы все высыпали на улицу, кормили сахаром полицейских лошадей (я всегда боялась, что какая-нибудь лошадь в конце концов откусит мне палец) и чувствовали себя самыми счастливыми детьми в Нью-Йорке – особенными, уникальными, не такими, как все.
Если нам удавалось продержаться и не уснуть часов до пяти-шести, то мы видели, как раздувшиеся шары поднимаются вверх, к нашим окнам. Это длилось всю ночь, но я чаще всего к двум уже засыпала, хотя до последнего боролась со сном. Я ложилась не раздеваясь, ставила будильник на шесть и, как только он звенел, слетала вниз, чтобы насладиться зрелищем моих шаров, прежде чем ими завладеет остальной мир. Когда мне было лет десять, я фантазировала, будто возглавляю банду детей, которая похищает один из шаров. Мы затаскиваем его в самый отдаленный уголок Центрального парка и держим там заложником до тех пор, пока взрослые в отчаянии не сдаются – на наших условиях.
А вот теперь утром Дня Благодарения я ухожу от мужа. Ухожу, оставляя унаследованный от дедушки семикомнатный кооператив, бросая книги, пишущую машинку, большую часть одежды. Ухожу в 7.30 утра, поспешно и навсегда, обгоняя зависшего в небе гигантского Буллуинкла. У меня три чемодана, бежевые с фиолетовыми разводами. В одном – наброски моей новой книги, в другом – одежда на все случаи жизни: и для прохладного Нью-Йорка, и для холодного Чикаго, и для теплого Лос-Анджелеса, и для любой непредсказуемой погоды межсезонья; в третьем – косметичка с двумя фенами для волос, двенадцатью пузырьками витаминов, двумя флаконами духов, разной косметикой, кремами, шампунями, книгами, записными книжками и самыми ценными украшениями. Я – изгой, женщина, бегущая от неудачного замужества, еврейский бродяжка, коренной житель Нью-Йорка, направляющийся на запад. Освобожденная от умирающего брака рассказом о давней измене, возродившаяся через самоубийство близкой подруги, я ухожу, чтобы встретить новую любовь и – свою судьбу. У меня предлог – я еду в Лос-Анджелес для работы над фильмом.
Но я уезжаю навсегда. И если об этом еще не догадывается мой муж, то я знаю наверняка. И боюсь. Воодушевление сменяется страхом. Только две вещи поддерживают меня: новая любовь и образ Джинни, моей подруги, – в старенькой меховой шубке, принадлежавшей еще ее матери, Джинни, медленно умирающей на заднем сиденье машины в запертом гараже на Кейп-Коде. Жизнь или смерть. Всего два пути. На развилке дорог Джинни выбрала свой путь, а мне предоставила другой. Своим самоубийством она завещала мне жить. И вот, в свои тридцать два, я вдруг избавилась от подсознательных страхов и наконец решилась взлететь.
Раньше мне хотелось, чтобы мы жили в браке долгие годы…
Почему брак без любви разорвать легче, чем брак по любви? Потому что брак без любви основан на безрассудстве, а брак по любви – на сознательном выборе…
Я всегда хотела, чтобы мы жили в браке долгие годы, берегла его, как леденец перед обедом, как комочек жвачки, тайно скрытый от постороннего глаза под спинкой детской кроватки, как недолгий отдых, который обещаешь себе после дня напряженной работы. С самого начала все было бесполезно. Но я сознательно обманывала себя. Я говорила себе, что ничего лучше и придумать нельзя. Мне почему-то хотелось верить, что на компромиссах держится мир…
Съезд книготорговцев в Чикаго, начало июня. Тысячи людей толпились в вестибюле «Шератона», и каждый третий, казалось, знал меня в лицо. Меня хватали за руки, толкали, приветствовали, спрашивали совета и умоляли почитать многообещающие литературные опусы племянников из Скенектади. Пробираясь сквозь толпу книготорговцев, посредников, издателей и агентов по рекламе, я улыбалась так широко, что мне казалось, будто мое лицо сейчас просто треснет. Похоже было, что кондиционер приказал долго жить. Всюду стояли очереди: небольшая – у стола регистрации, длиннее – у входа в кафетерий, еще длиннее – у входа на стоянке такси. Я мечтала только о том, чтобы добраться до своего номера. Я опустила подбородок, как будто собиралась нырнуть, покрепче ухватила сумочку и пошла, работая плечами, извиваясь, вальсируя, а кое-где пробираясь бочком через толпу, пытавшуюся преградить мне путь. На моей груди не красовалась карточка с именем, но мое лицо уже стало достоянием общественности.
Оказавшись наконец в номере – с двумя двуспальными кроватями (не иначе как ожидавшими какой-то загадочной групповой любви), с гигантским цветным телевизором, с присланными моим издателем цветочными композициями, больше подходящими для похорон, – я скинула босоножки, разделась, включила душ, закрыла дверь на два оборота (чтобы меня не пришибли, как героиню «Психоза») и вступила в покрытую пеленой пара воду. Когда жизнь кажется мне совершенно невыносимой, я принимаю ванну. Я откинула голову назад, не заботясь о том, что вода может попасть в уши. Волосы обвивали мое тело под водой.
Какого черта мне нужно, в конце концов? У меня есть все, чего я хотела добиться и добилась-таки тяжелым трудом, и кажется, все напрасно. Всю жизнь я жаждала славы, известности, поклонения. С того самого момента, когда, увидев меня в роддоме, мой отец спросил у матери: «Так мы должны забрать это с собой?» – жизнь превратилась для меня в арену борьбы за внимание к себе, за то, чтобы родители не пренебрегали мной, чтобы быть любимым ребенком, самым талантливым, самым лучшим, самым развитым, самым хулиганистым, самым обожаемым. Теперь я добилась своего, правда, получила я все это не от родителей или мужа, а от остальной части человечества. И все это теперь казалось мне каким-то кошмаром.
Извращение. Три года назад я готова была бы пойти на убийство, чтобы заполучить то, что имею сейчас. Я завидовала писателям, которых печатают, завидовала и преклонялась перед ними. Я считала их полубогами, неуязвимыми, нечувствительными к боли, наделенными неубывающим запасом любви и уверенности в себе. Теперь мне открылась обратная сторона кривого зеркала славы. Мне удалось наконец войти в комнату, куда допускаются лишь избранные. Оставаясь снаружи, уверен, что она несказанно красива, пышно убрана и обладает волшебными свойствами. Но попав внутрь, обнаруживаешь, что это всего-навсего зеркальный зал, и видишь бесконечно отраженного и искаженного зеркалами – себя, себя, себя.
Твой искаженный образ появляется в прессе, его подхватывают разные люди, проецирующие на тебя свои надежды и разочарования, все те, кто завидует тебе и мечтает оказаться на твоем месте. Они не поверят, если признаться им, что чувствуешь себя, как в западне, в этом зеркальном зале. Им жизненно необходимо верить в магические свойства комнаты за закрытыми дверями, необходимо для того, чтобы оправдать свою зависть, свои потуги подняться выше по социальной лестнице.
Я думала о нашем с Беннетом браке, вспоминала прошедший год. Как хотелось бы сейчас оказаться дома, рядом с ним. Иногда наш брак становился мертвым и безотрадным, но где-то в глубине души мы, казалось, становились все ближе друг другу. И после всех наших споров на этот счет мы в конце концов начинали подумывать, а не завести ли нам ребенка.
А почему бы и нет. Время подошло. Мне исполнилось тридцать два, и временами меня охватывала паника, что скоро я стану совсем старухой. Я написала три книги, у меня была прочная писательская репутация и денег достаточно для того, чтобы нанять домработницу, приходящую няню и даже кормилицу, если, конечно, я этого захочу.
Почему же тогда меня не покидало чувство, что все идет из рук вон? Что-то все время останавливало меня. Весь день, пока Беннет был на работе, я мечтала о малыше, но когда он возвращался домой и я видела его угрюмое, мрачное лицо, все восставало во мне. Родить ему ребенка означало бы навсегда привязать себя к его лицу. Должно же существовать на свете что-то еще, что-то более легкое и радостное, чем эта жизнь. Беннет был в плену мифа о своем несчастном детстве. Он уже семь лет занимался психоанализом и считал, что жизнь – это затяжная болезнь, изредка прерываемая кратковременными словесными кровопусканиями, производимыми психоаналитиком. Он был перпендикулярным мужчиной, а я, я так подозреваю, вертикальной женщиной. Но я чувствовала себя виноватой из-за своих подозрений. Он был очень хороший человек. Правда, немного грустный и эгоцентричный, но очень хороший. Он был верен мне, поддерживал меня в моих устремлениях. Все наперебой только и твердили, как мне с ним повезло: это муж, который примирился с успехом жены.
Примирился– именно так они и говорили. И хотя эти слова раздражали меня, я никогда не задумывалась над ними всерьез. Я испытывала к Беннету чувство благодарности, я считала себя обязанной ему. Он мой Леонард Вулф, думала я. Запрятанные глубоко внутри, успокоительные мысли. В конце концов, он не бросил меня, когда мой роман «Откровения Кандиды» (который, по-моему, сочли возмутительным все, кроме меня) стал бестселлером. Он не бросил меня и тогда, когда пациенты начали спрашивать его, не он ли выведен в романе в качестве главного героя. И даже тогда, когда я совершила совсем уж непростительный поступок: стала известной, а он должен был помогать мне разбирать почту и сопровождать на литературные вечера.
Мне кажется, что все мои знакомые и друзья считали его кротким и страшно терпеливым, – мужчиной, с которым чувствуешь себя в полной безопасности. Интересно, какой смысл они вкладывали в эти слова? Неужели они не могли понять, как унизительно это для нас обоих? Да и, пожалуй, для всех мужчин, если уж доводить значение слов до логического конца. Разве мой успех – это какая-то аллергия, которую нужно терпеть? Мужчина бы на моем месте торжествовал, мне же приходилось постоянно извиняться – за все. Благодарить мужа за то, что он мирится с моей славой. Извиняться перед менее удачливыми друзьями, все время повторяя: как это ужасно – иметь то, что имею я. И главное, я чувствовала себя виноватой. И обязанной. Самое меньшее, что я могла сделать для Беннета, – это родить ему ребенка.
Но снова возникало его хмурое лицо, его нервное покашливание, его вечный самоанализ. Психиатрия была его призванием, а истинной страстью – любовь к своему несчастному детству. Он нянчился с этим мифом так же, как, может быть, нянчился бы с нашим младенцем. Других он тоже побуждал постоянно скорбеть о несчастном детстве.
Я и сама получила более чем достаточную долю подобной терапии, и мне начало казаться, что отношение Беннета к своим юным годам – это своего рода тщеславие. Каждый человек считает, что ему пришлось пережить больше, чем другим. И каждый в глубине души уверен, что он лучше всех, поэтому больше других заслуживает славы.
Похоже, так считают все, кроме меня.
У Беннета на самом деле было трудное детство. Овдовевшая мать, которой приходилось жить на благотворительные пожертвования, бесчисленные братья и сестры, двое из которых умерли от каких-то детских болезней… Суровое было детство, хотя, возможно, и не такое суровое, как у тех, кто рос во время войны. Кроме того, и во дворцах в этом смысле не все благополучно: Гамлета, например, беспокоили плохие сны. А некоторые пережили концлагеря и не разучились смеяться.
Юмор – это средство выживания. Может быть, поэтому Беннета так угнетало его собственное детство. Он был напрочь лишен чувства юмора. Это проявлялось даже в его работе: он был вдумчив, педантичен, но в сущности оставался глубоко ограниченным человеком – из-за неумения управлять своими чувствами. Он пробовал заняться частной практикой, но в конце концов отказался от этой затеи, оставив лишь нескольких пациентов, и поступил на службу в больницу. Его тяготение к надежности заставило его найти убежище в повседневной работе.
Как бы там ни было, за это я перестала его уважать, и неуважение к нему стало постепенно вытеснять то, что когда-то было любовью. Но происходило это почти бессознательно. Я говорила себе: «В браке всегда так, мужчина и женщина вечно говорят на разных языках». Друзья считали, что иметь такого надежного супруга – это счастье, да я и сама верила в это. А был ли вообще кто-нибудь счастлив в браке? Где это написано, что с мужем мне должно быть весело, как, впрочем, и то, что он обязан меня терпеть, спать со мной и поддерживать мои творческие амбиции? У других писательниц было ещехуже. Грубые, неотесанные мужья, любовники, доводящие до самоубийства, тираны-отцы с их разговорами о дочернем послушании, толкающие девушек на полный отказ от интимной жизни. Меня Бог наградил домашним святым, хотя и достаточно надоедливым. Он, по крайней мере, не лез в мои дела. Я совсем не расходовала на него свою психическую энергию. Он все больше и больше становился предметом обстановки, неотъемлемой принадлежностью дома, чем-то вроде плиты, посудомоечной машины или стереосистемы.
Как же получилось, что мы так отдалились друг от друга? Или мы с самого начала были далеки? Неужели восьми лет семейной жизни достаточно для того, чтобы между двумя людьми исчезли все точки соприкосновения, – а может, их никогдаи не было? Я уже не знала. Единственное, что я знала наверняка, так это то, что я никогда не хотела поехать с ним в отпуск или провести всю ночь с ним наедине, – я заполняла жизнь безумной активностью, сотнями друзей, случайными связями (которых потом, конечно же, стыдилась), потому что быть с ним вдвоем – непереносимо скучно. Даже когда мы оба сидели дома, я всегда сбегала от него в кабинет – работать. В какой-то степени было, безусловно, виновато мое безудержное честолюбие (как сказали бы мои помешанные на астрологии приятели, типичный Овен замужем за типичным Раком), но во многом это было и стремление не оставаться с Беннетом один на один. Его присутствие угнетающе действовало на меня. Что-то отрицающее самое жизнь сквозило в его поведении, осанке, в монотонной манере говорить. Как можно создавать жизнь с человеком, олицетворяющим смерть?
Я вылезла из ванны, вытерлась, попудрилась, спрыснулась духами, высушила волосы. Потом тщательно наложила макияж – скорее для того, чтобы спрятаться от мира. Замаскироваться! Хотя какого черта было маскироваться?! Ведь знали не меня, а Кандиду – Кандиду, которую я создала по образу и подобию своему, – так художники пишут автопортреты или изображают своих детей херувимами, жен – серафимами, а соседей – нечистой силой.
Я родилась в семье художников, обожавших портреты и натюрморты. Семейная мудрость гласила, что лучше рисовать вещи, которые находятся под рукой. Причина ясна: то, что находится дома, знаешь лучше; домашние вещи можно на досуге изучать, препарировать их, разбирать, набивая руку. Светотень, цвет, композиция – их так же удобно изучать на примере яблока, луковицы или знакомого с детства лица, как и на фонтанах Рима или грозовых облаках Венеции.
Я создала Кандиду по своему образу и подобию, и все же она не была тождественна Изадоре – она в чем-то больше, в чем-то меньше походила на настоящую меня. Внешнее сходство было налицо: симпатичная еврейская девушка из Аппер-Вест-сайда, фантазерка и мечтательница, которая сочиняет рассказы и стихи. Но Кандида, оставшись в книге, застыла, а я (мне хотелось в это верить), продолжала жить и развиваться. Я переросла те желания, которые движут ею, и страхи, которые преследуют ее. Но, как это ни удивительно, моя героиня оказалась выразителем духа времени, поэтому читатели по-прежнему настаивают на том, что мы абсолютно идентичны – я и она!
Это поразительное открытие никого не потрясло – кроме меня. Когда я вывела в романе Кандиду Вонг (с ее привычкой умничать, излишне откровенными разглагольствованиями о сексе и сознательной установкой быть подальше от житейских проблем), я, с одной стороны, сомневалась, что книгу вообще возьмутся печатать, а с другой, – считала ее настолько бесценной, что ее смогут оценить лишь такие же, как сама Кандида, многоумные еврейские девушки из Аппер-Вест-сайда. Но я ошибалась. Так, как чувствовала Кандида, – чувствовала вся нация. И это не удивляло никого, кроме ее создателя.
Позже, когда книга разошлась миллионным тиражом, я вдруг подумала, а действительно ли это я создала Кандиду? Может быть, на самом деле это она создала меня?
Подкрасившись, я вновь вышла в многолюдный вестибюль.
В этот вечер я была приглашена на коктейль в честь благородного разоблачителя, написавшего автобиографический роман, еще на один коктейль – в честь ставшей телевизионной звездой шимпанзе, своей биографией обязанной какому-то безымянному автору, и на обед – в честь осужденного преступника, которому только что заплатили миллион за мемуары, в которых он собирался поведать о своей деятельности в качестве высокого государственного чиновника в никсоновской администрации. Из всех троих шимпанзе показалась мне наиболее искренней и привлекательной, и, кажется, весь вечер я обсуждала с животными и людьми проблему космических черных дыр.
Если надо, я умела показать себя: я могла до смерти заговорить любого собеседника, могла восхищаться книготорговцами, казалось, всем сердцем, отдаваясь игре, целью которой было показать, насколько полное взаимопонимание существует между писателем и читающей публикой. Я прирожденная актриса и всегда с удовольствием изображаю улыбающуюся знаменитость, в то время как на самом деле у меня от волнения сердце уходит в пятки. В глубине души я чувствую, что с тем же успехом могла бы прислать вместо себя надувную куклу. Не сумев сблизить меня с людьми, эти миллионные тиражи, напротив, отдалили меня от всех, в том числе и от себя самой.
И сегодня я слишком много пила, слишком много болтала, слишком широко улыбалась и проглотила в конце концов слишком много горьких пилюль.
Какая-то желчная фельетонистка, подлетев ко мне, сообщила, что тоже пишет стихи, но, в отличие от меня, ими не торгует, а затем конфиденциально призналась, что успела прочитать в «Кандиде» лишь три первые страницы, – она, видите ли, тут же вышвырнула ее, потому что терпеть не может «порнухи».
Кандида, конечно же, немедленно бы нашлась, но я придержала язык. Минуту или две я стояла молча, тихо покачиваясь от всего выпитого, а потом выдавила из себя «извините» и направилась к дамской комнате, где рухнула на мусорный ящик и немного посидела так, прислонясь щекой к прохладной плитке стены.
В конце концов я заставила себя подняться и вернуться в свой номер с двойной двуспальной кроватью, имея в крови шесть джинов с тоником и по меньшей мере полбутылки вина, пульсирующего в виске.
Я чувствовала себя еще более одинокой и потерянной, чем была до всех этих коктейлей и обедов. Мне были противны мужчины, которые набивались ко мне, поэтому я улеглась спать одна, страшно жалея, что даром пропадают столько перин, и тщетно пытаясь кончить, чтобы наконец уснуть.
Спиртное оказывало на меня странное действие: у меня разыгрывалась бессонница. Сердце готово выскочить из груди, во рту ощущение, будто туда насыпали песку, головная боль нестерпима, и я понимаю, что без валиума обречена на бессонную ночь.
Что же мне делать? Я могла бы пойти к благородному разоблачителю и утолить душевные муки плотскими утехами, поскольку он неоднократно давал мне понять, что питает ко мне пылкую страсть, но я не была уверена, что именно этого хочу. Может, Кандида бы и пошла, но я – нет, не сейчас. Я чувствовала, что это только усугубит депрессию.
Я вертелась в постели, как цыпленок на гриле, в надежде найти, наконец, удобное положение. Мне казалось, что у меня вырос горб, как у верблюда. Моя правая сторона повисла над бездной, покрытой зеленовато-желтым ковром, которая разъединяла мои двуспальные кровати. Левая сторона неожиданно покрылась островками боли, ее сводило судорогой, кололо, словно в кожу впились тысячи игл. И даже живот, мой верный друг, на котором всегда было так удобно лежать бессонными ночами, на этот раз предал меня. Он провалился в мягкую перину, словно в зыбучий песок, и я чувствовала, что рот и нос сейчас последуют за ним и я задохнусь. Я снова перевернулась на спину и уставилась в потолок, ощупывая грудь в поисках уплотнений, нашла одно – или мне только показалось, что нашла, – обрадовалась, что теперь есть настоящая причина для беспокойства, и опустила руку ниже, к лобку. Снова начала возбуждать себя, но скоро потеряла к этому интерес. В эту ночь меня вряд ли успокоит нечто столь приземленное. Номер, превратившийся в комнату пыток, был наполнен шумом кондиционера, и в его холодном влажном жужжании уже начали возникать надо мной черные крылатые тени – ко мне явился с визитом мой греческий хор.
Они собрались один за другим и повисли под потолком. Я по списку вызывала их, а они высказывались на мой счет – в самых гнусных выражениях, какие знали.
Первым появился стареющий критик-лилипут, который зачесывал волосы на лысину, носил ботинки, увеличивающие рост, и любил соблазнять стройных студенточек на всяких там писательских конференциях; за последние двадцать лет он обещал пяти различным издательствам пять совершенно разных, но исключительно первых своих романов, а много лет назад посетил наш колледж, его литературный класс, и сообщил нам, нежным второкурсницам, далеким пока от феминистского движения, что женщины по природе своей не способны сочинять ни прозу, ни стихи. Теперь он писал рецензии для одного очень влиятельного журнала и как-то раз поведал читающей публике, что Кандида – это «мамонтовая п…». Еще он ненавидел Франца Кафку, Сола Беллоу, Симону де Бовуар, Анаис Нин, Гора Видала, Мэри Маккарти, Исаака Башевиса Зингера, – считалось даже почетным быть раскритикованным им. Но в эту ночь его слова гудели у меня в ушах, словно громоподобный глас вечной Истины: «Мамонтовая п…», «избалована успехом» и, наконец, – «Госпожа Винг должна бы понять, что популярность – это своего рода чистилище». Если честно, то я не совсем поняла, что означает сие грозное замечание, но все равно испугалась. Враждебный тон завораживал меня, столь же увлекательным оказался и финал. Почему же так врезались в память плохие рецензии, а хорошие так быстро забывались? Загадка. Плохие отзывы всегда звучали во мне повелительным тоном моей матери.
Херберт Хониг явился со своей неизменной черной повязкой на глазу, рыжеватой козлиной бородкой, псориазом (и сердцебиением, сопровождающим его), склонностью «заимствовать» результаты исследований своих аспирантов и полудюжиной романов, в конце концов распроданных по дешевке. Он обозвал меня «автором полемической порнографии» и тут же улетел в Яддо (с очаровательной соискательницей докторской степени, которой он выхлопотал там стипендию – для разработки темы, удачно вписывавшейся в круг его собственных научных изысканий). За ним выступил Даррил У. Васкин (седовласый профессор из Гарварда, специалист по литературе семнадцатого века), который сказал, что с поэзией Джорджа Херберта мои стихи ни в какое сравнение не идут (до этого момента я и не подозревала, что, оказывается, с ним соревнуюсь). Потом появилась Ри Тейлор Карновски (вслед за обширной грудью и поросшей щетиной верхней губой), которая сообщила мне, что я – «жалкая рифмоплетша». (Ри держалась тем, что «топила» других писательниц, чтобы злые языки не могли сказать, будто она имеет склонность к представительницам своего пола. Она вместе с Хербертом Хонигом училась когда-то в Йельском университете и разделяла его склонность к непогрешимым суждениям.) Она тоже тут же отчалила в Яддо, чтобы продолжить работу над книгой, посвященной отражению промышленного переворота в образной системе Китса.
Когда высказались все критики, пытаясь убедить меня в том, что я полная бездарь, законченный эксгибиционист, гончая, с высунутым языком гоняющаяся за славой, настал черед моих поклонников. Но не тех разумных, дорогих моему сердцу людей, моих преданных читателей, которые присылали мне благодарственные письма, а каких-то помешанных – извращенца из Миссисипи, который просил меня прислать ему грязное нижнее белье и даже приложил чек на пятьдесят три доллара, чтобы я могла купить себе новое (непонятно только, откуда он взял эту сумму); «пастора» из Нью-Джерси, который считал, что я произвожу впечатление человека «широких взглядов», и хотел, чтобы я начала с ним переписываться, поскольку его жена уже «вышла в тираж» (эпистолярный стиль пастора напоминал замусоленную страницу из романа «для взрослых», который всякий любопытный может легко найти на 42-й улице); предпринимателя из Буффало, который позвонил мне как-то ночью, чтобы спросить, не может ли он посетить меня, чтобы «испить чашу правды»; а самозванный миллионер из Сан-Диего, сделавший состояние на металлоломе, хотел узнать «мое отношение к копрофагии» и «не думаю ли я, что «соки любви» буквально-таки напичканы витаминами».
Чем же заслужила я внимание подобных типов? Конечно же, они безошибочно почувствовали во мне что-то порочное, заметили какой-то изгиб души, нашедший отклик в их сердцах, услышали какую-то особую ноту, означавшую для них извращенность и моментально подхваченную их чуткими ушами, настроенными только на эту волну.
Я помирала. Под хлопанье черных крыльев критиков и развевающихся простынь извращенцев, под бесконечное жужжание заморозившего комнату кондиционера я опускалась в могилу так же верно, как моя убитая раком мать, как отравленные газом евреи в Освенциме. Мое тело состояло из плоти, которая – вот еще секунда – и превратится в дерьмо, в глину, в пыль. Мне казалось, что я вижу собственные кости (которые отливали зеленым, как в флюороскопе) и физически ощущаю, как плоть опадает с них, размягчается, начинает разлагаться. Я подумала о повешенных, у которых начинается недержание кала и он падает прямо в штаны, если покойника вовремя не снять; о гниющих трупах, сваленных на телеги во время лондонской чумы, о разлагающихся мертвецах, уложенных штабелями у стен Сиены в год «Черной смерти». И от лица моего не останется ничего, кроме черных глазниц и ослепительно белых зубов. Изадора, Кандида – это одно лицо. Женщина, портрет женщины – обе рассыпаются в прах и умирают: плоть разлагается, бумага превращается в пыль, краска с холста облупляется, а голоса смерти, извергаемые критиками, громоподобно звучащие над моей смертной мукой, – услышаны, живут, празднуют жизнь.
В своей постели я была рыбой, судорожно глотающей воздух, а они – рыболовами, забрасывающими удочки с потолка. Я была простым смертным, поэтому они и держали меня на крючке, а слава была наживкой, которую я проглотила, и теперь она застряла у меня в горле, не давая кричать. Вот к чему привели мои поэтические опыты, любовь к Китсу, к Уитмену, к Блейку. Они хотели заткнуть мне глотку, заставить меня замолчать, потому что в компании покойников гораздо легче обсуждать проблему отражения промышленного переворота.
Покойница. Чтобы добиться успеха, нужно умереть. И вот плоть уже опадает с костей, но над моей могилой не возводят пирамиды, на доме, где я творила, не открывают мемориальной доски; мне не нашлось места даже в антологиях, потому что я объявлена мертвой.
Меня объявили мертвой мертвецы! С абсолютной ясностью кошмара я поняла, что наступает смерть. Моя матка превратилась в камень, разлагается земная оболочка, у меня нет ребенка, а громоподобные голоса критиков объявляют мертвыми мои романы и стихи! Мои читатели отвернулись от меня, остались одни извращенцы. К моему трупу уже подбираются некрофилы, но как только они начинают трудиться над ним, со скелета опадают последние куски плоти, оставляя лишь сияющую зеленовато-белым светом акулью пасть тазовой кости.
Я покрываюсь испариной. Мое сердце колотится так, словно хочет выпрыгнуть из груди и улететь на луну. Я соскакиваю с кровати, включаю свет и начинаю медленно ходить по комнате взад-вперед. Потом я подхожу к зеркалу, чтобы убедиться, что я еще жива, быстро бегу к ночному столику, хватаю телефон и застываю так, тупо пытаясь сообразить, кто бы мог в этот час по телефону утешить меня.