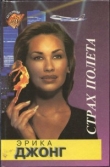Текст книги "Как спасти свою жизнь"
Автор книги: Эрика Джонг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Бывает, на жизненном пути мы встречаем истинных духовных наставников, но главное – распознать их среди обыденной житейской суеты. Я с первого взгляда распознала в Джинни оракула, но вот вопрос: прислушалась бы я к ее откровениям, если бы она осталась в живых.
Было воскресенье, мы фотографировались в парке. А когда я вернулась домой, Беннет, как всегда, шаркал своими извечными шлепанцами, без конца слушал одни и те же контаты Баха и читал одни и те же психоаналитические журналы. С утра он уже успел сыграть свою неизменную партию в теннис.
Заявившись домой, мы сели пить чай – втроем. Неожиданно зазвонил телефон.
Помехи на линии подсказали мне, что звонят из солнечной Калифорнии.
– Алло! Изадора? Это Бритт, – ей даже не нужно было называть себя: ее гнусавый голос невозможно было спутать ни с кем.
– Привет, – сказала я, замирая от страха, который Бритт всегда внушала мне.
– Привет, – ответила она, немедленно переходя к делу. – Слушай, я не могу долго говорить, потому что меня ждет Пол Ньюмен, но у меня есть для тебя фантастическое предложение! Только вот что – тебе нужно будет приехать ко мне.
Пророческая сила волн морских…
Есть еще на этой бренной земле люди, которые всегда испытывают радость, – у них больше внутренней силы, чем у всех остальных. Они не расходуют ее на чувство подавленности и на самообман. Ощущать себя несчастным – это не хобби, это жизненный стиль…
«Побережье», – думала я с благоговейным страхом по пути в Калифорнию, туда, куда писатели приезжали умирать, туда, где разрушалась поэзия, где продюсеры, импресарио и прочие паразиты высасывали жизненные соки из процветавшего некогда таланта, добивали ими же задушенный гений, перемалывали еще не оперившийся Божий дар, имевший несчастье попасть к ним в лапы.
Продюсеры. Эта братия кушает драматурга на завтрак, режиссера – на обед, а на ужин из семи блюд им подают актеров. И все же, несмотря на все неудачи, несмотря на то, что я не доверяла Бритт, я испытывала странный подъем после ее звонка. Мои отношения с Беннетом окончательно зашли в тупик. Я имела полное право лететь.
Последний взгляд на Беннета в аэропорту – возможно, это наша последняя встреча. В памяти осталась его застывшая поза, черные лоснящиеся волосы, грустные глаза, показавшиеся особенно маленькими за толстыми стеклами очков.
Впрочем, постойте, – до этой была еще одна сцена, запомнившаяся мне: наш последний акт любви.
Это было днем накануне моего отъезда. Утром мы оба проснулись рано, каждый по-своему переживая мой отъезд. Пока он готовил мне завтрак, я начала собираться. Потом он ушел играть в теннис, а я стала готовить обед. Когда он вернулся, вещи уже были собраны и мы забрались в постель.
На этом месте в моей памяти – пробел, какие-то беловатые блики, будто, разбуженная кошмаром, я очнулась ото сна и обнаружила, что на глаза натянуто одеяло. И вдруг медленно, постепенно всплывает в памяти некий предмет, вроде стеклянный, отливающий серебром. Что это? Какая-то маленькая палочка, яркая, хрупкая, словно озаренная лунным сиянием волшебная палочка эльфов, – только с делениями и цифрами, нанесенными с одной стороны.
Да ведь это мой термометр, с помощью которого я определяю, когда могу забеременеть, – он лежит на тумбочке возле постели, потому что, несмотря на безмерное отчаяние из-за Беннета и постоянное желание уйти от него, я стала измерять себе температуру, а иногда даже «забывала» надеть колпачок в надежде, что как-нибудь случайно в моем организме зародится еще одна жизнь.
Эти попытки подтолкнуть «случайность» вызывали во мне раздвоенность и чувство страха. С одной стороны, я понимала, что ребенок не может склеить осколки того, что когда-то было нашим браком, но, с другой, он должен скрасить одиночество и опустошенность, которые навалятся на меня, стоит мне решиться, наконец, окончательно с Беннетом порвать. А может быть, ребенок изменит нас самих, вернет нам утраченный ныне интерес к жизни, даст шанс снова друг друга полюбить. Смерть Джинни требовала восполнить утрату. Мне казалось, что у меня будет девочка и в память о Джинни я так ее и назову.
Но сейчас, когда я уезжаю в Калифорнию и не знаю еще, какая судьба ждет меня там, я достаю со дна чемодана – ну надо же было так глубоко запихнуть – резиновый колпачок и незадолго перед возвращением Беннета надеваю его.
В постели мы затеваем разговор.
– Тебе грустно, что я уезжаю? – глядя на его мрачную физиономию, спрашиваю я.
– Я буду скучать по тебе, – отвечает он.
Я тронута. Впервые за все эти годы он попытался сказать мне что-то ласковое. Конечно, это ласка еще какая-то урезанная, скупая, но все же – ласка. Слезы катятся у меня из глаз.
– Мне не нужен никто, кроме тебя, – всхлипывая, говорю я.
Ну почему все так мрачно в наших отношениях? Мгновения нежности, и то какие-то грустные. Мы почему-то никогда в постели не смеялись.
Любовью он занимается грамотно, даже профессионально, но как-то холодно, почти механически. Он не груб, как это было летом в период моей безумной ревности, но и не нежен по-настоящему. Он нажимает все кнопки на моем теле, словно я не человек, а микрокалькулятор.
…В самолете я вдруг чувствую, что мне чего-то недостает. Страха. Я откидываюсь в кресле и жду его, своего привычного ужаса, давно знакомого мне отчаяния, твердой уверенности, что сейчас умру. Но, пристегнув ремни, чувствую себя абсолютно спокойной. Нормальный взлет. Мне кажется, что после ее смерти моя жизнь обрела второе дыхание и все, что произойдет теперь, просто не может не произойти. Я уже не в силах удержать самолет: или это сделает Дженни, или он разобьется, если на то будет Божья воля, но так или иначе, я теперь в надежных руках.
Чудесный, удивительный полет! Мы пролетаем над горами и долами, а маленькие, словно игрушечные, озера выглядят с высоты, как круглые голубые глаза. Если бы рядом со мной находился Леонардо да Винчи! Если бы он только мог совершить путешествие на «Боинге-747»! Если бы рядом со мной была Джинни и мы бы вместе летели через Скалистые горы, все выше забираясь в необъятное небо Запада, начав все с начала, начав новую жизнь!
Неужели это смерть Джинни вдруг освободила меня от страха перед полетом, который преследовал меня каждый раз, когда я садилась в самолет? Или причина в другом? Может, я просто поняла, как непредсказуема жизнь, как мало значат для будущего наши тревоги и волнения? Или просто я повзрослела и перестала бояться расставания с домом, с мамой, с землей, с улицей, где я росла, и с Беннетом, который сначала превратил меня в «Винг», а потом приложил все усилия, чтобы подрезать мне крылья?
Удивительно, что больше всего я боялась взлета и каждый раз страшно радовалась посадке. Это было так глупо с моей стороны: ведь на самом деле посадка и есть самое опасное. Может быть, я подсознательно боялась расставания с домом, – но теперь оно больше не страшило меня. Дом мой там, где я нахожусь. И вот я лечу.
Я решила завязать разговор с соседом, сотрудником фирмы грамзаписи. Он – в роскошной калифорнийской одежде, смесь «Гуччи», «Гермеса» и «Кардена»; его расстегнутая шелковая рубашка открывает волосатую загорелую грудь и болтающиеся на ней бусы и цепочки.
Мы беседовали с ним все три часа – выпивая, закусывая, потом обедая, потом переходя к коньяку, – но так и не представились друг другу. И вдруг, незадолго перед посадкой, он спросил меня:
– Ведь ваша фамилия Уайт? И вы жили в большой квартире с винтовой лестницей? – Да, – ответила я в изумлении, и только потом меня осенило: – «Ба, да ведь это тот парень, который впервые залез к тебе под юбку, когда тебе было двенадцать лет!»
Вот это да! Изадора летит в Голливуд! Так это и есть Голливуд – компания мальчишек, с которыми ты вместе росла в нью-йоркском Вест-сайде, превратившихся ныне в ходящую рекламу Гуччи, Гермеса и Кардена, демонстрирующих загар лучшего в мире южного солнца?! Теперь Голливуд не казался мне таким пугающим.
– У вашего отца были барабаны, – сказал мой старый приятель, – и я помню, как я на них играл.
– А я помню, как ты лез ко мне под юбку, – весьма развязно ответила я.
– Надо же, а я как раз этого-тои не помню!
– Возмутительно!
– Но барабаны, помню, были потрясающие! – На мгновение он задумался. – Странно, что мы встречались-то всего пару раз. Тебя все считали необыкновенной…
И тут я вспомнила, какого мнения я была о немтогда (я не имею в виду то чувство возбуждения и страха, охватившее меня, когда он слишком активно шуровал под юбкой): еще один сопляк, еврейский принц из частной школы. Я чувствовала свое превосходствонад ним. Впрочем, я чувствовала свое превосходство над всеми, когда мне было двенадцать лет.
Самолет опоздал на полчаса, а Бритт, которая и сама привыкла опаздывать, на этот раз, к своему вящему разочарованию, задержалась всего на двадцать минут. Когда я увидала ее, она курила, как паровоз, жевала жвачку и ходила взад-вперед, как тигр в клетке. На ней были джинсы в заплатках, протертые и залоснившиеся на сгибах, блузка из старых носовых платков и маленькое колечко с надписью «любовь». Сжатый рот не предвещал ничего хорошего, а пушистые рыжие волосы были взбиты в некоторое подобие «афро». Ореол курчавых волос обрамлял ее маленькое решительное лицо, по которому были рассыпаны горчичного цвета веснушки.
– Пошли скорей, – сказала она, как только мы получили багаж, – мне нужно поскорее закинуть тебя в гостиницу, потому что у меня вечером свидание.
– А как же муж? – изумленно спросила я.
– Я ушла от него, и между прочим, не последнюю роль в этом сыграла твоя книга. Я же говорилатебе, как много она значила для меня. Жаль, ты не виделамоего нынешнего ухажера! Вот это красавец! Ты бы сразу в него влюбилась. Но я не собираюсь устраивать тебе встречу с ним… – Она помолчала, критически оглядывая меня, а потом сказал: – А впрочем, там посмотрим. Может, я и разрешутебе с ним познакомиться, только если ты обещаешь мне не худеть.
В этом была вся Бритт – дух соперничества легко уживался в ней с грубостью и неизменным желанием оскорбить, унизить противника. Она шагу не может ступить, не продемонстрировав свое превосходство.
Дохлятина. Худая, как скелет. Это неистребимая подлость мешает ей хоть чуточку нарастить жир. Да еще целая гамма психических расстройств, которые бы сделали честь любому учебнику психиатрии.
Гостиница «Беверли-Хиллз». У меня недостанет слов описать тот восторг, который охватывает скромного жителя Нью-Йорка при взгляде на нее! Она стояла перед нами, розовая, как именинный пирог, со стройными, колеблющимися на ветру пальмами вместо свечей и волшебным светом прожектора, оттеняющим их темную листву. Буквы названия на розовом фасаде горели каким-то мрачным зеленоватым огнем.
«Роллс-ройсы» с налепленными на стекло необычными пропусками мягко подъезжали к подъезду, где их встречал божественный юноша с платиновыми волосами. Если таков швейцар, то какова же публика? О, невообразимое великолепие! На ум мне пришла Страна Оз, Алисино Зазеркалье, где Бритт была моей Червонной Королевой. Она ввела меня в вестибюль с огромным и, казалось, ненужным камином и провела дальше, мимо улыбающихся портье, по бесконечной череде залов, в небольшой холл, где какой-то рабочий красил белой краской небо между вечнозелеными пальмами обоев. Как будто перекрашивал розы! Это Беверли-Хиллз, где настоящая трава кажется синтетической, настоящие пальмы выглядят, как пластмассовые, где тропические цветы лишены запаха, а адвокаты разъезжают в «роллс-ройсах», прижимая к себе бронированные «дипломаты».
Это страна Больших Сделок, денег и игры, сегодняшних миллионеров и завтрашнего банкротства, и еще встреч, встреч, встреч, лишь изредка прерываемых кинопросмотром, – страна, где много говорят и мало делают, страна склок и суматохи, жадности и коварства.
Мои размышления подытожил пропуск, приклеенный на окно одного из «роллс-ройсов», бросившийся мне в глаза. На нем было написано: «Жадность». Даже Бритт была менее откровенна.
– Я хочу сделать из твоей книги по-настоящему хороший фильм, – сказала она мне, когда мы уже сидели в роскошном люксе и поглощали великолепный (и страшно дорогой) обед – жареное седло барашка. – Я думаю, нам нужно пригласить Трюффо или Ингмара Бергмана, а может быть, и самого Джона Шлезингера, – говорила Бритт, набивая бараниной рот.
Она очень волновалась из-за предстоящего свидания, поэтому, без конца извиняясь, хотела поскорее поесть и уйти. Я даже знала, в каком направлении работает ее мысль: «Я уже сделала кое-что для нее, встретила в аэропорту, – теперь пора заняться собой». Через минуту она уже доедала свой шоколадный мусс (она поглощала огромные количества шоколада, но совсем не полнела – явный признак того, что в нее вселился бес), подкрашивала губы алой, цвета крови, помадой, – и наконец убежала на это позднее свидание с мужчиной, подружка которого имела неосторожность куда-то уехать на уик-энд.
Я осталась одна – в ожидании, когда меня посетит мой извечный гостиничный страх, но он почему-то не приходил. Я обошла комнаты, приняла душ, откинула покрывало с кровати, взбила лежавшие там бесчисленные подушки и прошла на балкон, с которого были видны купальные кабины и бассейн. Воздух был душистый и теплый, и какое-то необычное спокойствие снизошло на меня. Больше того, я была рада остаться одна, счастлива оттого, что ни разу не испытала страха за весь этот трансконтинентальный перелет, – почему-то я была в восторге, что нахожусь в этом жестоком и безжалостном Лос-Анджелесе.
Когда я была на балконе, зазвонил телефон. Раздражение, что кто-то посмел прервать мою мечту, сменилось испугом, когда я подняла трубку, услыхала взволнованный голос Холли, отделенный от меня тремя тысячами миль и поняла, что что-то произошло. В Нью-Йорке сейчас четыре часа утра, и какой бы сумасшедшей ни становилась временами Холли, она не имеет обыкновения звонить по ночам в другие города.
– В чем дело? – спросила я бодрым голосом, словно таким образом можно было успокоить ее.
– Изадора, скажи мне, я сумасшедшая? – попросила она. – Скажи, только честно! Я хочу знать правду!
– Конечно, нет, – соврала я.
– Слушай, я серьезно. Я хочу, чтобы ты сказала мне, считаешь ли ты меня сумасшедшей!
– Да кто из нас не сумасшедший!
– Это не ответ. Давай не будем играть словами и юлить. Я спрашиваю тебя, замечала ли ты когда-нибудь во мне признаки настоящего безумия, – я не имею в виду игру воображения, мои рисунки и все такое. Я хочу сказать, настоящие галлюцинации, бред, когда видятся вещи, которых на самом деле нет и не может существовать, – вот что я имею в виду.
– Нет, – твердо ответила я, пытаясь на ходу сообразить, так это на самом деле или нет. – Да нет, никогда.
– Ну, слава Богу, – в голосе Холли послышалось облегчение, – а то я последние пару дней только и думаю, что о Джинни Мортон. Не знаю, почему я не сказала тебе об этом раньше, наверное, потому что мне самой это казалось диким. Ты можешь считать меня сумасшедшей, но мне все время кажется, что она где-то рядом: порхает над цветами, следит, как я рисую, – понимаешь, я постоянно ощущаю ее присутствие. Я делаю то же, что всегда: читаю ее стихи, рисую, кормлю кошку, снова читаю стихи и снова рисую, но при этом все время думаю о ней, даже испытываю какое-то смутное беспокойство, как будто она хочет мне что-то сказать. Правда, иногда мне кажется, что я просто свихнулась и что нужно позвонить тебе, но я не знала, добралась ли ты до Лос-Анджелеса и не покажется ли тебе странным мой звонок… Ты знаешь, я никогдане рисую людей, но тут я взяла чистый холст и ее фото на суперобложке – то, где она сидит у себя на веранде с белой ангорской кошкой на руках, – и стала писать ее портрет. Может быть, у меня не все дома, но когда я начала писать, комната, как это ни странно, стала спокойнее, волнение прошло, все снова встало на свои места… Я писала до изнеможения – кошку с Симора, Джинни – по фотографии, – и под конец так выдохлась, что умудрилась без валиума уснуть, а это случается со мной впервые в жизни. И вот тогда – тут-тои наступает самое удивительное – она явилась мне во сне, причем была совершенно как настоящая и говорила, как настоящая, и сказала какую-то странную фразу. Честно говоря, я ничего не поняла, но может быть, ты поймешь…
– Так что она сказала?
– «Передай своей подруге, чтобы она взялась за тетрадь» – это ее точные слова. И так она их твердо сказала, как будто это приказ. Тут я проснулась и позвонила тебе.
– Почему ты решила, что подруга – это я?
– Потому что ты моя единственная подруга, горе ты мое! Послушай, Изадора, тебе это что-нибудь говорит?
– Дай подумать, – сказала я. – Подожди минутку, мне кажется, кто-то стучит…
– Это Джинни, – сказала Холли, и в голосе ее прозвучал ужас.
– Не говори ерунды!
Я вынула из чемодана красную тетрадку и вернулась к телефону.
– Никого, – сказала я. – Какие-то киношники пьяные в коридоре галдят…
– Слава Богу, – Холли вздохнула с облегчением на том конце провода.
Я раскрыла тетрадь на форзаце: там не было ничего, кроме написанных Джинни слов.
– Боюсь, что ты переутомилась, – сказала я, желая убедить в этом не только Холли, но и себя. Свободной рукой я пролистала тетрадь и где-то посередине, между страницей и вклейкой, обнаружила запись, которую не заметила раньше:
«Как спасти себе жизнь?» – спросил поэт.
«Будь дураком» – ответил Бог.
Ошибки быть не могло: это был почерк Джинни. Больше того, мне послышался ее голос!
– Слушай, Холли, я не собираюсь сидеть здесь и слушать всю эту загробную галиматью. Просто ты скучаешь по ней, вот и все. Я тожескучаю. Раз тебя преследует ее образ, значит, это любовь.
– Ха, мне это нравится! Прекрасно сказано. Тебе никто не говорил, что ты можешь по заказу составлять поздравительные открытки?
– Интересная мысль.
– Да-да. Ты бы могла достичь в этом деле невиданных высот, стала бы знаменитостью, отправилась бы в Голливуд и заработала хорошие бабки. Намного больше, чем я своими папоротниками.
– Как ты думаешь, тебе сейчас удастся уснуть?
– Думаю, да. И вообще, я прекрасно себя чувствую. А это все так, минутное помешательство.
– Если что, сразу звони. Все оплачивает Бритт – слава Богу, она может себе это позволить.
– Надеюсь, теперь все будет в порядке.
– Ну и хорошо.
– Обожаю тебя, – сказала Холли.
– И я тебя. Если будет плохо, звони. Обещаешь?
– Обещаю.
– Целую и обнимаю.
– И я тебя.
Мы послали друг другу сотню воздушных – трансконтинентальных – поцелуев, и я повесила трубку.
С Бритт я прошла через ад. За неделю, проведенную вместе, я хорошо узнала ее, и то, что я узнала, мне совсем не понравилось. Она была неисправима: заставляла меня по пять-шесть часов ждать ее прихода, заявлялась на час – на два, а потом бежала к какому-нибудь очередному приятелю, оставив на постели крошки марихуаны и следы кокаина.
Она держала меня за шестерку и, пожалуй, по-своему была права. Ну, кто еще согласился бы примчаться в Голливуд только из-за того, что были оплачены гостиница и дорога? Кто еще стал бы работать над сценарием, который в конце концов оказался «ошибочным по идее», «никуда не годным» по композиции и к тому же совсем несценичным, – очевидно, сказались недостатки моей книги и ценных указаний Бритт, но самое главное, ни я, ни она понятия не имели, чего мы хотим.
«Уж поверь мне», – говорила Бритт, и я верила. Да, я всегда легко верю самым никчемным людям.
Я допускала, что сама плохо в этом разбираюсь, но Бритт! – уж она-то должна была знать, что делает. И я совершила то, на что в жизни не согласился бы ни один писатель: я доверила Бритт свой текст. Я принимала ее рекомендации, я позволяла диктовать мне, что где писать, и в конце концов моя наивность привела к трагедии. Сценарий не отражал ни моей книги, ни замысла Бритт. Это было полное собрание ошибок.
Мы работали и в гостинице «Беверли-Хиллз», и в кабинете Бритт на студии «Парадигм-пикчерз», и в ее особняке, но на самом деле то, чем мы там занимались, работой трудно назвать. Невозможно было завладеть вниманием Бритт больше, чем на десять минут. Она ходила по комнате, курила, нюхала кокаин, отвечала на звонки, назначала встречи, делала какие-то замечания, заставляла меня нянчиться с двумя неврастеничными ласа-апсо, посылала за покупками, в общем, обращалась со мной, как с лакеем или личным секретарем. Я была настолько потрясена таким обращением, что у меня не было сил протестовать. Никто никогда не обращался со мной так. Интересно, Бритт поступала так сознательно или она не ведала, что творит? Скорее всего, последнее. Стоило мне набраться храбрости и намекнуть, что я ей не нянька и не прислуга, как она принималась рыдать, повторяя, что она мне друг, что она любит меня и полностью отождествляет с собой и никогда, никогда, никогдане позволит себе ничего такого, что могло бы меня оскорбить. Вот так, урывками, нам удалось разложить «Откровения Кандиды» на сцены и выписать их на карточки. Потом мы долго ползали по полу, пытаясь расположить их по порядку. Вся моя жизнь – на карточках, под ногами! Когда мы расчленили всю книгу, я поняла, что мне придется так же разложить по сценам и всю мою жизнь. Другой вопрос, удастся ли мне вновь сложить рассыпавшиеся осколки.
В середине второй недели моего пребывания в Калифорнии Бритт исчезла. Ни ее секретарша, ни домработница, ни даже бывший муж понятия не имели, где она может быть. Я прождала ее целый день, и когда поняла, что кроме меня никто не волнуется, – оказывается, такое часто случалось: она уходила и возвращалась, и каждый раз с новым кавалером, – я тоже решила отдохнуть. Я отправилась в Беркли навестить подругу по колледжу и во время полета с восхищением рассматривала в иллюминатор необыкновенные очертания гор. Я как-то по-идиотски уютно ощущала себя в воздухе. В целом мире. И – чего со мной никогда прежде не случалось – я совершенно не думала о Беннете. Его больше не существовало для меня; прошла и депрессия, и мне казалось, что начинается новая жизнь.
Вернувшись в Беверли-Хиллз, я вновь поинтересовалась, где Бритт, и поскольку она пока не объявилась, решила продолжить отпуск и сделать еще кое-какие дела.
Я взяла напрокат машину и поехала в Диснейленд, но по дороге свернула на Малибу и там долго стояла на морском пляже, размышляя о жизни и пытаясь проверить на себе пророческую силу волн.
Океан играл всеми цветами радуги: он отливал пурпуром, зеленью и лазурью, а ветер колыхал его блестевшую на солнце поверхность. Воздух был так чист, что горизонт казался бритвенным острием, а океан вздымался и опускался, вздымался и опускался, подчиняясь какой-то известной только ему, таинственной и загадочной силе.
Я стояла на песчаной кромке, оставленной приливом, и ждала, что расплывчатые губы волн предскажут мне судьбу. Я загадала: если волны коснутся моих ног, мне в конце концов удастся порвать с Беннетом.
Так я стояли и тщетно ждала, когда же наконец волны докатятся до моей жаждущей пророчества плоти, а в груди нарастало отчаяние. Прокатилась уже тысяча волн, а я все стояла, стараясь не показывать морю, как жестоко оно обмануло меня. И вот – свершилось! Сверкающая сине-голубая волна, пеной разбившись у ног, докатилась-таки до моих томящихся в ожидании пальцев, лодыжек, коленей и икр. Я чувствовала, как оседает под ногами влажный песок, я ощущала ужас и – радость: море только что освятило мой с Беннетом разрыв.
Во второй половине дня я была приглашена в гости к известному американскому писателю, который последние годы находился в эмиграции в Париже, но на склоне лет решил, подобно многим другим представителям богемы, вновь обрести буржуазный комфорт на берегу Тихого океана. Своей подпольной известностью Курт Хаммер был обязан зачитанным до дыр немногочисленным экземплярам считавшихся порнографическими книг, которые нелегально пересекали границу в те дни, когда о проблемах секса не принято было говорить вслух. Теперь секс был на книжном рынке в большом почете, цензура, объявлявшая его прежде чуть ли не новоявленным маркизом де Садом, отменена, и гонорары его стали падать, а сам он на фоне «новой волны» казался романтиком, человеком, влюбленным в любовь, но еще больше влюбленным в слова.
Ныне восьмидесятисемилетний старик, он редко вставал с постели, где понемножку писал, спал и развлекал беседой своих последователей. Они стекались к нему со всего света, а если кто-то из них на встречу не спешил, он сам приглашал их – в длинных письмах на особой, изготовленной специально по его заказу желтоватой бумаге. Лежа в постели, он держал связь с целым миром! Он писал размашисто, с сильным наклоном – его почерк был так непохож на мой! – и ему ничего не стоило сочинять по двадцать посланий в день. Когда я посетила его, он попросил меня отправить целых двадцать два. Его адресаты жили в Швеции, Японии, Франции, Югославии и даже на Ближнем Востоке. Женское движение обвинило его в мужском шовинизме, и это задело и заинтриговало его. Он стал переписываться с феминистскими организациями всего мира и при каждом удобном случае повторял, что женщины во всех отношениях выше мужчин. «Если мужчина живет на свете столько, сколько я, он неизбежно должен прийти к этой мысли», – частенько говаривал он.
Глядя на этого забавного человечка, чем-то напоминающего гнома из сказки, с веснушчатой лысиной и хитрой улыбкой ребенка, который только что очень весело и смешно напроказил, было трудно представить себе, что когда-то он считался певцом сексуальности и монстром разврата.
– Все считают меня грязным старым развратником, – сказал мне Курт с озорной ноткой в голосе; акцент все еще выдавал в нем уроженца Бруклина. – Вы не боитесь присесть ко мне на кровать?
Я прыснула со смеху. Мне он казался совершенно безобидным.
– Что бы я ни сказала, вы все равно обидитесь.
– Я вышеобид. Мне нравится жизнь. Каждое утро, проснувшись, я говорю себе: «Ну, как? Жив еще?» А иногда чувствую себя так хреново, что кажется, будто я уже мертв. Единственное, о чем я молю Всевышнего, – это чтобы на том свете мне бы жилось так же интересно, как здесь. Мне глубоко неинтереснанирвана, нирвана – это смертная тоска. Да просто хужене придумаешь. Я хочу крайностей: добра и зла, дерьма и – Шопена. Кстати, вы любите Шопена?
Я кивнула.
– Лично я в Шопена влюблен. Никто так не трогает меня, как Шопен. Ни одна моя книга, – я повторяю, ни одна, – не стоит одной его прелюдии. И это истина.
Я провела с Куртом целый день, беседуя о его творчестве и о моем, о феминизме, поэзии, моем замужестве, его браках. У него был тот напряженный интерес к молодежи, который возникает только тогда, когда писатель уже достиг недосягаемых высот, труд его жизни завершен и он твердо знает, что литература принадлежит всем. Я рассказала, как болезненно переживаю каждый злобный выпад газетчиков против меня, и он меня совершенно за это разбранил.
– Чтобы я никогда больше не слыхал таких слов! – закричал он. – Да знаете ли вы, что писали в свое время о Уитмене?
– Нет, – ответила я.
– «Свинья, роющаяся в отбросах». И это в рецензии на «Листья травы». Вы читали «Листья травы»?
– Да. Мне нравится эта книга.
– А об этой рецензии не доводилось слыхать?
– Нет, – призналась я.
– Больше слова «болезненно» при мне не произносите! Не стоит расходовать боль на жалких газетных писак. И вообще не нахожу здесь причин для страданий. В жизни важно не то, сколько страдаешь, а сколько радуешься. Боль, страдание испытывает каждый дурак. Жизнь вообще дает нам много поводов и предлогов покончить с собой. Но я вам скажу: когда тебе восемьдесят семь и ты редко встаешь, единственное, что болезненно переживаешь, так это то, что слишком часто в жизни переживал по пустякам, из страха поступался принципами, подпускал к себе непрошеных советчиков и позволял всяким подонкам мешать тебе жить. Остерегайтесь людей смерти, вы понимаете, что я имею в виду. То есть тех, кто сам жаждет умереть и нас всех за собой тащит. Надо держаться подальше от таких. Научитесь их избегать – все будет хорошо. То же самое касается творчества: никогда не слушайте этих людей. Сами они не способны к созиданию, а могут только разрушать и затыкать всем рот. И себе, кстати, тоже – некоторое время спустя. Вы им нужны – иначе им не о чем будет писать, – а они вам – нет! Понимаете, что я хочу сказать? Чувствуете, почему я так терпеть не могу это словечко – « болезненно»?
Из окна спальни видно, как океан готовится проглотить солнце. А в Нью-Йорке уже ночь – если где-то еще существует Нью-Йорк, в чем я лично теперь начала сомневаться.
Откуда пошел этот миф, думала я, возвращаясь в Беверли-Хиллз по Пасифик-коуст хайвей (мне предстоял прием, который устраивали в мою честь друзья), что образованность и интеллект исчезают, стоит лишь покинуть пределы Нью-Йорка? На всем свете, наверное, не найдется другого такого патриота Нью-Йорка, как я, человека, который всю жизнь прожил бы на одном месте в одном и том же районе, и оттого мне как-то по-особому весело было сознавать, что и за Скалистыми горами существуют интеллектуальная жизнь. Я думала о разговоре с Куртом: он показал мне, что и в восемьдесят семь можно чувствовать себя нормально, если мало о чем в жизни жалеть.
Конечно, придут всякие болезни: артрит, атеросклероз, – но дух твой не постигнет безвременная кончина. Впервые я представила себя восьмидесятисемилетней (очень смутно, но все-таки представила). Когда-нибудь я стану ужасной старухой! И меня будут окружать ученики, последователи и – чем черт не шутит! – даже внуки. Моя жизнь, еще месяц назад казавшаяся окончательно потерянной, на самом деле только начиналась! Что значат мои тридцать два в сравнении с восьмьюдесятью семью! И что мне пришло в голову затевать с нимразговор о боли и страдании? Я пришла в мир помимо своей воли, но сознательно в нем остаюсь, и никто не сможет выбить меня из седла, пока я сама не сочту, что для этого настала пора.
Я припарковала машину и сломя голову кинулась в номер: мне не терпелось поскорее кое-что записать. Я распахнула дверь, скинула туфли, забралась с ногами на кровать и, радостно хихикая про себя, быстро набросала в подаренной мне Джинни тетрадке:
Как спасти себе жизнь
Афоризмы и изречения Изадоры Винг
(навеянные духом времени)
«Беру ручку и в дорогу!»
1. Не признавай за собой вины без достаточных на то причин.
2. Не делай из страдания культа.
3. Живи настоящим (или, по крайней мере, ближайшим будущим).
4. Всегда делай то, чего больше всего боишься: храбрость приходит со временем, так же, как вкус к черной икре.
5. Доверяй радости.
6. Если на тебя устремлен дурной глаз, отвернись.