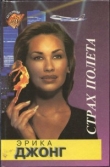Текст книги "Как спасти свою жизнь"
Автор книги: Эрика Джонг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
– Вы часто встречались?
– Не помню.
– Как это можно не помнить?
– Не помню, и все.
Я вспоминаю своих любовников (как-то так получилось, что их обоих зовут Джеффри); казалось бы, они для меня совершенно чужие, посторонние люди, но и то я помню все до мельчайших подробностей: наши встречи, совместные трапезы, да и вообще каждое слово.
– А как она в постели? Ничего?
– Я не собираюсь вдаваться в подробность.
– Так ничего или как?
Беннет колеблется. Он сам выпустил джинна из бутылки, а теперь не может справиться с ним. Он бы и рад вернуть все назад, да поздно. Надо как-то выкручиваться.
– Мне кажется, она не испытывала оргазма. Она сильно стонала и извивалась, но все это было только для виду.
Не испытывала оргазма. Узнаю голос доктора Герцеля У. Стейнгессера, как будто он спрятался где-то здесь и потихоньку подсказывает.
– Откуда ты знаешь?
– Ну, я, конечно, не поручусь…
– Неужели тебя это совершенно не волновало?
– Изадора, ну сама посуди, ведь не все женщины такие, как ты. Некоторые получают большое удовольствие от секса и безоргазма. Им просто нравится половой контакт, нравится, чтобы их трогали, гладили…
Язвительно:
– Ну, тогда расскажи мне и о них.
– Да больше никого и не было.
– Так я тебе и поверила!
– Клянусь тебе. Только Пенни. Мне казалось, что я умираю, а она спасла мне жизнь. Мне нужно было хотя бы выговориться. А с тобой я тогда совсем не мог говорить.
– Спасла тебе жизнь? Вот это да! Да мы тогда только год как поженились. Почему же ты не ушел от меня, если ты так мучился? Мне тоже было плохо. Да это было бы просто счастье!
– Я сомневался. Ты была такая милая, такая домашняя. Ты могла кончить, а она – нет. Моя тяга к ней – просто результат загнанного внутрь эдипова комплекса…
– Опять это слово.
Беннет огрызается:
– Послушай, в конце концов, тебе интересно или нет?
– Интересно, интересно.
– У нее было шестеро детей – как у моей матери – и муж, которого она ненавидела. Я видел в ней страдания Богородицы, мать, которую я мог бы спасти.
– Мне послышалось, ты сказал, что это она тебя спасла.
– Взаимно.
– Звучит красиво. В таком случае тебе надо было бы на ней жениться.
– Нет.
– Почему? Между вами возникло такое взаимопонимание. Я о таком не могла и мечтать.
В чем-то Беннет со мной согласен. Он разрывается между искренним раскаянием и чувством собственной исключительности.
– Она говорила, что доверила бы мне своих детей. Поначалу мне это льстило, но постепенно начало раздражать. Как-то не по-матерински все это звучало…
– И тебе не нужна была фригидная сука-гойка с шестерыми детьми…
– Можешь продолжать в том же духе, если хочешь, чтобы я замолчал. И ты больше слова от меня не дождешься.
– А что я такого сказала? Ну и пожалуйста, можешь молчать. Все эти восемь лет ты только и делаешь, что молчишь.
Некоторое время мы едем молча. Слезы застилают мне глаза, и от этого очертания встречных фар кажутся размытыми. Беннет распахнул ящик Пандоры, который слишком долго оставался закрытым. Теперь он уже не может молчать.
– Меня кое-что еще в ней раздражало. Она, например, называла мужчин «существами». О своих бывших любовниках она говорила: «Эти существа».
Мне больно, и я судорожно пытаюсь сообразить, чем бы мне тоже уесть его.
– А тебе не приходило в голову, что ты был не один такой в Гейдельберге, с кем она крутила?
– Я думал об этом. Но ты-то откуда знаешь?
– Она хвасталась нам с Лаурой, что у нее была связь с Айхеном-виолончелистом и парой ребят с военной базы, где Робби служил.
Но Беннета голыми руками не возьмешь. Он себе спокойно продолжает:
– Ну, что ж, мне было достаточно сознания того, что я для нее единственный и неповторимый.
Мне хочется его позлить. Я говорю:
– А ты был не единственный.
– Я думал, что единственный. А это самое главное. Мне казалось, что я ей очень нравлюсь. Ее заинтересовала моя работа с детьми, и она занялась психоанализом.
– Как здорово! И что же ты сделал? Трахнул ее в детской клинике? Или на кушетке у себя в кабинете?
Я чувствую, что порю чушь. Ревность – штука коварная. Слишком низко нужно пасть, чтобы в конце концов одержать верх. Как я ненавижу себя за слова, что срываются с моих губ.
– Мы встречались по вечерам, когда ты преподавала. В твоем кабинете.
– Кажется, мне послышалось, что ты все позабыл…
– Я боялся тебя обидеть.
– И правильно боялся.
Ну на самом деле. Трахался с бабой, когда я работаю! – это уж ни в какие ворота не лезет. Мой пунктик. Потребность преподавать, делать карьеру, зарабатывать так, чтобы ни от кого не зависеть. И с кем! – с гарнизонной шлюхой, у которой и среднего образования-то нет, нет работы, а день проходит между офицерской лавкой и бесчисленными любовниками. Почему бесчисленными? Но я уже почти верила в эту спасительную ложь, хотя не знала ничего наверняка. Это было так на нее похоже. И в моем кабинете!
– Ну так вот, – продолжал Беннет, – когда я приехал в Германию, я ударился в панику. Идиотская была затея – ехать туда, да еще на три года. Но я боялся Вьетнама; к тому же я надеялся, что справлюсь с этим, переборю свой страх перед армией. Увы, я ошибался. Я бесился, пытался порвать с тобой – а ты была вся в своих делах: писала, преподавала, по-своему психовала из-за Германии… Пенни была настоящая гойка, такая – до мозга костей – американка. Жена армейского офицера… Она казалась мне истинной арийкой… может быть, это звучит глупо, – она была мать, и такая американская, как яблочный пирог…
– Как это оригинально!
– Изадора! Я пытаюсь тебе объяснить… Я был напуган. Мне нужна была нееврейка, холодная, уравновешенная женщина. Но через некоторое время я понял, что на самом деле хотел чего-то совершенно иного. Это было просто ответной реакцией на то, что в армии я чувствовал себя, как в западне. Это напомнило мне детство, когда я оказался в Гонконге – и не знаю ни слова по-китайски. Ты никогда не воспринимала это всерьез, а Пенни приняла близко к сердцу. У нее никогда раньше не было восточного мужчины – и я был для нее чем-то экзотичным. С ней я чувствовал себя каким-то особенным. Правда, я не шучу.
Я тронута. Я знаю, что Беннет говорит правду, что он старается быть честным. Я должна бы ему посочувствовать, но он меня так оскорбил. Все эти три года в Гейдельберге мне было страшно одиноко, но я всегда пресекала любые попытки других мужчин приударить за мной, хотя, может быть, это бы мне помогло. Теперь я чувствую себя законченной идиоткой. Столько никому не нужных страданий. Чувство вины из-за каких-то моих жалких фантазий. А он-то – он на самом деле мне изменял. Вечерами, когда я преподавала. И в моем кабинете! Этот почти святой Леонард Вулф, который никогда не запрещал мне работать, – трахался с бабой в моем кабинете!
– А мои сочинения вы читали?
– Что?
– Когда вы трахались у меня в кабинете, вы читали мои рукописи?
– Что за дикая мысль?
– Вовсе нет. Это было бы очень кстати – добраться и до моих произведений – прозы, стихов…
Некоторое время Беннет молчит. Потом изрекает:
– Ты чушь какую-то городишь. Пенни восхищалась тобой. Она меня к тебе ревновала. Без конца говорила о тебе, завидовала твоему таланту, образованию; была просто влюблена в твои рассказы, стихи…
– Я свои рассказы, между прочим, никогда не публиковала. Тебе это известно? Как же она их могла прочитать, если ты их ей не показывал? Восхитительная сцена: после греховных утех они читают вслух мои рассказы и потягивают ликер!
– Это было совсем не так. Нам обоим нравились твои рассказы. Я всегда говорил, что их нужно опубликовать.
– Вам обоим! Вам обоим! Да если хочешь знать, мне противна сама мысль о том, что какая-то шлюха упражняется в литературной критике на моих первых, еще слабых рассказах – после того, как переспит с тобой. Я не хотела их печатать. Они мне всегда казались подражательными! Как раз для вас с Пенни.
Описывать остальное в деталях не имеет смысла. Под конец я уже так орала на Беннета, что дребезжали стекла. Я кричала, мол, хорошо, что он наконец хоть кого-то полюбил, – это все-таки лучше, чем вообще никого. Я считала, что он патологически неспособен любить, и его нынешнее признание – как ни больно мне было его услышать – лучше, чем такое мнение о нем. Успокоилась я только тогда, когда у меня заболело горло, из глаз потекли слезы и я совершенно забыла, из-за чего вообще весь этот крик.
Очень глупо с моей стороны было настаивать на том, чтобы он рассказал мне всю правду. Я была справедливо наказана за собственное любопытство. А все-таки Беннет умеет выбрать момент! Почему бы ему не сказать мне об этом раньше: может быть, у нас появилось бы хоть что-то общее. Он бы мог мне все это сообщить после моих европейских приключений, или прочитав уже завершенную рукопись «Откровений Кандиды», или тогда, когда я сама умоляла его об этом. Но нет. Он специально приберегал эту историю. И выложил ее именно теперь, когда я почти готова родить от него ребенка, когда мне, как никогда, нужна его поддержка, когда нежданно-негаданно ко мне пришел успех, – выложил нарочно, чтобы поставить меня на место, напомнив мне, как нуждалась я в нем тогда, какой я тогда была беспомощной, одинокой, нелюбимой.
– Так ты был с Пенни, когда я обмирала от страха в Вудстоке?
– Я просто заехал проститься.
– Но зачем же ты так долго издевался надо мной, приписывая все «моей фантазии»? Ведь я была права! Как это жестоко с твоей стороны – все мне рассказать!
Беннету этого не понять.
– Я как-то не подумал, что это имеет отношение и к тебе. Ведь это было моеличное дело.
– Которое можно обсуждать только со своим аналитиком?
Молчание.
– Да?
– Да, Изадора, это было моеличное дело.
– Дерьмо! Уж позволь мне не согласиться. Семь лет разделяла нас эта чудовищная ложь, поэтому у меня есть все основания полагать, что это касается нас обоих. Мне наплевать, что думает об этом доктор Стейнгессер. Была связь, которую ты скрывал, – это адюльтер, налицо все его признаки. Ты пошел к своему аналитику, я – к своему, и мы продолжали жить – каждый своей отдельной жизнью, все больше и больше отдаляясь друг от друга. Гнусное дело…
– Но я просто не хотел причинять тебе боль.
– Так ты причинил ее сейчас – в самый неподходящий момент.
– Теперь ты сильнее. Ты выдержишь.
Дома мы предались любви с такой страстью, которой не испытывали уже много лет.
С тех пор в доме как будто поселился кто-то третий…
Кто же в любовном треугольнике предатель, кто – невидимый соперник, а кто – оскорбленный и униженный влюбленный? Ты, только ты, и никто, кроме тебя.
С тех пор в нашем доме поселился новый жилец. Я с Пенни ложилась, с ней я просыпалась. Она снилась мне по ночам. В памяти вдруг всплывали вещи, о которых я напрочь забыла за эти семь лет, например, трусики Пенни – на вешалке – в убогой ванне убогой офицерской квартиры в Гейдельберге. Сама Пенни – в гостиной той же квартиры; она откидывает с веснушчатого лба копну медно-рыжих волос и, похотливо улыбаясь, говорит – сначала мужу, потом мне: «Когда у тебя шестеро детей, мужику надо здорово потрудиться, чтобы тебя ублажить…» Пенни – у меня в больнице. Я лежу с переломанной ногой, а она спрашивает меня, что она может сделать для Беннета. А вот и я – улыбаюсь ее предупредительности и благодарю, благодарю, благодарю.
Я окунулась в прошлое. Время вернулось назад. Я опять в армии, на тоскливой военной базе, где вечно идет дождь, – на втором году скучной и полной скрытых слез семейной жизни.
Образ Пенни преследует меня: ее вздернутый нос, выгоревшие глаза, веснушки в духе Нормана Рокуэлла. Я не могу ни на чем сосредоточиться. Сажусь утром за стол, но вместо работы вспоминаю нашу квартиру в Гейдельберге и мой маленький кабинет со стенами, выкрашенными серой краской, – вот член Беннета погружается в ее горящее желанием лоно, а из шкафа на них глядят рукописи моих ранних книг…
Меня страшно волнуют подробности. Как долго длились их встречи? Как часто они встречались? Сколько раз подряд и в каких позах занимались они любовью? Они стонали? вскрикивали? шептали друг другу ласковые слова? Обсуждали потом нас, своих несчастных супругов? Делились впечатлениями о наших сексуальных причудах? Или помирали со смеху при мысли о том, как ловко обводят нас вокруг пальца? Дарили они друг другу подарки, обменивались талисманами, этими символами любви?
Но больше всего я концентрируюсь на половом акте. Вновь и вновь, словно наяву, я вижу, как член Беннета погружается в ее влагалище. От этих видений я с криком просыпаюсь среди ночи, и тогда Беннет успокаивает меня – так нежно, как только умеет.
Теперь, когда жизнь моя окончательно зашла в тупик, не оставив мне ничего, кроме ревности, Беннет вдруг стал необычайно заботлив. Наконец-то ему удалось восстановить свое центральное место в доме. Теперь у него нет соперников – отошли на задний план мои любовники, моя карьера, мои друзья.
Беннет не знал, что я изредка изменяю ему. По крайней мере до тех пор, пока не рассказал мне про Пенни. Тогда с горя я и выложила ему все начистоту. А что еще мне оставалось делать?
Первое воскресенье после Вудстока: жизнь моя делится теперь на до и после Вудстока. Мы с Беннетом дома. Всю ночь мы занимались любовью – словно воры, не знающие друг друга по именам. Потом мне опять снилась Пенни, и я опять проснулась от собственного крика. Утром Беннет приносит мне завтрак в постель: чудесный омлет с сыром и cafe au lait. Он улыбается самодовольной улыбкой человека, растоптавшего достоинство жены, который теперь может позволить себе быть благородным. Я только что проснулась и вот уже ем омлет, обильно поливая его слезами. Восемь лет слез! Господи, как это много!
– Мне так жаль, что я обидел тебя, – говорит Беннет.
Я давлюсь омлетом и слезами.
– Правда, мне действительно жаль.
Я вилкой ковыряю омлет.
Медного цвета чеддер – волосы Пенни. Голубизна фарфора – это ее глаза. Белизна салфетки – ее маленькое бикини.
– А у тебя еще с кем-нибудь было? – спрашиваю я и чувствую, что не хочу знать ответ.
– Только раз, – самодовольно отвечает Беннет, присаживаясь на кровать.
– Но вчера ты мне ничего об этом не сказал!
– Когда ты полностью ушла в свои книги, мне показалось, что я не нужен тебе. Я чувствовал себя лишним, а ты даже не пыталась утешить меня.
– И кто же утешил тебя в конце концов? – спрашиваю я с тоской.
– Робин Мак-Гро. – Так звали медсестру из его клиники.
Неожиданно я вновь погружаюсь в прошлое. Робин и Пенни. Где-то в подсознании я догадывалась обо всем. Я помню, как Робин каталась с нами на лыжах в Вермонте. Однажды, кода мы сидели в гостиничном номере, я посмотрела на Робин, отметила про себя наше с ней сходство, и мгновенная вспышка вдруг озарила меня – она спит с моим мужем! Вот почему она так смотрит на него своими печальными голубыми глазами. Ее голубые глаза, глаза Пенни, мои глаза. Три женщины, отраженные друг в друге.
– У тебя пристрастие к определенному типу, – огрызаюсь я.
– Робин боится мужчин, – говорит Беннет, как о чем-то само собой разумеющемся. – У нее вагинизм.
– Что это? – спрашиваю я.
– Спазм влагалища, в результате чего половой акт причиняет боль.
Меня поражает его наглость. Сначала он трахается с бабой, а потом ставит ей диагноз. Не испытывала оргазма, вагинизм.Я начинаю сознавать, как страстно он ненавидит женщин. Во мне закипает гнев. «Да он просто чудовище!» – думаю я. И почему все эти годы именно я испытывала угрызения совести?
– О чем ты думаешь? – спрашивает он.
– Какая же ты все-таки сволочь!
– Я?
Он не верит своим ушам. Он настолько убедил себя в том, что его несчастное детство сделало его вечной жертвой… Он не может представить себе, как это кто-то считает его сволочью!
– Зачем же ты путался с ними, если ты их так презираешь?
– Почему презираю?
– Неспособность к оргазму, вагинизм, – говорю я с издевкой.
– Это не презрение, а просто констатация факта.
– А мне кажется, это оскорбительно.
– Однажды Робин пришла ко мне в слезах, – продолжает Беннет. – Она была ужасно расстроена, что какой-то пациент наорал на нее, и мне пришлось ее утешать. Это случилось, когда ты была так погружена в свои проблемы. Я стал встречаться с ней каждые две недели. Мне кажется, я всегда чувствовал, что она неравнодушна ко мне. Я, помню, как-то даже говорил об этом доктору Стейнгессеру, еще задолго до того. «Почему вас удивляет, что вы можете нравиться симпатичной женщине?» – сказал он мне тогда…
«Симпатичная женщина», – повторяю я про себя, словно рассматривая это выражение с разных сторон. Интересно, почему это психоаналитики так любят Джеймса с его старомодным лексиконом? Почему бы им вместе с нами, грешными, не окунуться в жизнь XX столетия?
– Я был польщен, – говорит Беннет. – Она была такая привлекательная, к тому же по уши влюблена в меня, а ты тогда так напряженно работала…
– Какое гениальное наблюдение! – Я даже не пытаюсь скрыть своего негодования, и оно выплескивается на поверхность, подобно бурлящей лаве. Так мой несчастный страдалец-муж выражал протест против успеха жены: трахал Пенни в Гейдельберге, Робин – в Нью-Йорке.
– Я ведь тоже человек, – говорит Беннет, но это звучит неубедительно.
– А всегда строил из себя такого святошу!
– Неужели?
– Да, да, да, черт тебя побери! Это из-за тебя меня не покидало чувство вины – как будто только у меня были сексуальные фантазии. Я чувствовала себя маленькой провинившейся девчонкой. Сам-то ты притворялся, что выше этого, что тебе, видите ли, чужды и похоть, и страсть. Это-то и бесит меня больше всего. Ты заставлял меня стыдиться самой себя, прикидывался эдаким ангелочком! Если бы ты мне об этом рассказал… или хотя бы сказал: «Не переживай так, я и сам небезгрешен.» Но ведь ты делал вид, что тебе и в голову ничего подобногоприйти не могло! Как будто яодна такая. Вместо того, чтобы меня успокоить, ты заставлял меня думать, будто я какой-то моральный урод. – Какой смысл был тебе об этом говорить? Ведь это было мое личное дело.
– Я это уже слышала. Да, тебе так было удобнее. Ты просто не хотел, чтобы я тоже чувствовала себя в этом отношении свободной, чтобы у меня тоже были интрижки. Но – знаешь что – у меня они все равно были… – При мысли о том, что я собираюсь рассказать, у меня начинает кружиться голова, но я уже не могу остановиться. От меня уже ничего не зависит, слова сами срываются с губ. Первый закон ревности по Ньютону.
– С кем это?
– Во-первых, с Джеффри Раднером, потом с Джеффри Робертсом.
– С Джеффри Раднером? – Беннет явно уязвлен. Джеффри, с которым он вместе работал, играл в теннис… Я в восторге: одно очко мне все-таки удалось отыграть.
– Из-за меня он частенько переносил дни приема – тебе и в голову бы такое не пришло.
Беннет, чувствуется, совсем пал духом:
– Я думал, эта английская сволочь был последним… Кажется, когда я вез тебя домой, ты обещала…
– Ничего я не обещала.
– Мне казалось, что психоанализ…
– По-твоему, психоанализ – это панацея от всех бед… Лекарство против любви, беспокойства, против любых сексуальных проблем… Кстати, мы с Джеффри назначали свидания после сеансов психоанализа. Так это и началось. Я шла по Парк-авеню от дома № 940, а он – от № 945. Где-то посередине мы встречались и шли выпить кофе. А иногда, чаще всего после обеда в пятницу, мы занимались любовью у него в кабинете.
Я говорю это так спокойно, словно мне все давалось легко, словно не было ни страха, ни дурных предчувствий… Нет, все было гораздо сложнее. Эта дурацкая история стоила мне стольких нервов, я уже не говорю о вечных муках совести. Хорошо, что сейчас она пришлась как нельзя более кстати, и, главное, я извлекла ее на свет неожиданно – так фокусник вытаскивает зайца из совершенно пустой шляпы. Эта связь доставила мне мало радости, намного меньше, чем то чувство торжества, которое я испытывала сейчас, в эту минуту. Однако Беннету в этом признаваться не стоило. Напротив, нужно было все максимально приукрасить.
– Джеффри оказался прекрасным любовником. Он, если пользоваться твоей терминологией, как никто другой, способен получить удовольствие. Иногда он откалывал такие номера – ты бы никогда до такого не додумался. Например, слизывал яблочный джем у меня с одного места…
– Прямо в кабинете? На кушетке? – В голосе Беннета теперь слышится презрение. – Так значит, вы нарушали предписания своих аналитиков, раз занимались этим прямо на кушетке…
Неожиданно я вспоминаю, что до кушетки-то мы как раз и не добрались – Джеффри был слишком суеверен, – но я никогда не признаюсь в этом, не доставлю Беннету такого удовольствия.
– Лично мне понравилось, – говорю я с наигранной веселостью. – Попробуй, не пожалеешь.
– Я уже пробовал, – парирует Беннет. – С Робин.
– Ну это ты, конечно, нарушением предписаний не называешь.
– Нет, это называется именно так. Потом я часами беседовал об этом с доктором Стейнгессером.
– Что-то вроде отпущения грехов. Сначала грешишь, потом – каешься.
– Как хочешь называй, – отвечает Беннет. – Я, по крайней мере, твоих подругне трогал…
– Тебе не кажется, что со стороны Джеффри было очень мило ради меня отменять прием. В высшей степени благородный жест – особенно для психиатра.
Лицо Беннета выражает праведный гнев, глаза превратились в щелочки – признак непреклонности. Жаль, что мне не о чем больше рассказать. Обидно, что я не перетрахалась со всей их институтской группой, со всеми сослуживцами, со всеми врачами в Нью-Йорке вообще. Приходится собирать с миру по нитке:
– Джеффри Робертс был от меня без ума. А потом был еще Боб Лорриллард – это когда мы вместе готовили в Чикаго программу для телевидения, и Амос Костан, израильский поэт…
Сказать по правде, тут я хватила через край. Мы с Амосом обнялись один раз где-то на кухне, и больше между нами ничего не было. Но я знаю, что мои слова способны окончательно вывести Беннета из себя. Сама я чувствую себя маленькой девочкой, беззащитным ребенком, брошенным родителями, которые заперлись у себя и, кажется, замышляют что-то против него. Я готова на все, лишь бы заставить Беннета почувствовать себя так же. Но его голыми руками не возьмешь.
– Я так и думал, – говорит он, переходя к обороне, – и я готов тебя простить.
– Меня? Простить меня? А что если мне не нужно твое прощение? Что если я хочу иметь право на собственный протест?
– Я, конечно, понимаю, что люди искусства все немного неуравновешенные, и я понимаю, что ты…
Это еще больше выводит меня из себя.
– Не смей говорить со мной таким тоном, черт тебя побери! У меня было всего две какие-то жалкие интрижки, а у тебя – настоящий роман, из-за которого ты чуть не ушел от меня. И кончай пороть чушь про людей искусства! Это оскорбительно! Унизительно, в конце концов! Ты снова в своем амплуа, все делаешь мне одолжение! Ты готов вновь принять меня в свое лоно. Нет уж, спасибо! Неужели ты не видишь, что с тобой я просто умираю от тоски? Неужели ты ничего не замечаешь?
Тут я принимаюсь рыдать. Дамба не выдерживает, и восемь лет слез прорываются наружу. Откуда они только берутся, эти слезы?
Когда я начинаю захлебываться в соплях, Беннет, наконец, принимается успокаивать меня. Все возвращается на круги своя. И я бросаюсь ему на шею. Но внутри у меня все клокочет. Он обнимает меня – так краб захватывает свою добычу, – а я просто сгораю от злости. Семейная жизнь подходит к концу.