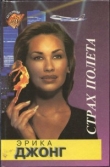Текст книги "Как спасти свою жизнь"
Автор книги: Эрика Джонг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
А тогда я влюбилась в его письма. Он так хорошо писал, что казался мне красавцем, – ведь иногда и дикторы радио кажутся нам красивыми только потому, что нам нравятся их голоса. Конечно же, перед его отъездом в Бразилию я видела его, видела его веснушки, его голубые бусинки-глаза под короткими белобрысыми ресницами. Но письма его были так хороши, что я забыла его лицо. Два года длился наш заочный роман в письмах. Романтическая история в духе Ричардсона, почти восемнадцатый век. А потом он вернулся. Увидев вновь его свиное рыльце, я не смогла его полюбить. О, мне было так неудобно. И очень стыдно. С моей стороны это было крайне недемократично. Но разве бывает демократичная любовь? К сожалению, в нашем несовершенном мире существует полное несовпадение взглядов. И невозможно предсказать, что станет причиной любви: чуть-чуть кривая улыбка, слегка удлиненные передние зубы или то чувство, которое лавиной нарастает в тебе, когда щеку твою нежно щекочут волосы на его широкой груди. Мне очень жаль. Это придумано не мной. Я обязательно исправлюсь – в следующий раз.
И все-таки я старалась. «Индустриальные рабочие мира» не уступают человека без борьбы. Год за годом я боролась с собой, заставляя себя полюбить то, что просто невозможно полюбить. Я знаю, все несовершенство мира – это моя вина. Но мне так хотелось бы, чтобы мир был справедлив. Я решила сделать его хоть чуточку справедливее для Джеффри. Каждое утро в одиннадцать он мне звонил. И мы долго беседовали о литературе. Мы оба были так одиноки: у него не было никаких точек соприкосновения с женой, а я не могла поделиться с мужем своими переживаниями. Возможно, что мы спасли друг другу жизнь, висевшую на ниточке этих телефонных бесед. Они связывали нас с внешним миром. Я – дома – писала романы и стихи. Он – в конторе – байку о креме для рук и сонеты о лосьоне для загара. Как минимум раз в неделю мы вместе обедали, напиваясь допьяна и от души веселясь, объедаясь лакомствами и обмениваясь книгами, рукописями, открытками, сувенирами и тайными намеками. Иногда на горизонте возникало уродливое изголовье кровати. Проходило полгода (я подозреваю, что в глубине души Джеффри боялся меня), и тогда оно возникало вновь. Мы встречались у меня, обедали, а потом угощались друг другом на десерт – в моем кабинете, на старой обитой велюром лежанке, принадлежавшей еще моим деду с бабкой. После этого Джеффри так довольно урчал, будто я была кружкой пива. И мне требовалось еще полгода, чтобы снова собраться с силами.
Так развивался наш «роман». Шесть месяцев писем, телефонных звонков и совместных обедов за каждый половой акт или обед с «обнаженной натурой». И каждый раз после близости с ним я клялась себе: «Никогда!» В нем не было даже элементарной физической привлекательности. Но проходили месяцы, и я забывала, как он безобразен в постели, а через полгода уже готова была попробовать вновь. И тогда снова все вспоминала.
– Мы толком-то ничего так и не успели, – говорил Джеффри в такие дни. Он обдумывал разные приемы, верил в радости секса, возбуждающие ласки и прочую ерунду.
Я тоже размышляла, но совсем о другом. «Больше никогда!» – в очередной раз повторяла я. Но я любила его. Это был мой друг.
Я считала его страшно забавным и талантливым, любящим и остроумным, очаровательным, образованным, умеющим замечательно анализировать мои стихи. Поэтому я каждый раз убеждала себя, что нужно попробовать еще – в самый последний раз, – и этот самый последний раз был так же ужасен, как и предыдущий. Вот как обстояли дела с моим двойным Джеффри: одну его половину я любила от всей души, но физическая близость с ней была мне противна; я обожала заниматься любовью с другой половиной, но так и не смогла ее полюбить. Душевный разлад, думала я. Деление людей на любовников и друзей. Как всегда, я проклинала себя за неспособность свести их воедино.
Восемь вечера. Я застаю Джеффри за наброском сценария телерекламы жидкости для загара.
– Загар, загар, – говорю я со смехом, появляясь в дверях, – загорев, ты чувствуешь себя негром. Будьте не просто загорелыми – будьте Черными! Пользуйтесь преимуществами равных возможностей, нанимаясь на службу, чтобы вам не перебежали дорогу равные вам. Или не помешала ваша молодость.
– Ты явно хочешь, чтобы меня уволили, – говорит Джеффри и добавляет: – Привет, красотка! Ты неотразима, как всегда.
Может быть, Джеффри и некрасив, но он знает, как заставить женщину почувствовать себя красивой. А что еще нужно женщине: ощущение собственной неотразимости, немного напускной раскрепощенности – и через мгновение любой мужчина у твоих ног.
– Как дела? – спрашиваю я.
– Чтобы такое рассказать тебе про жидкость для загара, чего ты еще не знаешь о ней?
– Действительно ли для загара помогает куриный жир?
– Только еврейкам, – отвечает он.
Я сажусь в кресле и чувствую себя как дома – я у Джеффри в кабинете. Кабинеты друзей, разбросанные по Манхаттану, – это мои уголки Эдема, дом вдали от дома, места, где я могу укрыться от Беннета, от своего творчества, от самой себя.
– Как Ребекка? – спрашиваю я.
Ребекка – это жена Джеффри, урожденная баптистка, а ныне адвентистка седьмого дня и законченная шизофреничка.
– Совсем взбесилась. Она заставила меня снять картину Флэннери О'Коннор, висевшую у меня над письменным столом, потому что – ты только вообрази! – О'Коннор – это ирландское имя, а ирландцы – враги англичан, а она происходит из английской семьи. И такая логика доминирует в нашем доме. Если так и дальше пойдет, то я, наверное, скоро съеду.
– Вот здорово! И я!
Лицо Джеффри светлеет.
– Если тебе вдруг понадобится сосед…
Я чувствую внезапный укол совести за то, что в этом смысле его не люблю.
– О, Джеффри! Если бы это на самом деле могло произойти…
– Ерунда. Мы просто никогда не пробовали как следует… Я просто уверен, что только это может нас спасти. Ты все время говоришь, что уходишь от Беннета, но при этом не хочешь жить одна. А мы бы могли заботиться друг о друге – я не говорю, пожениться и все такое, – а просто посмотреть, что из этого получится. Я потрясающе готовлю, милая ты моя.
– Я знаю, – на мгновение я представляю себе нашу с Джеффри жизнь. Книжные полки, уставленные работами о творчестве Флэннери О'Коннор, ласкающий ухо стук двух пишущих машинок – на фоне Скрябина, – рыба в белом вине, закипающая на плите в огромной эмалированной кастрюле (Джеффри – большой мастер по части рыбы в белом вине), кошки с дурацкими литературными кличками: Перси Биши, Чайльд Гарольд, Франкенштейн… Но тогда мне придется заниматься с Джеффри любовью. Хотя бы иногда, просто из вежливости. Если бы меня не так волновала эта сторона жизни, я бы, наверное, и отважилась. Да, наверняка отважилась бы. С кем еще мне было бы так интересно читать вслух, возиться на кухне, бродить по книжным лавкам, путешествовать и смотреть на открывающийся из окна пейзаж, вместе смеяться, вместе пить вино? Да ни с кем, кроме Джеффри. Проклятыйсекс. Если бы можно было изгнать его из организма! Без секса было бы так легко найти человека, с которым приятно жить. Секс – это джокер, хитростью проникший в высоконравственную и добропорядочную со всех сторон карточную колоду.
– Ты же знаешь, ведь я люблю тебя, – говорит Джеффри.
Я киваю:
– Я тоже тебя люблю.
– Ты любишь совсем по-другому, не так, как я тебя.
– Чепуха.
– Конечно, для тебячепуха. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Мы слишком давно знаем друг друга, и я достаточно хорошо тебя изучил. Мисс Прозрачность. Я читаю твои мысли. Если бы я хоть отдаленно напоминал Роберта Редфорда, мы бы уже четыре года как и готовили вместе, и просыпались бы в одной постели.
Я сижу, уставившись в пол. Господи, чем это я только что занималась с Джеффри Раднером? Ведь я совершенноне люблю его. Может быть, стоит еще раз попробовать с Джеффри Робертсом? Его-то я люблю. Действительно люблю.
– Любовь, – изрекает Джеффри, – это общность ощущений двух людей. Но факт остается фактом: общность ощущений не означает, что это одинаковые ощущения. В каждой паре есть влюбленный и есть любимый, и живут они на разных полюсах. Любимый – это часто лишь стимул…
– Карсон Мак-Кьюллерз?
– Ты прочитала эту книгу?! Ты действительно прочитала одну из книг, которые я тебе дал! А я уже почти перестал надеяться.
– Послушай, – говорю я, – мне бы так хотелось, чтобы мы с тобой жили на одном полюсе.
– Мне тоже.
– Я провела ужасный уик-энд с Беннетом, и теперь мне кажется, что я действительно готова уйти от него.
– Я это уже слышал.
– Нет, я серьезно.
– И это я тоже слышал. Не понимаю, чем он тебя так к себе привязал. Ты никак не хочешь поверить, что сможешь прожить одна. Но ты не будешь одна!
Я уже думала об этом. Джеффри кажется, что трещит по швам только его собственная судьба, а жизнь другого безоблачна и не дает поводов для беспокойства. А я, например, уверена, что просто чокнусь, оставшись одна. Без Беннета я перестану существовать. Рядом с ним меня удерживает панический страх. Кроме того, я не могу взглянуть на себя, как Джеффри, – со стороны. Он видит меня красивой, разумной, уверенной в себе, с радужными перспективами, открывающимися впереди. Себе самой я кажусь воплощением нерешительности и сомнений, вместилищем маний и помешательств; я неспособна принять окончательное решение, я всегда недооценивала себя. Мое время прошло, я слишком стара, слишком дорожу своими привычками; я привыкла иметь защитника и чувствую себя в безопасности только с ним. Я бы рассмеялась в лицо любому, кто сказал бы мне, что я молодая женщина с блестящим будущим. По крайней мере – тогда. Мне нужно было стать намного старше, чтобы понять, как молода я была.
Джеффри подошел ко мне, приподнял со стула и неуклюже обнял. Я притворилась, что воспринимаю это как дружеский знак, и в ответ обняла его. А он уже начал пыхтеть, прижимаясь ко мне бедрами и умоляя, умоляя меня сказать, что он вовсе не уродлив, вовсе не несчастлив, что он не задыхается от работы, которую ненавидит, от брака, который проклинает, от всей этой жизни, которую он хотел бы сделать совсем иной. И вот я уже стою на коленях и трогаю губами его член в доказательство того, что среди всех несбывшихся надежд и неисполненных желаний есть еще на свете верная дружба.
Губы делали свое дело, но мысли мои были далеко. Господи, когда же он, наконец, кончит и можно будет вынуть изо рта этот дурацкий кляп! Я поступила, как добрый самаритянин; с тем же успехом можно было перевести слепого через дорогу или дать кому-нибудь свою кровь. Но в душе зрело чувство протеста, потому что секс – слишком мощная сила, чтобы разбазаривать его по пустякам. Я досадовала на себя за то, что была неискренна с ним, как, впрочем, и с Джеффри Раднером. Заниматься любовью из жалости ничем не лучше, чем из эгоистической прихоти. Это две стороны одной и той же фальшивой монеты. И мой поступок не становился лучше оттого, что Джеффри Робертс вздыхал, стонал, а потом долго благодарил меня. Спрашивается, за что? Разве за жалость благодарят?
– Разреши мне заплатить сегодня за обед, – сказала я, и мы отправились в «Тратторию», где навалились на пиццу и zuppа inglese. За столом мы чувствовали себя гораздо непринужденнее.
Я расплатилась с официантом и посадила Джеффри на десятичасовой поезд до Гринвича, а потом из автомата позвонила Холли.
– Господи, – отозвался сонный голос, – который час? Я только что приняла валиум.
– Можно, я зайду к тебе?
– Ну, конечно, заезжай. Я всегда рада тебе. Вообще-то обычно я на такие вопросы обижаюсь, но сегодня я слишком устала и хочу спать. Где ты находишься, черт тебя побери?
– На «Гранд-Сентрал».
– А, перекресток человеческих судеб…
– Это ты сказала, не я.
– Так, который час?
– Всего-то минут двадцать одиннадцатого.
В трубке слышится тяжкий вздох.
– Приезжай. Я заварю чай с мятой, а потом мы примем валиум еще раз.
Квартира Холли – это святилище. Вот таким должен был бы быть кабинет психоаналитика. Еще один чердак в моей жизни, на этот раз в самом начале 5-й авеню, – к нему ведет узкая темная лестница. Но когда входишь в квартиру, на тебя неожиданно обрушивается свет и откуда ни возьмись возникают простор, воздух и причудливые силуэты растений. Вечерний свет, проникающий сквозь застекленную крышу, освещает джунгли из папоротников; на бесчисленных подставках под люминисцентными лампами, которые автоматически регулирует специальное реле, растут африканские фиалки. По обе стороны посыпанной искусственным гравием дорожки, отделяющей жилое помещение от кухни, зреют и благоухают авокадо, лимоны, гардении и кумкваты. Как ей удается выращивать все это тропическое многоцветье в мрачном, закопченном Нью-Йорке, ума не приложу. Правда, подозреваю, Холли выращивает их потому, что только благодаря этому и живет. Благодаря своим растениям и картинам, которые закрывают все свободное пространство на стенах.
Как определить ее стиль? Что-то среднее между Джорджией О'Киффе и Френсисом Бэконом? Не совсем. Холли единственная в своем роде. Она умеет как-то по особому взглянуть на простые вещи, которых мы подчас даже не замечаем. Она наделяет их волшебными свойствами и заставляет нас увидеть их глазами Блейка – или самого Господа Бога. Наверное, такой же могла бы стать и я, будь у меня побольше таланта и не откажись я в двадцать лет от карьеры художника из страха, что придется конкурировать с матерью. Каждое полотно Холли – один из моих ночных кошмаров. И это поразительно. Дело в том, что все мои друзья утверждают, будто в своих стихах я выражаю их сокровенные мысли и чувства, Холли же, напротив, в каждой своей картине передает мою внутреннюю жизнь.
Холли – высокая, стройная, пышущая здоровьем женщина с копной курчавых каштановых волос и маленьким ртом, который чаще всего имеет какое-то кислое выражение. Она не полнеет, потому что стоит ей впасть в депрессию, как она просто перестает есть и худеет до тех пор, пока аналитик не начинает пугать ее тем, что положит в больницу. Она и ее растения питают друг друга живительными соками. Она и держится только за счет кислорода, чая из трав и таблеток валиума. Часто с удивительной страстностью Холли рассказывает мне, насколько идеально устроен папоротник, этот древнейший представитель растительного мира. Он сам себя кормит, сам себя удобряет, имеет автономную систему размножения и практически бессмертен. Или хотя бы какая-то его часть. Я никогда в жизни не встречала человека, который мечтал бы родиться растением, но в устах Холли эта идея звучит заманчиво.
Дверь открывается, и я попадаю в ее объятия. После долгих лет в протестантском интернате, где воспитанницам прививали чопорность и холодность, Холли только недавно научилась обниматься, поэтому обнимает всех подряд. Меня больше всех. И мне это нравится.
Над фиалками горят люминисцентные лампы, но остальное помещение погружено во мрак. Мягкие заросли папоротников тянутся к серебристому свету, льющемуся с потолка.
– Входи скорей, – говорит Холли. На ней широкий в восточном стиле халат, который она сшила сама. От нее исходит аромат сна, уюта, домашнего тепла и едва уловимый запах духов «Гардения джунглей». Я сажусь в кресло-качалку, согнав кота по кличке Симор и скинув несколько самодельных подушек.
– Откуда ты, черт возьми, взялась?
– Я обедала с Джеффри Робертсом.
– А, с этим салагой…
– Он очень милый. И такой несчастный…
– Я бы тоже была несчастной, если бы жила в Гринвиче, в населенном призраками доме с безумной женой… Господи, ведь она у него явно не в себе…
– Он собирается с ней развестись.
– А ты, никак, собираешься его спасти. Тогда дай я приму валиум и завалюсь спать.
– Нет, Холли, с чего ты взяла? Я его не люблю, я хочу сказать, в этом смысле, хотя иногда мне очень хотелось бы его полюбить. Но и Беннета я больше выносить не могу.
– Ну, ведь это не значит, что тебе нужно уйти от него к другому мужчине. Есть люди, которым нравится одиночество. И, я тебе скажу, это не страшнее смерти.
Я оглядываю гнездышко Холли, которое, несмотря на погашенный свет, все равно кажется теплым и уютным. Лучше бы я весь день просидела здесь, вместо того чтобы в поисках спасения шляться по Нью-Йорку. Ведь чем я занималась целый день? Гретхен, Хоуп, доктор Шварц, Джеффри Раднер, Джеффри Робертс. И вот теперь я здесь. И все только ради того, чтобы не идти домой, к Беннету. Да, это последняя черта, дойдя до которой, брак уже нет смысла спасать.
– Ты знаешь, Холли, я, главное, сама не могу понять, почему я так обозлилась на него. Я хочу сказать… у меня у самой были мужчины. Да иногда я просто мечтала, чтобы он завел интрижку, – тогда, по крайней мере, я бы поверила, что он живой человек.
Холли в замешательстве.
– О чем ты говоришь?
– Ты помнишь, я звонила тебе сегодня утром?
– Так ты имеешь в виду ту бабу, которая была у него в Европе?
– И потом здесь, когда мы вернулись домой.
– Я считаю, что с его стороны просто бесчеловечно сказать тебе об этом именно теперь.
– Но почему я все-таки так взбесилась, почему готова уйти от него хоть сейчас? Ведь это ничего не добавило к нашим отношениям. Я и сама ему грешным делом изменяла, я тоже не ангел. Ну, завел себе бабу на стороне… Он ведь мне простил мои прегрешения…
– Прощение тут ни при чем.
– А что же тогда при чем?
– Любовь.
– О Господи! Лучше бы мне никогда этого слова не слышать!
– Если бы ты любила Беннета, если бы он давал тебе что-нибудь помимо вечных нотаций, чувства вины и бесконечных огорчений, не думаю, чтобы ты серьезно отнеслась к его изменам. Ну, подумаешь, вставил он свою штуку в чужую дырку. Тоже мне, большое дело. Вообще не понимаю, почему это должно кого-то волновать.
– Вот это да! Какой прогресс! Никогда не слыхала, чтобы ты употребляла слово «дырка». Как ты думаешь, сколько тебе потребуется времени, чтобы созреть до слова «влагалище»?
– Пошла ты на х…!
– Браво! Вот это здорово!
Холли любила повторять, что первые три года занятий с психоаналитиком ушли на то, чтобы научиться говорить слово «х…», следующие три года она училась не испытывать при этом смущения, а потом ей потребовалось еще три года, чтобы ввести его в речь. Она и сейчас нечасто произносит его. Но раз на то пошло, папоротник этого не делает никогда.
– Дорогая, ты хочешь знать, как бы поступила на твоем месте я?
– Я за тем и пришла.
– Хорошо. Буду с тобой откровенна до конца. Я никогдане слышала от тебя о Беннете ни одного доброго слова, кроме того, что он хороший любовник.
– Неужели?
– Вот тебе крест. За те три года, что мы знакомы, – никогда!
– Знаешь что? На самом деле и любовник-то из него никудышный…
Холли опускает глаза:
– Прибереги эротические подробности для своей новой книги, а мне лучше вот что скажи: ты не задавалась вопросом, почему ты так до смерти боишься остаться одна? Ведь это намного лучше, чем жить с живым мертвецом.
– А мне казалось, что тебе нравитсяБеннет.
– Что значит – нравится, не нравится? Он для меня загадка. Как-то раз, помню, он с большой заинтересованностью обсуждал повторный сеанс психоанализа десятилетнего ребенка, но кроме этого я не припомню случая, чтобы наши с ним беседы имели эмоциональную окраску. Я не имею ни малейшего представления, что у него на душе. Счастлив ли он? Печален? Только его психоаналитик может сказать наверняка.
Мне вдруг становится жалко его.
– Он такой бедный, – говорю я. – Мне кажется, я вношу хоть какое-то разнообразие в его убогую жизнь. Как же я могу вот так просто взять и уйти?
– А что он вносит в твою жизнь? Смертную муку? Послушай, родная моя, ну разве можно жить с человеком из жалости? Особенно в тридцать два. Жизнь так быстротечна, ты уж меня извини.
– Но ведь он без меня пропадет…
– Черта с два. Ты, мне кажется, переоцениваешь себя. Он будет прекрасносебя чувствовать.
– Откуда ты знаешь?
– Да вот знаю. Ты лучше подумай, что будет с тобой, если ты от него не уйдешь. Ты так переживаешь из-за развода. Это сильно сказывается на твоих умственных способностях, работе твоей вредит. Ты полнеешь от этого, в конце концов. Дураку ясно, что вы уже не соберетесь родить: для этого нужно очень сильно любить друг друга. Так какого черта! Мне кажется, ты должна его бросить и попытаться найти человека, которого действительно полюбишь.
– Может быть, я вообще неспособна любить? Беннету, кстати, почти удалось меня в этом убедить. Он говорит, это оттого, что я такая психопатка и только психоанализ может мне помочь.
Это окончательно выводит Холли из себя:
– Надо же, какая удобная теория! Не любишь меня, так страдай!Как ты могла поверитьв такую чушь!
– Может, он прав. Я так поглощена работой, что не могу никого полюбить. А может, я и не смогла бы жить ни с кем, кроме живого мертвеца. Он не мешает моей работе, уж этого ты не станешь отрицать.
– Не знаю, не знаю.
– Что ты хочешь этим сказать?
– В стихах ты пишешь о неудовлетворенности, одиночестве, грусти. Подумай, что бы ты могла написать, если бы действительно кого-нибудь полюбила! Как ты можешь так ограничивать себя? Замыкаться в этом удобном для тебя, но таком идиотском пророчестве?
– Мне так приятно разговаривать с тобой – с тобой и с твоими растениями…
– Послушай, красотка, только меня с собой не равняй. Я хочу жить одна. И не желаю иметь детей. Да и секс меня мало привлекает. Ты – совсем другое дело. Ты не папоротник, ты настоящее млекопитающее, черт тебя побери!
– Господи, я боялась, что ты скажешь сейчас что-то убийственное.
– Разве не убийственно то, что я сказала?
– Ты бы слышала, как меня обзывали!.. – сказала я.
Холли даже не улыбнулась. Она закурила и попыталась предпринять новую попытку донести до моего сознания свою мысль.
– Ну какой смысл тебе тянуть эту волынку? Да любой исход для тебя будет лучше нынешней неопределенности!
– Я думаю!
– Послушай, ну чем тебе не нравится моя жизнь? Ведь она мало чем отличается от твоей. Я работаю, встречаюсь с друзьями, хожу на вечеринки. И ты делаешь то же самое. Беннет – лишь довесок к твоей жизни, который порой просто мешает. Вот сегодня – ты даже не хочешь возвращаться домой. Невооруженным глазом видно, что не хочешь. Кстати, он-то сейчас где?
– Какая разница?
– А он знает, где ты?
– Скорее всего, нет.
– Значит, ваш брак – это фарс, подлог, спасательный круг. Вот тебе мое мнение, если хочешь знать, – и она выдохнула облако табачного дыма мне в лицо.
Я уже думала об этом. Холли права. Много общего в нашем образе жизни. С Беннетом я практически не вижусь. Причем, сознательно. Да и зачем он вообще нужен мне? Чтобы я могла говорить: «мой муж». Чтобы у меня был свой номинальный монарх, вроде английской королевы? Чтобы мне легче было под маской добропорядочности скрыть свой бунтарский дух? Чтобы лелеять иллюзию, будто я нахожусь под защитой мужчины?
Неожиданно я чего-то испугалась и решила, что пора домой. Я вдруг почувствовала, что должна находиться с Беннетом.
– Я пошла, – сказала я.
– Ну спасибо. Разбудила меня, разволновала, а теперь уходишь? Я думала, ты останешься ночевать. Я бы постелила тебе на кушетке.
– Не могу, – почему-то меня била дрожь. – Мне действительно надо идти!
– А он держит тебя на коротком поводке.
– Пожалуйста, пойми меня правильно. Ты ведь поймешь, да?
Холли выглядела обиженной, но она все понимала.
– А я собиралась приготовить на завтрак что-то такое, – сказала она. – Но теперь у меня нет для этого повода. – В довершение к своим многочисленным талантам Холли была еще и первоклассной поварихой, но ей не на кого было направить этот талант.
– Как-нибудь в другой раз, – ответила я.
В холле квартиры на 77-й улице горел свет. Кейс Беннета был аккуратно уложен на стул, а его владелец так же аккуратно уложен в постель, где он спал, не помяв простыни. Возвращение домой успокоило меня. Я мельком взглянула на Беннета, потом прошла к себе в кабинет, села на свой любимый кожаный стул и попыталась собраться с мыслями. Почему вид спящего Беннета так успокоил меня? И можно ли воспринимать это как повод продолжать совместную жизнь? Непонятно, почему меня преследовал какой-то панический страх, пока я не пришла домой и не увидела мужа (особенно если учесть, что в течение дня я занималась любовью с другими мужчинами).
Мой муж. Какое в этой фразе разлито безмятежное спокойствие! Почти как в словах «В Бога мы веруем!» или «Гуд хаускипинг» гарантирует».
Что же за волшебная сила таится в словосочетании «мой муж»? Это некий символ, одобрение и подтверждение того, что ты настоящаяженщина. Своего рода софизм: «Посмотрите, у меня есть мужчина, значит, я женщина».
Ну зачем мне это нужно? Зачем нам всем это нужно? Среди моих знакомых всегда находились женщины, которые содержали семью, ходили на службу и выполняли всю работу по дому, – и все равно им нужен был муж, часто человек, который был им явно не по душе. Я знавала богатых женщин, для которых муж был лишь забавой, деловых женщин, которые воспринимали мужа как большого ребенка, примерных домохозяек, которые растили детей, вели хозяйство и одновременно спасали от полного разорения мужнину врачебную практику, коммерческое предприятие или магазин. Не было ни малейшего сомнения в силе и стойкости этих женщин – у окружающих, но не у них самих. Правда ли, что им так же нужен был этот символ – «мой муж», – как и мне? Правда ли, что им всем был так же необходим этот спящий мужчина, тело которого лишь едва примяло постельное белье?
Я много раз пыталась уйти от Беннета, но каждый раз возвращалась назад. И каждый раз, когда я возвращалась, все менялось к лучшему в нашей семье. Наш брак становился более свободным, открытым, менее ограниченным какими-то рамками. И вот теперь он стал настолько свободным, что, если я не приходила ночевать, Беннет ложился спать один. Но и это не устраивало меня. Как будто мы с ним чужие и судьба случайно свела нас под одной крышей. И наша свобода – это иллюзия. На самом деле мы не свободны – мы просто безразличны друг другу. Любовь предполагает потерю свободы, которая не воспринимается как потеря, потому что взамен приобретаешь то, что во сто крат ценнее и лучше.
Теперь я уже с трудом припоминаю, что заставило меня выйти за Беннета. Словно это случилось в другой жизни, когда я была совсем другим человеком. Мы становимся старше и неуклонно меняемся, так что даже в течение короткого земного пути в каждом из нас живут порой совершенно не похожие друг на друга существа. Душа – это не вещь, это процесс, поэтому ее нельзя упрятать в сундучок (или втиснуть в книжку), а сверху прихлопнуть крышкой. Она обязательно выберется наружу и будет видоизменяться вновь и вновь. Женщина, которая вышла за Беннета в 1966, так же отличается от женщины, сидящей сейчас на кожаном стуле, как та, что пережила безумное лето ревности и славы, отличается от писательницы, создавшей этот роман. Я все пытаюсь поймать себя в отдельные периоды жизни, но не могу, потому что даже в самый момент творчества я уже не вполне я. Время и литература изменяют меня. Я пытаюсь насадить осколки реальности на острие пера, но память подводит меня, меня подводят слова, и картина получается отрывочной и неверной. Хуже того, она может показаться читателю истинной правдой, и только я смогу понять, как много в созданной мною картине несоответствий и зияющих пустот, как много сознательных пропусков и как часто изорванные в клочья фрагменты выдаются за роскошный и целый гобелен.