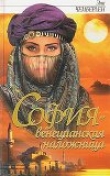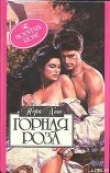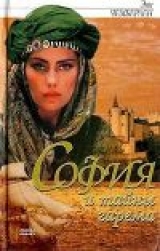
Текст книги "София и тайны гарема"
Автор книги: Энн Чемберлен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
IV
Впрочем, я скоро заметил, что и Айва тоже, кажется, полагается не столько на волю Аллаха, сколько на себя. Выяснилось это очень скоро. Всего несколько дней спустя она позвала меня помочь ей разместить в стенных шкафах заново отделанных зимних покоев целую кучу снадобий и лекарств, которые она привезла с собой.
– Нет, нет, снадобья, предназначенные для припарок и растираний, следует держать отдельно от тех, что принимают вовнутрь, – командовала повитуха. – Я всегда держу их на разных полках, иначе может случиться, что служанка, которую я пошлю за ним ночью, что-нибудь непременно перепутает в темноте. И драгоценное время будет потеряно. И это еще в лучшем случае. А может случиться и кое-что пострашнее.
Аллаха она не упомянула, и слов, что все происходит по его воле, тоже не произнесла. Я едва удержался, чтобы не ляпнуть: «Боже, сохрани!» При мысли о том, что может случиться нечто непоправимое, у меня все оборвалось внутри. Айва продолжала хлопотливо расставлять свои баночки, нисколько не сомневаясь, что ничего страшного не произойдет, если только все окажется на своем месте.
Скоро я оставил свои беспомощные попытки помочь и только смотрел, против воли завороженный той ее уверенностью, с которой она управлялась со всем этим ворохом неизвестных мне снадобий. Разбирая свои сундуки, Айва что-то мурлыкала себе под нос. Каждая баночка и флакончик извлекались на свет с восторженным аханьем, словно она видела их в первый раз. Повитуха неизменно подносила их к лицу, зажмуривалась, втягивала сладкий или терпкий аромат, и на лице ее появлялась блаженная улыбка. Такая улыбка бывает на лице матери, когда она, приложив новорожденного к груди, вдыхает запах своего малыша. Казалось, Айва каким-то непостижимым образом догадывается, где и почему каждому флакончику хочется стоять. Она ничуть не сомневалась, что именно это место позволит ему наилучшим образом проявить свои лечебные свойства. Похоже, мало кто владел этим искусством лучше Айвы.
Когда же я принялся причитать по поводу безумного количества всех снадобий, которые теперь придется держать в доме, Айва только пренебрежительно отмахнулась.
– Это мне понадобится только здесь. Когда я пообещала переехать в дом твоей госпожи, евнух, я вовсе не имела в виду, что брошу пользовать женщин главного гарема в серале. А ты хоть представляешь, сколько их? Ведь не все же отправились с Сафией и Нур Бану в Кутахию. А гарем, где живет Михрима-султан, дочь нашего господина? А те, что остались в Эдирне? А сколько переехали на Принцевы острова, чтобы укрыться от летней жары? У меня имеется еще садик, где я выращиваю лекарственные травы. Его я тоже не могу оставить: нужно следить, чтобы моим растениям хватало воды, иначе они засохнут, надо вовремя срезать те, что набрали полную силу, иначе она пропадет. И это еще не все. Надо делать прививки от черной оспы маленьким девочкам, облегчать страдания верных старых слуг и рабов, чьи кости ноют после долгих лет безупречной службы, приходится лечить увечных от ран и недугов, неизбежных в их особом положении…
– А… излечить мое увечье… вернуть мне тот орган, которого я был лишен, ты не можешь?
Бог свидетель, я сам ненавидел себя в эту минуту!
И почти обрадовался, когда Айва свирепо отмахнулась от моего глупого вопроса и даже фыркнула при этом – точь-в-точь рассерженная кошка.
– Нет. Не могу. И Боже тебя упаси, евнух, поверить тем, кто, проведав о твоем богатстве и том могущественном положении, которое ты занимаешь в доме своей госпожи, станет уверять тебя, будто сможет тебе помочь! Знал бы ты, скольких таких несчастных, поверивших всяким шарлатанам, прошло через мои руки. Мне приходилось лечить их ожоги. Ты не поверишь, но кое-кто из них пытался раскаленным железом заставить вырасти снова то, что у него отняли! Сколько отравленных аконитом, подумай только! Аконит иногда называют «любовным ядом», а людям достаточно услышать только слово «любовный», а к остальному они глухи. Я видела таких легковерных, доведенных до отчаяния людей, которые, приняв аконит, впадали в исступление, а потом погибали в страшных мучениях. Так, что тут у меня… Чабрец, перец стручковый для внутреннего и наружного применения, «девичья честь порушенная», «драконовы кости»… – бормотала Айва, водя пальцем по своему списку снадобий. – Не говоря уже о той китайской травке с пятью лепестками, с помощью которой китайцы убивают направо и налево. Они рассказывают, что она имеет свойство светиться в темноте, а растет, дескать, не в земле, а над землей. Не знаю, не знаю… Посадила черенки у себя в саду, но в жизни не видела ничего подобного.
Шарлатаны станут твердить тебе, что сумеют вылечить тебя с помощью трав. Но поверь мне на слово: тебе еще очень повезет, если ты потеряешь только деньги, а не здоровье или жизнь, послушайся ты их советов. Если только тебе не отрезали твое мужское достоинство под самый корень… Что ж, тогда, возможно, но маловероятно, и нашлось бы средство помочь горю. Если бы тебе оставили хоть самую малость, я бы посоветовала тебе кое-что. Но куда чаще желание остается, а способность удовлетворить его пропала навсегда. Ты меня понимаешь? Так что мой тебе совет: не трави себе душу и не трать попусту время в поисках чудодейственного лекарства. Его не существует.
Бог свидетель, при этих ее словах, словно камень упал с моей души, хотя они и сулили мне жизнь, лишенную всякой надежды на счастье. И все равно мне почему-то вдруг стало легче. Как будто жгучая тоска, точно ненасытный зверь день за днем глодавшая мне сердце – многие на моем месте назвали бы это надеждой, – приняв «любовный яд», тихо умерла навсегда.
Айва, повернувшись ко мне спиной, между тем продолжала бормотать себе под нос.
– Да вот, возьми, к примеру, хотя бы смерть. Ведь от нее тоже нет спасения. Благодаря искусству, которое дал мне Аллах, я облегчаю страдания тех, кто мучается от нестерпимой боли. Но я никогда не дарю напрасных надежд и никогда не обещаю невозможного. Мне не под силу исцелять мертвых. Да и кому это под силу, спрошу я вас? Но если боль от твоей утраты мешает тебе жить, то я бы порекомендовала тебе настойку опия. Если честно, ты не первый кастрат, кому я ее советую. Только предупреждаю заранее: не стоит калечить жизнь, когда она еще впереди, маковым дурманом. Ты ведь еще совсем молод, Абдулла. Так стоит ли убивать себя только из-за того, что какой-то жалкий кусок плоти больше уже не болтается у тебя между ног?! Я видела, как такое случается, но, если честно, никогда этого не понимала. С таким же успехом я могла бы изводить себя только потому, что я женщина. Конечно, мне случалось повидать и таких, но по мне так это пустое дело.
– Ах, да, кстати, – продолжала Айва, наткнувшись в своей корзинке на наши ножницы и нож и сунув их мне. – По-моему, это ваши.
– Да, – кивнул я. – Спасибо.
Уже повернувшись на каблуках, чтобы отнести их на место, я вдруг заколебался. Повернувшись к Айве, я сунул нож ей под нос:
– Стало быть, родится мальчик?
– Откуда мне знать? – недовольно проворчала повитуха. Похоже, мое общество утомило ее. Всем своим видом Айва давала понять, что с гораздо большим удовольствием предпочла бы возиться со своими травами.
– Но ты же сказала: если госпожа сядет на подушку с той стороны, где спрятан нож, родится мальчик. Она и села на нож.
– Бабьи сказки! Фокус-покус.
– Но ты же сама сказала!..
– Я сказала так, потому что именно это она хотела услышать. Между прочим, Сафие тоже страшно хотелось это знать.
Я впился глазами в лицо повитухи, стараясь понять, что ей известно об этом, но оно оставалось непроницаемым. Айва была слишком хитра, чтобы выдать себя. Она безмятежно продолжала:
– Нож и ножницы под подушкой, соль в волосах – все это просто шарлатанские штучки, но они совершенно безвредны. В отличие от тех снадобий, что они попробовали бы на тебе, обратись к кому-то из них ты.
«Хуже, чем мне сейчас, они вряд ли бы сделали», – уныло подумал я.
– Но ведь все эти твои фокусы не так уж и безобидны: они могут внушить женщине надежду, которой не суждено сбыться.
В первый раз за все время Айва отвела глаза, словно у нее не хватило мужества встретиться со мной взглядом.
– Ну, чаще всего эти предсказания бывают достаточно неопределенными. То ли так, то ли этак, понимай как знаешь. А иной раз вообще противоречат друг другу. Все равно что евнуху гадать про детей.
Рассмеявшись своей собственной шутке, она снова заговорила.
– А если честно, когда я гадала твоей госпоже, то в первый раз на моей памяти в обоих случаях получился один и тот же недвусмысленный ответ – мальчик. В какой-то степени мне помогла Сафия. Ясно же, что она ждала от меня только определенного ответа. Обычно-то я стараюсь этого не делать. Либо просто навожу тень на плетень, либо в одном случае получается мальчик, а в другом девочка. Все равно ведь мать будет рада, кто бы у нее ни родился. Честно говоря, никогда не понимала, почему, – фыркнула Айва, любовным жестом погладив круглый бок банки, в которой хранился дудник. Дудник, или ангелика, был вернейшим средством сбрасывать плод. – Лично мне всегда было приятнее иметь дело с женщинами.
После этого разговора с повитухой глодавшая меня тревога немного улеглась, и я уже перестал возражать против ее присутствия в нашем доме. Проживи я на родине всю жизнь, возможно, я бы и до сих пор верил страшным бабьим сказкам о демонах, пьющих кровь новорожденных младенцев. Эти сказки и сейчас живут в моей стране, поскольку других я просто не знал. Но теперь, столкнувшись с совершенно новыми для меня способами знахарства и чародейства, я стал куда более скептически относиться к средневековым суевериям. То, с какой безжалостной уверенностью Айва развеяла в прах тайно лелеемые мною надежды на исцеление, как ни странно, не разрушили, а, наоборот, укрепили мою веру в ее искусство. Трезвый, лишенный пустых иллюзий взгляд на мир пришелся мне по душе, и то, что я поверил ей, не заставляло меня мучиться угрызениями совести. Теперь я верил, что здоровье моей любимой госпожи и моего маленького хозяина, которому еще предстоит появиться на свет, в надежных руках.
После этого разговора я уже больше не сомневался, что опасность исходила лишь от Сафии. А теперь, когда коварная дочь Баффо была далеко – на суше ли или на море, не имело значения, главное, чтобы подальше от моей госпожи, – вместе с ней исчезла и нависшая над Эсмилькан угроза.
* * *
Только почувствовав у себя под сердцем первое движение зародившейся в ней новой жизни, Эсмилькан полюбила этого ребенка той неистовой любовью, на которую способны лишь женщины и которую они мечтают найти в своих мужьях. Потом, обманувшись в своих надеждах, они ищут ее в любовниках и – если очень повезет, – находят лишь в волшебных сказках. Это была страстная любовь, которую невозможно загнать внутрь. Она не иссушает того, кто любит, а придает ему спокойную, радостную силу и наполняет искренним состраданием к тем несчастным, кому не так повезло. Сдается мне, именно поэтому моя госпожа не позволила мне вволю позлословить по поводу того смешного положения, в которое попала Сафия, обнаружившая у пристани вместо гордого галеона худое корыто.
Радость, переполнявшая Эсмилькан, ни на минуту не давала ей забыть о себе. Изо всех сил старалась она не причинить боли другому.
Исполненная сострадания к людям, она напоминала мне Мадонну. За одним только исключением: в отличие от Божьей Матери моя госпожа, увы, не была бессмертной.
А ее ребенок, мальчик, хотя и издал пронзительный вопль, появившись на свет в середине лета, покинул его, не прожив и часа.
«Время излечит ее боль, – думал я, находя в этой мысли утешение. – Она еще совсем молода. В конце концов она не первая мать, которой суждено было потерять дитя. Пройдет немного времени, и она снова понесет».
Но я ошибся. Шло время, но для Эсмилькан-султан, которая жила, как в аду, оно казалось вечностью. Вновь и вновь нескончаемой чередой тянулись дни, когда она носила под сердцем ребенка, но каждому из них она, казалось, дарила жизнь только для того, чтобы затем потерять его навсегда.
Честно говоря, я ничего не понимаю в таких вещах. Раз за разом я видел только, как крохотный, завернутый в белое покрывало сверток поспешно выносят из дома, чтобы зарыть на кладбище в присутствии равнодушного муллы. Помнил тяжелый, угрюмый взгляд Айвы. И еще слышал горькие рыдания Эсмилькан – и знал, что бессилен ей помочь. Моя госпожа, всегда такая терпеливая и покорная воле Аллаха, теперь изменилась. Горе оставило на ней свой след.
Все это время я то и дело ловил себя на том, что постепенно начинаю верить в существование злобной колдуньи, украдкой пробирающейся в комнату, где лежит роженица, чтобы украсть у матери ее ребенка. Мне не раз доводилось слышать, как по углам перешептываются старухи, вполголоса обсуждая, уж не явилась ли ведьма и в наш дом. И хотя Эсмилькан никогда не решилась бы сказать об этом вслух, но по тем испуганным взглядам, которые она бросала по сторонам, по тому, как она стала бояться темноты, я догадывался, что и она понемногу начинает в это верить.
Только Айва не верила в эти басни. «Такова жизнь», – читал я в ее угрюмом взгляде. И я принял это – так же, как безропотно принял то, что судьбу мою уже невозможно изменить. В конце концов, когда случилась трагедия, Сафия была далеко. Она не могла быть к этому причастна.
Стояла середина лета. Случались дни, когда жаркое марево, словно желтое пыльное одеяло, опускалось на Константинополь, заставляя все живое задыхаться и мечтать о глотке свежего воздуха. В один из точно таких дней острый нож лекаря лишил меня возможности оставаться мужчиной. Именно в такой день у моей госпожи родился сын, и через час его не стало. В такие дни этот город, всегда божественно-прекрасный, давал понять, что и он тоже смертен – как каперсники, упрямо пробивающиеся к свету сквозь каждую щель.
ЧАСТЬ II Сафия
V
Сафия откинула полог и выбралась из паланкина. Расправив многочисленные покрывала и вуали, в которые молодая женщина была закутана с ног до головы, она с наслаждением потянулась, чтобы размять затекшее тело. Они только что вернулись из гостей, и у Сафии было такое чувство, что руки и ноги ее вот-вот сведет судорогой. Впрочем, она догадывалась, что причиной стало вовсе не долгое сидение в носилках вместе с тремя другими женщинами. В сущности, дорога была не такой уж долгой, а носилки, похожие на роскошную бархатную шкатулочку для драгоценностей, оказались на редкость удобными. Нет, просто у Сафии все тело ломило при мысли о том, что проходит еще одна зима. В маленьком дворике сераля, куда выходили окна его обитательниц, тюльпаны, гордо подняв свои разноцветные головки и воинственно вскинув зеленые пики листьев, открыли свой ежегодный парад. Итак, вот-вот минет еще одна зима, а власть, та безграничная власть, о которой она мечтала и которую страстно жаждала получить с того самого дня, когда впервые миновала мраморные двери сераля, все еще ускользала от нее… Или, вернее сказать, не давалась ей в руки так быстро, как хотелось бы.
Стояла зима. Согласно христианскому календарю, шел год 1564 от Рождества Христова. Сафие исполнилось шестнадцать лет.
И каждый день становился подтверждением того, насколько правильно она поняла и оценила могущество той системы, которой бесстрашно вручила свою судьбу. Она не ошиблась, когда пришла в восторг перед великолепием той власти, которую эта система могла бы ей дать – власти, превосходящей все, о чем Сафия могла мечтать в своей родной Венеции. Но время шло, бессмысленно утекая, словно вода сквозь песок, а власти все не было… Безграничная власть, которой жаждала Сафия, была близка, она почти чувствовала ее запах, но никак не давалась в руки, и это приводило Сафию в бешенство.
Да, конечно, она понимала, необходимо ездить с визитами, ласковым обхождением и богатыми подарками стараться снискать расположение и дружбу высокопоставленных женщин, безудержно льстить одним и очаровывать других… Все это она делала. И небезуспешно: не было в Турции ни одной женщины, которая могла бы позволить себе не принимать всерьез даже самые пустые ее слова. Но Сафие этого было мало. Женский мир стеснял ее, как плотное облако вуали, прикрывавшее лицо. Больше всего на свете она желала проникнуть… нет, захватить в свои маленькие цепкие ручки мир, в котором правили мужчины.
Но как? Тело Сафии сводило судорогой бессилия, от которого хотелось кричать. Нечто похожее она испытывала, когда приходилось неподвижно сидеть часами, пока служанка наносила ей на руки пасту из хны. Большинство турецких женщин – может быть, потому, что все они с детства привыкли красить ладони хной, – терпеливо выносили эту пытку, и многочасовое ничегонеделание даже нравилось им. Да вот взять хотя бы, к примеру, ту же Эсмилькан-султан, с раздражением подумала Сафия. Как можно вести столь растительное существование?! Не женщина, а какая-то диванная подушка, честное слово!
Впрочем, многие венецианки вели такой же образ жизни. Сафие вдруг вспомнилось, как мучительно ныли ее ноги после многочасовых стояний на молитве, когда она еще жила в монастыре, но она тут же одернула себя, спохватившись, что пора уже забыть о нем, а уж считать его своим домом и вовсе глупо. Сафия ненавидела бессмысленное времяпровождение, и вряд ли ей когда-нибудь удалось прижиться там.
Отмахнувшись от воспоминаний, Сафия принялась перебирать в уме тех, кто мешал осуществлению ее планов. Конечно, в первую очередь сам старик. Султан Сулейман, просидев на троне почти сорок лет, похоже, и не думал умирать.
Не в первый раз Сафия лениво пожелала ему поскорее отправиться к праотцам – даже не по злобе, а просто из озорства. Жизнь казалась ей похожей на азартную игру, и девушке не терпелось поскорее узнать, как лягут карты после того, как главный козырь будет бит. На какое-то время в государстве воцарится хаос, во время которого умный и хитрый сумеет воспользоваться случаем и расставить все по своим местам. Рыбку лучше всего ловить в мутной воде – эту науку Сафия усвоила с детства.
Мысли ее галопом неслись дальше. И сразу она подумала о яде – вот самый верный, тихий и, главное, безопасный способ для женщины убрать с дороги мужчину. К тому же он не требовал применения физической силы. И, что самое важное, в этом случае вовсе не обязательно было делать грязную работу собственными руками.
И вот тут-то как раз может пригодиться Айва.
Все последние месяцы Сафия предусмотрительно пыталась разнюхать, какие блюда предпочитает старый султан, как они готовятся и как подаются к его столу. Наконец ей удалось выяснить, что все без исключения блюда, которые подаются султану, пробуются, и не раз. Люди же, занимающиеся этим, судя по всему, неподкупны.
Будь прокляты эти их идиотские предосторожности, в бешенстве думала Сафия. Как они мешали ей! Не будь их, уж она придумала бы какую-нибудь уловку и добилась бы своего!
Вскоре ей донесли о сервизе из селадона [4]4
Селадон – разновидность китайского фарфора цвета морской воды или серовато-зеленого цвета.
[Закрыть], которым пользовался только сам султан. Согласно поверью, бледно-зеленые тарелки немедленно почернеют, если в пищу подмешать яд. Итак, выходит, султан предвидел возможность отравления и поспешил ее предусмотреть. Стало быть, о яде придется забыть, решила Сафия.
Нур Бану как ей удалось выяснить, принимала те же меры предосторожности.
Как бы там ни было, Сафия, жадно разглядывая султана, насколько это было возможно в щелку между занавесями, думала – впрочем, как и многие другие в его огромной империи, – что его попросту невозможно представить мертвым. Могущественная Тень Справедливейшего, так называли Сулеймана, простерлась над миром, а руки его, цепкости и силе которых мог позавидовать и молодой, вот уже сорок лет крепко держали кормило власти. У Сафии хватило ума и хитрости примириться с его существованием. По крайней мере на время. К тому же в настоящее время султан далеко на севере, сражаясь под стенами Вены. После чего, насколько ей это удалось выяснить, он двинулся на восток, собираясь покарать за дерзость персидского шаха, Великого Еретика. Потом султан, собрав своих корсаров, мановением руки послал войско на ее родину. И уже бросал взгляды дальше, за Геркулесовы столбы, в надежде вернуть под свою длань еще и Испанию. А может, строил планы, намереваясь двинуться на юг и подавить взбунтовавшиеся Йемен или Эфиопию. Или, возможно, рассчитывал сразиться с португальцами за власть над Персидским заливом, через который лежал наиболее безопасный путь к сокровищам Индии.
Да, этот могучий человек и в самом деле имел полное право дерзко говорить о себе: «В Багдаде я царь царей, в Византии – цезарь, а в Египте – султан. Воля Аллаха и чудеса Магомета – все подчиняются и служат мне!»
Пару раз ей удавалось видеть султана во время торжественных процессий, в которых он принимал участие. Конечно, среди огромной толпы народа трудно разглядеть чье-то лицо. В лучшем случае был виден лишь тюрбан, огромный тюрбан, в ярких лучах солнца ослепительно сияющий своей белизной. Увенчанный роскошным плюмажем из перьев цапли – привилегия исключительно царственных особ, – он в высоту достигал чуть ли не трети человеческого роста. Это чудовищного размера сооружение из великолепного шелка и тончайшего льна непременно должно было иметь определенную длину – в пятнадцать раз длиннее расстояния от кончика монаршего носа до вытянутого пальца руки. А второй такой же тюрбан, надетый поверх шеста, обязательно несли перед султаном во главе процессии. Эта великая честь обычно оказывалась какому-нибудь могущественному аге: он заставлял тюрбан кивать в ответ на приветственные крики толпы.
Но Сафие все же удалось увидеть султана поближе. И тогда его резко загнутый книзу нос, смахивающий на клюв хищной птицы, глубоко посаженные черные глаза, в которых светился острый ум, суровое худое лицо, обрамленное бородой, с только еще начинающей пробиваться сединой и не скрывающей властных и жестких очертаний его подбородка, – все это заставляло трепетать сердце девушки: такая властная сила исходила от этого старика. Злые языки твердили, что у султана болезненный вид, поэтому он и заставляет себя румянить. Но Сафия не верила болтовне – здоровый румянец на щеках султана опровергал любые сплетни, а обветренное, загорелое до черноты лицо словно говорило том, что этот человек предпочитает битвы праздному лежанию на диване.
От султана на сто шагов исходило какое-то сияние. Поговаривали, что всякий раз, когда Сулейман появлялся на людях, несколько человек, оказавшихся на его пути, становились богачами. Сафия скоро узнала, почему. Все дело в том, что по велению султана несколько драгоценных камней – из тех, что украшали его одежду, – намеренно пришивались небрежно. Во время торжественных шествий некоторые из них падали в пыль под его ногами. Нежданный подарок судьбы тому, кто имел смелость поднять сверкающий алмаз и торжественно объявить его своим!
И хотя сама Сафия дерзко именовала султана стариком – а случалось, и похуже, причем старалась делать это нарочито громко, выбирая момент, когда ее могли услышать, – в глубине души она не могла не признать, что этот «старик» – великолепный образец мужской породы. Даже мимолетное появление Сулеймана в Алеппо вызвало среди обитательниц гарема настоящий переполох. При одном только воспоминании об этом сердце Сафии сладко трепетало. Нет, у нее не поднимется рука причинить зло султану. Этот человек заслужил ту славу и почет, которыми он пользовался. Да будь ее власть, она с радостью бросила бы ему под ноги все сокровища мира! Какое было счастье сказать ему об этом… Наедине, разумеется! К тому же сияние власти, окружающее султана, великолепно подошло бы ей самой.
«Жаль, что меня не купили для егопостели, – мелькало порой у нее в голове. Сафия понимала, что противоречит сама себе, но ничего не могла с этим поделать. – Вот уж не повезло, так не повезло. Оказаться в гареме его же собственного внука! Это значит, что я, возможно, так никогда и не узнаю султана!»
– Забудь об этом! – резко осаживала ее Нур Бану, когда однажды это неосторожное замечание вырвалось у Сафии. – Вспомни: у султана есть сын, причем достаточно взрослый. Он тебе в отцы годится. И не только сын, но и внук. Мой сын, а твой господин и повелитель. Так что твое время придет. Терпеливо жди, когда оно настанет, а пока делай, что тебе говорят.
Ждать как раз было труднее всего. А уж ждать, когда великолепный султан умрет… Глупо, думала Сафия, скорее первым к праотцам отправится его сын. Кстати сказать, Сулейман уже успел благополучно пережить трех своих сыновей, а последний из оставшихся в живых, Селим, единственный наследник престола, тоже, похоже, не задержится на этом свете.
Да, в этом-то и крылась опасность. Принц Селим казался наиболее слабым звеном, вполне подходящим для того, чтобы слегка подкорректировать волю Аллаха. При первой встрече будущий султан, которому только-только стукнуло сорок, произвел на нее потрясающее впечатление – ничуть не меньшее, чем его отец. Одного взгляда, хоть и со значительного расстояния, Сафие было достаточно, чтобы воспламениться. Но потом, когда схлынул первый восторг и слегка развеялось сияние титула, который ему предстояло унаследовать, она смогла разглядеть и по достоинству оценить и его коротенькую тучную фигуру, и нездоровую бледность лица, увенчанного громадным тюрбаном, который, казалось, вот-вот свалится на землю. Поговаривали даже, что он вовсе и не сын Сулеймана Великолепного. Злые языки в гареме упорно твердили, что у красавицы Хуррем-султан был любовник. Сказать по правде, глядя на Селима, поверить в это можно было без особого труда.
А вот в то, чтобы Хуррем, эта потрясающе красивая и умная женщина – о ее красоте слагались легенды, существовавшие до сих пор, – решилась вдруг так опозорить себя, уже верилось с трудом. Поразмыслив на эту тему, Сафия решила, что в каждой семье отыщется своя паршивая овца и на дне бутылки с самым великолепным вином всегда найдется осадок. По ее мнению, это было наиболее разумным объяснением. Такова ирония судьбы: в то время как наиболее достойные сыновья султана – здоровые, красивые и умные – пали в борьбе за власть, жалкий заморыш Селим уцелел.
Из-за такого ублюдка даже и рисковать не стоило. К чему яд, если Селим и так убивал себя, причем делал это так старательно, словно ему не терпелось поскорее покинуть этот свет.
Здесь, среди турков, где употребление спиртных напитков считалось государственным преступлением и приравнивалось к оскорблению величества, к Селиму накрепко прилипла презрительная кличка «пьянчуга». Возмущенный отец писал ему письмо за письмом, убеждая сына «отказаться от мерзкого пристрастия». Все напрасно. Даже в Италии, где вино иной раз заменяет детям материнское молоко, Сафии никогда не случалось видеть более горького пьяницу, чем этот наследник трона Оттоманов. Может быть, думала она – и эта мысль приятно тешила ее гордость, – религиозный запрет, столкнувшийся с врожденной тягой к спиртному, пробудил в душе этого ничтожества демонов, которым он был не в силах противостоять? А то обстоятельство, что он, знавший об ожидавшем его высоком предназначении, был вынужден многие годы существовать в тени своего отца, нетерпеливо ожидая его смерти, только усилило его тягу к спиртному.
Итак, на Селиме нужно поставить крест. Его уже не изменить. Значит, лучше быть любимой его сыном, Мурадом. Сафия поплотнее завернулась в накидку, словно опасаясь, что воспоминания о минутах любви с этим, как она его называла, «чудовищем» вырвутся на свободу. Нет уж, пусть остаются в ее сердце. К тому же, находясь у самого подножия трона и при этом оставаясь в полумраке, она имеет полную возможность удовлетворять не только физические потребности, но и жажду знаний молодого принца, его растущий интерес к политике. Когда они только встретились, Мурад уже почти пал жертвой неодолимой тяги к опиуму, превратившись в его покорного раба. Сафие удалось положить этому конец, и сейчас юноша, проводя долгие часы в Диване, полностью отдал себя острой и возбуждающей политической игре, найдя в этом замену наркотику.
Даже Сулейман, равному по могуществу которому не было в целом мире, только жмурился от удовольствия, радуясь тому, как разительно изменился за это время его внук. В письмах султана – Мурад с гордостью показывал их Сафии – больше не звучало ни угроз, ни насмешек. Это были письма, которые один зрелый мужчина мог написать другому. Письма, в которых речь шла о самых важных государственных делах. Итак, если Селим – это слабое звено в цепи, то Мурад – ключ, которым она сможет ее отомкнуть.
В один прекрасный день у нее родится сын и тоже станет для нее таким же послушным орудием, как его отец. Но пока нет нужды заглядывать так далеко. В конце концов, с детьми всегда столько забот! Лишь те, кого Бог не наделил красотой и умом, могут рассчитывать, что беременность поможет им возвыситься. А пока что изготовленные Айвой противозачаточные свечи, в которых особые растительные смолы были смешаны с овечьим жиром, надежно служили ей: Сафия не намерена была позволить такой ерунде, как беременность, помешать ее планам.
Затея с галеоном, на котором они собирались плыть вдоль побережья, обернулась провалом. Это была идея Мурада. Непонятно, по какой причине, ему вдруг втемяшилось в голову придать романтическую окраску их отношениям. В своем неистовом желании порадовать ее он действовал чересчур поспешно и напролом. И к тому же совсем не в том направлении. Мурад так до сих пор и не понял, что лучший способ доставить удовольствие Сафие – снискать дружбу и доверие султана, а не пытаться ослепить ее пышностью.
Вспомнив убогий кеч, болтающийся у пристани в ожидании сиятельной четы, Сафия вспыхнула от стыда. Уму непостижимо, как они вообще не потонули, перебираясь на этом корыте через Босфор! В первый раз Сафия радовалась проклятой вуали, скрывавшей предательскую краску стыда на ее щеках. Но преподанный ей урок она усвоила твердо. И с этого дня намерена была неусыпно следить за причудами своего царственного любовника. Теперь она знала, что только разумная сдержанность и здравый смысл, а отнюдь не глупые мальчишеские выходки помогут Мураду вернуть доверие его царственного деда, а возможно, и вознесут его к вершинам власти.
Усилием воли Сафия взяла себя в руки. Убедившись, что на лицо ее вновь вернулась обычная прозрачная бледность, она снова принялась решать вопрос, который уже в течение многих дней не давал ей покоя: как наилучшим образом использовать расположение султана, как обратить его на пользу Мурада… ну, и себе самой, разумеется. Увы, не найдя достойного применения своим талантам и воинской доблести, молодой человек, вполне возможно, устанет ждать и еще, чего доброго, примется вновь прожигать жизнь – как это делает его собственный отец.