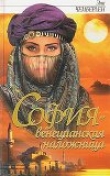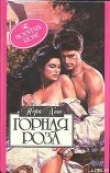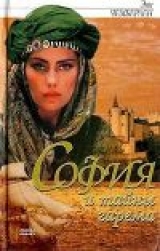
Текст книги "София и тайны гарема"
Автор книги: Энн Чемберлен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
Жестоко расправившись со своим малодушным помощником, посмевшим предать мое доверие, я убедил себя, что могу положиться на остальных. Запуганные перспективой отправиться вслед за ним на невольничий рынок, они из кожи вон лезли, стараясь выполнять свои обязанности как можно лучше. К несчастью, всем им было до него далеко, и я невольно оплакивал свою потерю, поскольку лучшего евнуха у меня не было. До нашего возвращения в Константинополь заменить его кем-то нечего было и мечтать, а те четверо, кто оставался под моим началом, несмотря на то что намерения у них были самые лучшие, обладали всеми отвратительными недостатками, свойственными евнухам вообще: разжирели, обленились и были невыносимо скучны. Иначе говоря, рассчитывать я мог только на себя самого. «Да уж, – иной раз с горечью думал я, – не иначе как это испытание мне ниспослано свыше».
И оно действительно оказалось тяжким. Окончательно я уверился в этом в один прекрасный день, застав Ферхада в прихожей гарема, где он вообще не имел никакого права находиться. Заметив мое перекошенное яростью лицо, он молча поклонился и, не сказав ни слова, поспешно вышел. Но улыбка, которую он послал мне, прежде чем закрыть за собой дверь, была исполнена такого достоинства, что я был потрясен. Именно такая улыбка появляется на лице человека, только что потерпевшего поражение в честной схватке с достойным и равным противником, и именно такой улыбкой обычно дают понять, что победа не за горами.
Вспоминая об этом, я отнюдь не обманывал себя. Речь шла вовсе не о поединке, когда противники, схватившись, вскоре расходятся по домам, обещая в будущем встретиться вновь. Такие поединки обычно достаточно безобидны. Сейчас дело обстояло куда серьезнее. Если мне не удастся выполнить свой долг, неминуемо прольется кровь. А то, что женская честь и женская добродетель, в особенности когда речь идет о женщине благородной крови, ценится мужчинами не слишком высоко, нисколько не умаляло в моих глазах сознание того, что беречь ее – мой первейший долг.
Мысль о том, что и моя госпожа, и её возлюбленный в случае моей неудачи обречены на смерть, поддерживала меня в стремлении не допустить грехопадения. Тем более что считать Ферхада своим врагом я не мог. Увы, всему виной было несчастное стечение обстоятельств. И, думая о той ситуации, в которой все мы оказались, я невольно сравнивал себя с искусным воином, с мечом в руках защищающим двух несмышленых детей от того, что угрожало им обоим. Защищающим тех, кто не мог защитить себя сам.
XXXVIII
В этот год месяц Рамадан пришелся на самую середину зимы. Может быть, поэтому выдерживать пост не составляло особого труда: долгие ночи и холода способствовали тому, что все как будто впали в спячку, и ленивое ничегонеделание не только не раздражало, но даже доставляло своеобразное удовольствие. Но к концу месяца снег понемногу начал таять, обнажая остроконечные пики гор, обступивших Конью со всех сторон, дикий виноград выпустил молодые побеги, и первые гиацинты покрыли землю, точно переливчатый восточный ковер.
Может быть, поэтому, к тому времени когда священный для всех правоверных месяц Рамадан уже близился к концу, все как будто очнулись от зимней спячки. Заодно проснулся и аппетит, так что выдерживать пост становилось все труднее. Я только вздыхал украдкой, понимая, насколько трудно приходится моей госпоже и ее возлюбленному: в это время, когда все вокруг словно пробуждалось к новой жизни, наверное, было особенно невыносимо терпеть разлуку, на которую их обрекали высокие стены гарема.
Мне это удалось, с торжеством думал я про себя. Удалось выдержать испытание – испытание более сложное и трудное, чем те, что выпадали до сих пор на мою долю. Потому что мне было намного страшнее, чем в те дни, когда нам угрожала смерть от руки разбойников или разъяренных матросов с Хиоса. И сейчас, признаюсь, я упивался своим торжеством, беззастенчиво превознося себя до небес, и ничуть не стыдился этого. Только человек, впервые испытавший счастье повергнуть врага к своим ногам, сможет понять, что я тогда чувствовал.
Облегчение и триумф я отпраздновал единственным доступным мне способом. Во вторник, незаметно улизнув из гарема, я уже хорошо знакомой мне дорогой отправился на службу дервишей из того ордена, к которому принадлежал Хусейн. От этого удовольствия из-за зимы, Рамадана и поста я был вынужден надолго отказаться. Нет, раза два-три за все это время я все-таки выбирался к ним, но так и не нашел в себе сил присоединиться к их пляске. Просто сидел в уголке и молча смотрел или в одиночестве бродил по галерее.
Но теперь словно гора упала у меня с плеч. Облегчение, которое я испытывал, было столь велико, что я едва не дал зарок присоединиться к великому братству суфиев. И, наверное, сделал бы это, если бы перед моим мысленным взоров внезапно не сверкнул меч, словно желая напомнить о том жестоком наказании, которое ожидало меня, вздумай я пренебречь своими обязанностями. Видение промелькнуло и тут же исчезло, но этого было достаточно, чтобы в самый последний момент вернуть меня к действительности. И вот я опять был вынужден почти силой заставить себя вырваться из хоровода дервишей и потом еще долго приходил в себя на дворе, хватая морозный воздух широко открытым ртом.
И вновь, как в самый первый раз, незадолго до рассвета ко мне вышел Хусейн. Он был один. Мы долго молча упивались созерцанием Млечного пути, испытывая примерно те же самые чувства, что и курильщик, когда, он, вдохнув аромат любимого табака, на мгновение зажмуривается, наслаждаясь тем, как сладко кружится голова.
Не знаю, мог ли Хусейн читать мои мысли… Говорят, многие дервиши с годами развивают в себе эту способность, а прежде мне уже не раз приходило в голову, что Хусейн без труда угадывает мои мысли. Но вполне возможно, все было не так. Скорее всего, для него не составляло труда догадаться, о чем я думаю, потому что и сам он в это время испытывал нечто похожее. И догадывался, чему радуется и о чем печалится моя душа.
Шли недели. Скоро заканчивался Рамадан, и мы начали потихоньку готовиться к отъезду в Константинополь. Нашему пребыванию в Конье наступил конец. Это стало особенно очевидным в тот день, когда я сопровождал свою госпожу в последнюю среду нашего паломничества. Она заранее предупредила меня, что хочет в последний раз навестить гробницу святого Руми. Ожидая ее, я задумался. И мне вдруг показалось, что я слышу, как сам святой Руми, который, по рассказам дервишей, тоже в свое время был одним из учеников Илии, пересказывает мне уже знакомую притчу. Я прикрыл глаза, и мне почудилось, что я слышу, как голос его гулким эхом доносится до меня из-под купола гробницы:
«…волю Милосердного можно выполнить и не соблюдая установленных им законов, а наоборот, нарушая их».
Когда все предписанные законом молитвы были прочитаны, Эсмилькан знаком дала мне понять, что хочет в последний раз посидеть на том камне, где сидел когда-то сам святой Руми. Мне давно уже было известно это древнее суеверие, гласившее, что самый верный способ добиться исполнения чьего-либо заветного желания – это повторять просьбы по нескольку раз. Естественно, сначала я подумал, что Эсмилькан станет опять молить Руми послать ей дитя, но, помогая ей сойти вниз, я вдруг почувствовал в своей госпоже непонятную перемену. Теперь я готов был поклясться, что на этот раз она умоляла святого о другом. Вероятно, Эсмилькан как обычно стала просить Руми послать ей дитя, и ответ был дан ей в виде молодого спаги. Я мог без труда угадать, каким на этот раз было ее заветное желание. Наши взгляды нечаянно встретились, и я прочел немую просьбу в ее глазах. Липкие пальцы страха сжали мне горло. Какой бы силой ни обладал тот Камень, на котором она только что сидела, но он поделился этой силой с ней, и теперь Эсмилькан не сомневалась, что исполнение ее мечты зависит лишь от одного меня.
– Нет! Только не я! – запротестовал я, когда Эсмилькан повелительно махнула мне рукой, давая понять, что теперь моя очередь просить святого выполнить желание. Ужас, звучавший в моем голосе, говорил сам за себя. Эсмилькан поняла, что я имею в виду, и надежда, светившаяся в ее глазах, погасла.
– Возможно, у тебя и нет никаких желаний, Абдулла… но, может быть, тогда ты попросишь святого о счастье для бедной Эсмилькан? Разве так уж приятно служить женщине, сердце которой разбито навеки? – умоляюще пробормотала она.
Я снова принялся отнекиваться, но в душе моей поселилось смятение. В ее словах чувствовалась неведомая мне сила, от которой веяло чем-то потусторонним. Заглушив в груди сомнения, я поспешно усадил Эсмилькан в носилки вместе с хихикающими служанками, плотно задернул занавески, расставил носильщиков по местам, строго наказал младшим евнухам ни на мгновение не спускать с них глаз, и мы двинулись в обратный путь. Я уже твердо решил, что по дороге воспользуюсь любым мало-мальски подходящим предлогом, чтобы незаметно ускользнуть – пусть даже мне придется сломать себе голову, как это сделать. Но предлог, который я искал, не заставил себя долго ждать. По странной иронии судьбы им стало появление того, кого мне меньше всего хотелось видеть, а именно Ферхада.
Впрочем, я почти не сомневался, что встречу его. С самого конца Рамадана, а вернее, еще задолго до этого, он неизменно являлся сюда каждый день, когда в мечети молились только женщины, и по нескольку часов подряд околачивался во дворе, смешавшись с толпой. «Ничего удивительного», – успокаивал меня губернатор всякий раз, когда я выражал свое удивление по этому поводу. – Он старается почаще бывать среди жителей нашей провинции, чтобы лучше узнать их беды и чаяния, и это очень мудро. Так он приносит больше пользы, чем если бы постоянно сидел у меня во дворце.
Но меня ему не удалось одурачить с той же легкостью, с какой он обвел вокруг пальца нашего простодушного хозяина. Я-то хорошо знал, для чего он здесь: Ферхад пользовался единственной возможностью бросить взгляд на мою госпожу. А случай этот мог представиться ему только здесь, и причем дважды – один раз, когда она входила в мечеть, и второй – когда выходила из нее, чтобы сесть в носилки.
Моя госпожа тоже, казалось, чувствовала его присутствие. Всякий раз, усаживаясь в паланкин, она высоко поднимала голову, кокетливо поправляла волосы и так прелестно краснела, что невольно вводила в смятение даже меня, поскольку я тут же начинал судорожно проверять, на месте ли непрозрачное покрывало, которое призвано было скрыть мою госпожу от нескромных глаз. Но если раньше эти регулярные встречи доставляли мне немало беспокойства, то сегодня тревога моя немного улеглась: темнело рано, а пронизывающий ветер позволял надеяться на то, что все разумные люди в такой холод предпочтут сидеть по домам, предоставив возможность Хранителю Султанского Коня торчать здесь в гордом одиночестве на манер какого-нибудь деревенского дурачка. Причина, по которой Ферхад сегодня явился сюда, была очевидна: конечно, чтобы воспользоваться случаем и хоть издали полюбоваться женщинами. А то, что он все это время старательно поворачивался к нам спиной, не обмануло меня ни на минуту. Зато позволило подойти к нему незамеченным.
Лицо, которое предстало перед моими глазами, я даже не сразу узнал: оно было залито слезами, а горе до неузнаваемости исказило его, лишив былой привлекательности. Естественно, я тут же притворился, что ничего не заметил. Тем более начал накрапывать дождь, и слезы легко было принять за дождевые капли. Гораздо сильнее поразило меня другое. Я вдруг заметил, что именно Ферхад сжимал в руке, и ноги мои приросли к земле – это был обнаженный кинжал. Во рту у меня пересохло, сколько я ни силился, не мог отвести от кинжала глаз.
Конечно, спаги люди военные, успокаивал я себя. Точно такие же кинжалы получает каждый из них, вступая в полк. И во время торжественной церемонии все они дают клятву «обращать этот клинок только лишь против врагов самого Аллаха и его Тени на земле, Его Султанского Величества».
И вот врагом Турции, ислама и заодно султана, против которого он теперь обнажил свой клинок, оказался не кто иной, как я сам.
Ферхад сжимал кинжал с таким явным намерением немедленно пустить его в ход, что, услышав, как я окликнул его, от неожиданности полоснул лезвием по собственному запястью. Конечно, порез был не настолько велик, чтобы представлять какую-то опасность, но мы оба уставились на него во все глаза и завороженно смотрели, как темно-алая кровь растекается по его запястью, зловеще поблескивая на манер рубинового браслета. Только привычка машинально обмениваться при встрече традиционными приветствиями и пожеланиями здоровья позволила нам прервать затянувшееся молчание. Немного придя в себя, Ферхад даже оказался в силах выдавить из себя нечто вроде смешка, словно желая дать понять, что все это – ерунда, обычная царапина.
– Абдулла, друг мой, – пробормотал он. – Мне доводилось встречаться лицом к лицу и с австрияками и с курдами. Дрался я и с персами, которых считают непревзойденными воинами, и всякий раз возвращался из боя без единой царапины. Но не знаю, хватит ли у меня сил бестрепетно встретить лицом к лицу то, что сулит мне следующее воскресенье: на этот день назначен ваш отъезд. Боюсь, что это убьет меня куда вернее, чем клинок какого-нибудь свирепого перса.
– Ты сошел с ума! – прошипел я. – Вернее, это любовь довела тебя до безумия.
Но он знал, о чем говорил. Ему куда лучше, чем мне, было известно, как трагически безнадежны все его мечты завладеть одним из драгоценнейших сокровищ Турции. Столько долгих дней и ночей Ферхад таил свою боль в своем сердце, что сейчас даже смерть казалась ему желанной. Я посмотрел на него и молча вздохнул.
Уж конечно, если Аллах любит свой народ, Он не позволит погибнуть столь славному защитнику веры и не даст ему наложить на себя руки из-за любви к женщине, думал я, незаметно поглядывая на своего спутника, пока мы возвращались домой. И в неизреченном милосердии своем не даст достойнейшей из женщин провести остаток своих дней, оплакивая свою судьбу, не позволившую ей ни узнать, как сладка бывает мужская любовь, ни почувствовать, какое это счастье – прижать к груди дитя, даже после того, как она пересекла всю Анатолию, чтобы на коленях умолять Его об этом.
И разве я, венецианец, и Ферхад, впервые увидевший свет где-то в Албании, имеем право пытаться предугадать волю Господа, когда речь идет о людях, рядом с которыми мы можем смело считать себя чужестранцами? А у Эсмилькан, хотя она и родная дочь султана, мать была черкешенка. Так что совсем неудивительно, что и она считает освященные веками традиции жестокими и несправедливыми и втайне давно уже пришла к мысли, что нет большого греха в том, чтобы хоть один-единственный раз, сойдя со стези добродетели, вкусить сладость запретного плода.
XXXIX
Четверг, пятница, суббота миновали, как им и положено со дня сотворения мира. И вот, наконец, наступил вечер субботы. Я нервно расхаживал по дому, снова и снова проверяя свою оборону – так боевой генерал в ожидании штурма доверенной ему крепости обходит свои блокпосты, гадая, выдержат ли они осаду. Я отдал строгий приказ, чтобы младшие евнухи по очереди караулили гарем всю ночь до утра и при малейшем шорохе со стороны резной решетки, разделяющей мир на две половины – мужскую и женскую, – немедленно бежали бы ко мне. Я даже дошел до того, что самолично проверил все окна и двери, словно вокруг дворца стояла вражеская армия, держа наготове осадные орудия. Нет, к счастью, все было в порядке. Да и потом, осаду снимут уже завтра. Вернее, осажденные просто оставят свою крепость, сдав ее неприятелю. Крепости оставалось продержаться всего одну ночь. И единственным слабым местом ее обороны было мое собственное сердце.
Я отправился пожелать своей госпоже доброй ночи и обнаружил ее в слезах. Она лежала в объятиях супруги губернатора и ее дочери, и те, тоже обливаясь слезами, клялись, что проведут эту ночь с ней. Бедняжки нисколько не сомневались, что отчаяние Эсмилькан вызвано предстоящей разлукой, и готовы были рвать волосы на голове от горя, хотя им обеим было до смерти лестно, что столь высокородная особа так убивается.
Я помог рабыням и служанкам приготовить для нее постель, а сам пошел привернуть горевший светильник Но Эсмилькан остановила меня, сказав, что у нее нет ни малейшего желания спать и темнота будет только действовать ей на нервы. Не зная, что делать, я беспомощно опустился на диван. Конечно, лучше всего было бы вернуться к себе. Но что я буду делать в своей одинокой комнатке – терзаться угрызениями совести, вспоминая ее залитое слезами лицо и красные воспаленные глаза, которые смотрели на меня с жалким выражением побитой собаки?
За решеткой ее окна вдруг запел соловей – в первый раз в этом году. Сладостная трель, полустон-полурыдание, пронеслась в воздухе, нарушив ночную тишину, и у нас разом перехватило дыхание. В этом пении была такая щемящая душу красота, что хотелось плакать. Поэты часто называют соловья возлюбленным розы, печальным любовником. Эти двое никогда не смогут принадлежать друг другу из-за ревнивых соперников соловья – острых шипов, словно давших обет не подпустить его к любимой. Вот поэтому песни соловья всегда проникнуты печалью.
Не будь я уверен, что это невозможно, я бы поклялся, что крохотное создание явилось сюда от Ферхада передать последний привет его столь ревниво охраняемой возлюбленной.
Соловьиные трели, серебряными колокольчиками разливающиеся в ночном воздухе, подействовали и на мою госпожу. Но – может быть, потому что она являлась всего лишь половинкой целого, – они подействовали на нее совсем по-другому, погрузив Эсмилькан в еще большее отчаяние. У нее уже не оставалось сил, чтобы бороться со слезами. Внезапно они ручьем хлынули у нее из глаз, а лицо так побледнело, что я, перепугавшись до смерти, решил, что сейчас она лишится чувств. Супруга губернатора со своими дочерьми при виде столь душераздирающего зрелища разразились сочувственными ахами и охами и засуетились вокруг моей госпожи, растирая ей запястья и смачивая похолодевший лоб розовой водой и эссенцией руты.
Я заговорил с ними, невольно стараясь, чтобы мои слова не противоречили тому, что прозвучало в моей душе, когда я слушал песни соловья.
– Возможно, любезная хозяйка, было бы лучше, если бы я остался с моей госпожой до утра. Прошу простить меня, но это помогло бы облегчить страдания и печаль моей госпожи. Да и вам с вашей нежной, ранимой душой было бы легче.
– Оставьте нас. Хотя бы на минуту! – взмолилась она. – Поверьте, если мне понадобится ваша помощь, я тут же позову вас!
Женщины неохотно покинули комнату, то и дело оборачиваясь и что-то неодобрительно бурча себе под нос. Взгляды, которые они бросали в мою сторону, ясно показывали, что они об этом думают. Повелительным жестом отослав из комнаты служанок, моя госпожа спустила ноги с постели и повернулась ко мне.
– Так ты сделаешь это, Абдулла? Ты согласен?
– Да, я сделаю, но не потому, что я этого хочу, а потому что такова воля Аллаха, – кивнул я. – Но я постараюсь сделать все, что смогу.
Не вдаваясь в дальнейшие объяснения, я вышел из комнаты и очень скоро наткнулся на Ферхада, сидевшего с нашим хозяином в селамлике.
– О, Абдулла! – воскликнул губернатор, увидев меня на пороге. – Как хорошо, что ты пришел! Как раз вовремя. Мне наконец-то удалось уговорить Ферхада разделить со мной бокал вина. Но если ты думаешь, что я заставил его, ты ошибаешься. Не хочешь присоединиться к нам?
Со всей возможной деликатностью отклонив предложение нашего радушного хозяина, я немного помялся, но потом, понимая, что у меня нет иного выхода, решил, что настало время привести в исполнение созревший у меня план.
– Прошу прощения, мне очень не хотелось вам мешать… Но у меня есть маленькая просьба. Так, пустяк… Вполне может подождать, пока мы не вернемся в Константинополь. Дело в том, что мой хозяин неплохо осведомлен о ситуации в Персии.
– Ну и в чем дело, Абдулла? – нахмурился губернатор.
– Да в общем-то ничего особенного. Только моя госпожа обожает стихи. И тут, как на грех, ей попалась книга стихов, а поэт, кому они принадлежат, слишком часто ссылается на какие-то персидские обычаи, о которых моя госпожа не имеет ни малейшего понятия. Сама поэма исключительно хороша, очень старинная, даже можно сказать древняя – о любви соловья к прекрасной розе. Но, к несчастью, мы с ней не смогли понять в ней и половины. Я оставил сборник стихов в своей комнате, и если…
– Боюсь, персидский, который я когда-то учил, больше подходит для солдатских бараков, – хохотнул губернатор.
– Зато у меня есть некоторый опыт в этом деле, тем более что я всегда любил стихи, – тут же отозвался Ферхад. Я украдкой спрятал улыбку, мысленно поздравив себя с успехом. Дело в том, что я заранее знал, как ответит каждый из них – еще до того, как задал вопрос.
– Но, боюсь, я помешал. Похоже, вы заняты… – замялся я.
– Право, не знаю… – начал Ферхад.
– Если у вас вдруг появится желание как-то убить время, я буду у себя в комнате. Не думаю, что смогу сегодня уснуть, скорее всего, так и просижу до утра над этой книгой. Тем более что мне еще надо собраться…
Я с поклоном повернулся, чтобы уйти, однако взгляд, который я незаметно бросил на Ферхада, ясно дал мне понять, что мой план удался. Для молодого спаги, столь искусно составлявшего собственные шифрованные любовные послания, не составило особого труда разгадать мое. Уже возле самой двери я обернулся. Ферхад, отставив в сторону бокал, смотрел мне вслед, и я с радостью убедился, что он снова стал самим собой. В глазах его вспыхнула надежда.
Вернувшись обратно в гарем, я обнаружил, что моя госпожа, воспользовавшись моим недолгим отсутствием, успела за это время переодеться в свое любимое платье сочного розового цвета, который необыкновенно ей шел. У нее даже хватило времени умыться и привести в порядок волосы. Я вытаращил на нее глаза – если бы я сам всего полчаса назад собственными глазами не видел ее бледной, распухшей от слез, то решил бы, что все мне привиделось. Просто невозможно было поверить, что это восхитительно свежее, разрумянившееся, очаровательное существо еще совсем недавно походило на сломленный бурей цветок. Однако мне показалось, что на душе у нее неспокойно. Такое впечатление, что мысли и страхи, терзавшие меня все эти долгие месяцы, каким-то непостижимым образом передались теперь ей.
– Что, если… – нерешительно начала Эсмилькан и тут же осеклась. Что она хотела сказать, я так и не понял. Это могло быть все что угодно, от «что, если он не придет?» и «что, если я не понравлюсь ему?» до «что, если нас застанут на месте преступления? Супружеская неверность – смертный грех, и единственное наказание за это – смерть». Но, каковы бы ни были наши мысли, изменить мы уже ничего не могли. Только холодок, пробегавший у нас по спине, да яркий, пятнами, румянец, то и дело вспыхивавший на щеках Эсмилькан, доказывал, что мы думаем об одном и том же.
Что же до меня самого, то, если честно, сейчас я даже чувствовал себя спокойнее, чем все эти месяцы. Решение было принято, дальше все зависело уже не от меня, и я вдруг испытал восхитительное чувство какой-то необыкновенной свободы. Взяв госпожу за руку, я крепко пожал ее и слегка удивился, когда губы Эсмилькан скользнули по моей щеке. Смутившись, я пробормотал, что мне нужно выйти, и чуть ли не бегом выскочил из комнаты. Когда я вернулся, комната Эсмилькан была пуста. Сказать по правде, раньше я почему-то думал, что стану волноваться, бегая из угла в угол, как мать, когда ее дочери предстоит первая брачная ночь. Мне казалось, я буду нетерпеливо отсчитывать секунды, испуганно вздрагивая от каждого звука и шороха, от каждого скрипа половицы в страхе, что нас вот-вот застигнут на месте преступления. Но я невозмутимо привернул огонь в светильнике, распустил кушак, отложил в сторону кинжал и свернулся калачиком на постели своей госпожи с таким видом, словно оказался в своей собственной спальне. Чувство облегчения, овладевшее мною, было столь велико, что я почти сразу же провалился в сон. Не думаю, чтобы прежде я спал так крепко.
Утром, едва открыв глаза, я поспешил убраться к себе в комнату. Моя постель была несмятой, одеяло аккуратно застелено, словно на ней в эту ночь никто не спал, но в воздухе еще витал явственный, хотя и едва различимый аромат любви, такой неожиданный для комнаты, где живет евнух. Я распахнул окно, и оно открылось как-то удивительно легко и беззвучно – как перед рассветом выпадает роса. Соловей улетел, уступив место жаворонку.
Еще никогда мне не доводилось видеть, чтобы моя госпожа так лучилась радостью, как в тот момент, когда я откинул занавеси, помогая ей сесть в носилки. Впереди нас ждал долгий путь домой. И то, что эта ночь была первой и последней в ее жизни, уже не имело никакого значения. Она была любима, она провела ночь в объятиях своего возлюбленного, и это было больше, чем она когда-либо смела надеяться. Должно быть, наши гостеприимные хозяева даже почувствовали ту радость, которую Эсмилькан никак не могла скрыть, – на лицах их была явственно написана обида, хотя, соблюдая приличия, они и вышли нас проводить. А Эсмилькан, по-видимому, ничего не замечала. Счастье, переполнявшее ее, неистово требовало выхода, и она запела. Ее нежный голосок, эхом отражаясь от стенок паланкина, вырвался наружу, и даже носильщики зашагали веселее. Не сомневаюсь, что слышал его и Ферхад. Под предлогом обычной утренней прогулки верхом он вызвался проводить нас до городской стены.
Хорошее настроение, овладевшее моей госпожой, передалось и всем нам, и служанкам тоже. Обошлось даже без обычных споров и ссор, что неизбежно происходит, когда женщины, запертые в тесных носилках, вынуждены по многу часов подряд изнывать от скуки.
«Что бы ни случилось впредь, – думал я, – чем бы это ни закончилось, я никогда не пожалею о том, что сделал».
Но, как говорится, всему приходит конец, и безоблачное настроение, как и хорошая погода, не могло продолжаться вечно. Однако этот раз, похоже, стал исключением, поскольку атмосфера все две недели, пока длилось наше путешествие, оставалась безмятежной, как погожий весенний день, – до того момента, как ее нарушило пренеприятное происшествие. Моя госпожа неожиданно почувствовала себя плохо, а потом и разболелась не на шутку. Мы сделали остановку, чтобы дать ей немного оправиться, но, несмотря на все наши заботы, ей так и не стало легче. Убедившись, что лучше ей не стало, Эсмилькан настояла на том, чтобы мы двинулись в путь. Пришлось подчиниться, но почти каждый час мы останавливали носилки, чтобы моя госпожа могла укрыться за одним из кустиков. Хотя она уже несколько дней почти ничего не ела, желудок ее постоянно бунтовал, снова и снова извергая наружу даже то немногое, что мы могли уговорить ее проглотить, даже если это был глоток простой воды.
Вначале я решил, что всему причиной не совсем свежая вода, которую Эсмилькан выпила случайно, но никто из нас не заболел, да и потом, стояла весна, и все ручейки вокруг были полны прохладной, свежей, ослепительно чистой воды, текущей с вершин гор, где еще не успел растаять снег. Так что до того времени, когда на страну обычно обрушивается эпидемия кишечных заболеваний, было еще далеко. Я терялся в догадках, не зная, что и думать, страшась даже представить себе, что скажет по этому поводу мой хозяин. Вместо очаровательной, свежей розы, которую я надеялся привезти ему из Коньи, на подушках в паланкине лежал бледный, засохший цветок, выглядевший так, словно провел весь путь где-нибудь в пыльной сумке, притороченной к луке седла.
Наконец мы добрались до Константинополя – на четыре дня позже, чем рассчитывали, судя по тому, с какой скоростью ехали вначале. Убедившись, что моя госпожа со всем возможным комфортом и заботами водворилась в свои старые покои, на женской половине дворца, я, тяжело вздохнув, собрался отправиться на мужскую его половину – с докладом хозяину. Я собирался сообщить ему не только о том, что моя госпожа благополучно вернулась домой, – предстояло также со всей возможной деликатностью дать ему понять, что сейчас она не в том состоянии, чтобы принять его у себя.
– Нет, нет, Абдулла, ты не должен ему этого говорить, – запротестовала Эсмилькан, когда я предупредил ее, что должен идти. – Наоборот, передай ему, что я буду рада увидеть его у себя в любое время, когда ему будет удобно меня навестить.
– Но, госпожа, – возмутился я. – Что вы говорите?! Вы так слабы, что едва стоите на ногах!
– И все равно я должна! И к тому же мне непременно нужно выглядеть здоровой и… и соблазнительной, насколько это возможно.
Не слушая моих возражений, она попыталась присесть и посмотреть на себя в зеркало. Наверное, на лице моем в этот момент отразились сильнейшие сомнения, потому что, перехватив мой взгляд, Эсмилькан вдруг рассмеялась.
– О Абдулла, неужели ты так мало знаешь о женщине, которую тебе доверили охранять, что даже не можешь догадаться, что она беременна?
– Госпожа! – изумленно выдохнул я, не веря собственным ушам. Немного придя в себя, я уцепился за единственную причину, позволявшую мне не поверить. – Но ведь раньше с вами ничего подобного не происходило!
– Надеюсь, это лишь подтверждение тому, что на этот раз мой ребенок останется жить. Я знаю это, Абдулла. Аллах услышал мои молитвы.
– И выполнил ваше заветное желание, позволив вам познать преступную любовь?
– Да, – без малейшего сожаления ответила она.
– Тогда вам действительно нужно как можно скорее увидеться с нашим повелителем. Да простит меня Аллах, даже сегодня ночью, если это возможно, иначе потом у него могут зародиться подозрения.
– Да, Абдулла, – кивнула Эсмилькан, не отводя глаза. В ее взгляде по-прежнему не было ни страха, ни сомнения. Словно мы говорили о совсем обычных делах.