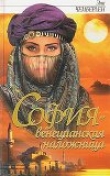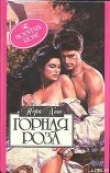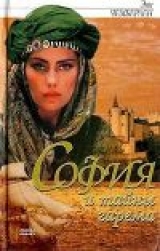
Текст книги "София и тайны гарема"
Автор книги: Энн Чемберлен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
XXV
В истории существовала еще одна Сафия – так звали одну из семи жен Пророка Мухаммеда. В гареме Софию Баффо нарекли этим именем, поскольку христианское имя, некогда данное ей при рождении, на слух звучит очень близко к арабскому имени Сафия. На арабском Сафия означает «прекраснейшая», и выбор, сделанный старшей женщиной в императорском гареме, должен был льстить обладательнице этого имени. Но на ее родном языке София означает «мудрость». Сказать по правде, я часто изумлялся этому сочетанию, этому соединению красоты и ума в теле смертной женщины, ведь в реальной жизни эту гремучую смесь по своей взрывоопасности можно сравнить разве что с поцелуем, которым обмениваются огонь и порох.
Никогда прежде не видел, чтобы женщина во время беременности держалась бы так, как Сафия. Каждая попытка Эсмилькан – и с каждым разом это становилось все заметнее – истощала ее силы так же, как какой-то уродливый паразит, поселившийся под корой дерева, высасывая его соки, лишает его жизненной силы. Думая все время только о ребенке и о том, как бы ненароком не причинить ему вреда, моя госпожа даже двигаться старалась осторожно – ни для чего другого у нее просто не оставалось ни сил, ни времени. И, как я уже успел убедиться, в эти дни она забывала даже обо мне.
Сафия, может быть, потому что была очень высокой, даже в это тяжелое время так до конца и не утратила своей гибкой, поистине змеиной грации, ставшей частью ее натуры. Хотя нынешнее положение Сафии обязывало ее ходить в длинных, застегнутых наглухо камзолах, оставляя только две верхние пуговки на груди расстегнутыми, округлившийся живот ничуть не портил ее фигуры, казалось, являясь столь же непременной и неотъемлемой ее частью, как и любая другая из его соблазнительных выпуклостей. Судя по всему, он нисколько ей не мешал. Она по-прежнему прекрасно владела собой, и к тому же теперь у нее оставалась бездна времени для того, чтобы обдумывать свои каверзы.
Так обстояли дела в тот месяц, который христиане именуют маем – для мусульман шла первая декада Дху И-Када девятьсот семьдесят третьего года от Хиджры [18]18
Хиджра – мусульманское летосчисление, счет ведется с момента бегства Пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.
[Закрыть] благословенного Пророка Мухаммеда. Благополучно доставив мою госпожу в губернаторский дворец, в Магнезию, и препоручив ее служанкам из гарема Сафии, я направил свои стопы в Босдаг, в расположение турецкой армии. Самой Софии не было в резиденции губернатора: после четырех дней Байрама, которыми по обычаю завершался Рамадан, она еще не вернулась. Несмотря на свое положение, София ни на день не покидала Мурада, а место самого Мурада, как легко было догадаться, было среди войск.
Наверное, не существует другого такого места на земле, где бы евнух чувствовал себя более не к месту, чем в военном лагере, разве что только на поле боя. Конечно, я знал, что некогда, еще во времена древних греков, подобные мне, случалось, даже вели войска в битву, но представить такое я лично не мог, как ни старался. Впрочем, я ведь говорил за себя, так что, могу вас уверить, в Босдаге мне было как-то неуютно.
Турецкая армия все еще стояла под Босдагом. Эти вооруженные до зубов люди, до крайности возбужденные, ждали только момента, когда им укажут врага. Причем чем скорее, тем лучше, еще до того, как они, словно разъяренные псы, вцепятся в глотку друг другу. В поисках Соколли-паши я пробирался сквозь толпы солдат, минуя один полк за другим. В каждом из них я называл имя моего господина, и мне указывали, куда идти – все ближе и ближе к центру урагана, будто ставка паши и была тем стержнем, вокруг оси которого вращалось все, что я видел вокруг.
Хотя осада Хиоса прошла без Великого визиря, война для него уже началась. Именно тут, в жаре и в пыли, в лагере, где царила суровая дисциплина, находился его дом. Но Соколли-паша оставался здесь не только потому, что это был его долг – нет, сюда всегда рвалось его сердце. И вот сейчас, пробираясь между солдатами, я чувствовал не просто обычную неловкость, которую испытывал каждый евнух, окажись он в подобном месте, а чуть ли не стыд, оттого что приходится оторвать Соколли-пашу от дел и просить его выполнить другой долг. Что-то подсказывало мне, что он, скорее всего, ответит мне отказом.
Оставалось только жалеть, что моя госпожа не желает, как прочие жены военачальников, терпеливо ждать, пока ее супруг сам не захочет нанести ей визит. К несчастью, хоть мы и добрались сюда, но мой господин и повелитель провел с Эсмилькан всего лишь четыре ночи в Магнезии – те же самые четыре ночи праздника Байрам, что и царственный брат моей госпожи Мурад провел с Сафией. Она добилась, чего хотела, но только для того, чтобы вскоре убедиться, что надежды ее вновь пошли прахом, и пасть жертвой еще горшего разочарования. Конечно, возможно, ей следовало бы набраться терпения и ждать, но и раньше бывали случаи, когда моя госпожа, отбросив ложную стыдливость и те строгие правила, в которых она воспитывалась, требовала то, на что имела право как принцесса крови. Сейчас был как раз тот самый случай. Поэтому я знал, что у меня не хватит духу ей отказать.
И вот я метр за метром пробирался вперед сквозь сплошное море вооруженных людей, понимая, что мне нечего сказать моему господину, кроме того, что госпожа моя, приняв ванну, ждет его к себе. Среди тех, мимо кого я шел, было немало таких, кто провожал меня неодобрительными взглядами, приглаживая длинные, спускающиеся до середины груди усы. Готов спорить, всем им было прекрасно известно, для чего я явился сюда. И это почему-то смущало меня до глубины души.
Однако я был твердо намерен сделать все, что в моих силах, чтобы помочь Эсмилькан добиться цели. Может, существовал и другой способ, но, к сожалению, я его не знал.
Наконец, я добрался до шатра командующего. Мне достаточно было одного только взгляда, чтобы отличить его от других – и не только потому, что он оказался в самом сердце лагеря. Исполинские размеры и богатая ткань шатра были заметны издалека. Ковры и плотная парча искуснейшей работы, сплошь затканные звездами, полумесяцами и стилизованными изображениями цветов, надписи из Корана, вышитые синими, изумрудно-зелеными, алыми и золотыми нитками, переплетались между собой причудливым, но изысканным узором и уже заранее внушали уважение, говоря о высоком происхождении своего хозяина. Колонны, поддерживающие его свод, украшенные замечательной инкрустацией из золота и перламутра, были достаточно высоки, чтобы любой великан мог стоять в нем во весь рост, не пригибая головы. О высоком положении моего господина говорили и семь конских хвостов, горделиво развевающиеся перед входом в шатер. Именно сюда и лежал мой путь, но пока я протискивался сквозь толпу просителей, три янычара, в своих ярких тюрбанах похожие на экзотические тюльпаны, преградили мне дорогу.
– Соколли-паша? – уже в который раз повторил я.
Не уверен, что мой голос проник в его ухо сквозь толстую ткань тюрбана: вокруг царил гомон. Правда, благодаря суровой дисциплине янычары всегда хранили молчание, но зато просители, плотной толпой окружавшие меня со всех сторон, вовсе не намерены были следовать их примеру. Шум стоял адский. Как бы там ни было, меня вежливо направили к другому входу в шатер, находившемуся с обратной его стороны, но там мне снова пришлось локтями прокладывать себе путь сквозь толпу.
Здесь толпа как будто была поменьше. К тому же, к моему величайшему изумлению и радости, у входа в шатер я вдруг увидел евнуха. Словно гора свалилась у меня с плеч. Не скрывая своего облегчения, я бросился к нему, только потом уже узнав в нем Газанфера, жуткого монстра, служившего Сафие. Сказать по правде, в присутствии этого существа мне всегда было не по себе.
– Твоя госпожа… – начал я довольно беспечным тоном, намереваясь для начала поболтать с ним о разных пустяках.
Но, к моему удивлению, он молча откинул полог шатра и жестом предложил мне войти.
Сафия Баффо уютно свернулась в клубочек между двойными стенами шатра, устроив себе нечто вроде гнездышка из ковров и подушек, которые, видимо, принесли сюда специально для нее. Фаворитка принца заняла все свободное место в шатре, вытянув длинные ноги и поудобнее пристроив выступающий живот. Заглядевшись на нее, я неловко споткнулся о завернувшийся угол ковра и едва не растянулся во весь рост. Это помещение было явно рассчитано только на двоих – на Сафию, и на ее еще неродившегося ребенка.
Но Прекраснейшая ничем не выказала своего неудовольствия при моем появлении. Глядя на ее просиявшее лицо, можно было подумать, что она до смерти рада меня видеть.
– Ах, Веньеро, это ты! Думаю, это тебя заинтересует. – Ее сочные губы раздвинулись в улыбке.
Подтянув ноги к животу, Сафия жестом показала мне на освободившуюся подушку, предлагая сесть рядом.
– Я ищу моего…
Но Сафия, не дожидаясь, пока я объявлю о цели моего прихода, решительным жестом закрыла мне рот ладошкой.
– Что это за место? – испуганно прошелестел я на родном для нас обоих языке, как только она, убрав руку, дала мне возможность заговорить.
Сафия предостерегающим жестом приложила пальчик к губам.
– Око султана, – беззвучно выдохнула она, едва шевеля губами. Потом, тихонько повернувшись, кончиком окрашенного хной пальца осторожно раздвинула портьеры у нас за спиной, так что в них образовалась крохотная щелочка.
Дыхание у меня перехватило: прямо перед собой я увидел сидевшего ко мне спиной моего господина и повелителя.
Насколько мне было известно, в этот день Диван Великого визиря принимал иноземных послов. Вся сцена, рассчитанная на то, чтобы поразить их воображение, разумеется, была тщательно подготовлена. Можно было не сомневаться, что, вернувшись к себе, послы тотчас же примутся строчить испуганные послания своим монархам, расписывая могущество и силу турецкого султана.
Шорох, раздавшийся в тишине, заставил меня очнуться – так пробежавшая по воде рябь дает рыбаку понять, что на глубине происходит что-то непонятное. Вздрогнув, я заставил себя прислушаться.
– Я протестую, господин визирь, – заявил самый молодой из венецианских послов, делая вид, что не видит угрожающе нахмуренных бровей своих товарищей. – Когда нас пригласили сюда, я считал, что мы предстанем пред очи самого султана. А вы всего лишь его визирь.
Лицо его неожиданно показалось мне знакомым – пухлое, круглощекое, даже немного женственное. Мне не составило особого труда вспомнить, где я видел этого юношу. Именно он когда-то явился в Константинополь передать послание отца Сафии, в котором тот предлагал огромный выкуп за свою дочь. Но я видел его и раньше… Внезапно перед моими глазами встало то же лицо, прикрытое черной бархатной маской и как две капли воды похожее на мое собственное, которое я видел в зеркале. Карнавал! Итак, подумал я про себя, за минувшие четыре года парень сделал неплохую карьеру. Я помнил его еще мальчишкой на побегушках, когда сновал из одной лавчонки в другую на рыночной площади, и вот теперь вижу его среди почетного посольства, явившегося сюда засвидетельствовать уважение турецкому владыке. Скорее всего, парень принадлежит к настолько уважаемой венецианской семье, что за его карьеру можно не волноваться.
Черт, но как же его зовут, сморщился я. О да, конечно Барбариго!
Не иначе как юный Барбариго получил к этому времени какие-то вести, иначе он никогда не решился бы заговорить. Что ни говори, но он находится не в Кремле или при дворе каких-нибудь диких варваров вроде московитов, а в стране с самым суровым и древним этикетом в мире. И тем не менее даже это не заставило его прикусить язык.
– Я вовсе не хотел вас оскорбить, – тут же поспешил извиниться Барбариго. – Но прежде султан Сулейман всегда принимал нас самолично. А жители Венеции, узнав о слухах, которые ходят о здоровье Великого Турка, желали бы услышать об этом из его собственных уст.
С того места, где я сидел, мне было видно только верхушку белого тюрбана моего господина. Но я мог без труда представить себе выражение его лица – в особенности ту тонкую, свойственную только ему ироническую усмешку, с которой он выслушал подобную дерзость.
– Но сейчас вы находитесь в присутствии его султанского величества, – заявил Соколли-паша, своим длинным пальцем указав куда-то чуть выше того места, где притаились мы с Сафией. – Узрейте, – величаво и высокопарно продолжал визирь, – сие есть Око султана!
Юному Барбариго пришлось довольствоваться этим.
В Константинополе Око султана было непременным атрибутом власти – небольшая, скрытая от посторонних глаз ниша в стене, сделанная по особому повелению Сулеймана. Как гласили легенды, Хуррем-султан, его законная и самая любимая жена, часто сидела там – рядом со своим обожаемым повелителем.
Интересно, догадывался ли Соколли-паша, кто там находится на самом деле? Впрочем, очень возможно, что и нет; насколько я мог судить, он никогда особенно не интересовался делами и интригами гарема. Думаю, мой господин вполне искренне считал, что ниша у него за спиной пуста, и его слова были просто данью обычаю. Могу поспорить, узнав о нашем присутствии, он приказал бы окурить это место, как садовник окуривает сад, чтобы избавить деревья от гусениц.
И тут произошло нечто такое, отчего и Соколли-паша, и посольство с юным Барбариго мигом вылетели у меня из головы. Одного упоминания паши о недремлющем Оке султана оказалось достаточно, чтобы Сафия вдруг встрепенулась. Вскинув голову и горделиво расправив плечи, она и впрямь, должно быть, вообразила себя на месте всемогущего султана, забыв о том, кем была на самом деле – всего лишь ничтожной рабыней, матерью его будущего наследника.
Широко раскрыв глаза, я изумленно наблюдал за этим невероятным созданием. Закутанная в тончайшие, изысканные шелка грациозная фигурка, которую нисколько не портил даже большой живот, пленяла глаз, как спелое, наливное яблочко. Но как даже в самом спелом яблоке может скрываться червяк, так и в ней угадывалось нечто глубоко извращенное, пугающее. Вот и сейчас Сафия смотрела на юного венецианца, и на губах у нее играла знакомая удовлетворенная, чуть похотливая улыбка, не имевшая, однако, ни малейшего отношения к чувственности, поскольку Сафия всегда желала только одного – власти. И того, что может дать ей в руки эту самую власть.
– Смотри, что будет дальше, – чуть слышно пробормотала она, но сказано это было не мне и не молодому венецианскому послу; скорее уж всему остальному миру. Или, вернее, это был вызов, брошенный самому Господу Богу, как еще одно свидетельство того, что она отказывается Ему повиноваться.
– Я все сделаю в точности, как она, – объявила Сафия. Но прежде чем я успел поинтересоваться, кто эта таинственная «она», уже получил ответ на этот вопрос. – Ну нет, я постараюсь даже превзойти Хуррем-султан, несмотря на то что она была возлюбленной самого Сулеймана!
Только тогда я со всей очевидностью понял, наконец, что тоска по родной Венеции никогда не преследовала Сафию во сне, как других рабынь, кто хоть однажды видел свет среди паутины ее причудливых каналов и вырос, ощущая на своем лице соленый морской бриз. Для Сафии Венеция навеки осталась городом, считавшим ее всего лишь глупенькой, упрямой девчонкой, которая могла бы стать женой какого-нибудь крестьянина, чтобы прозябать с ним на Корфу. Венеция стала местом, где Сафия была бы обречена коротать свои дни за шитьем. Но здесь, в Турции, укрывшись за занавесью, отделяющей гарем от всего остального мира, она могла оставаться невидимой, и ни одна живая душа никогда бы не узнала, что за женщина приложила свою руку к колесу судьбы.
Естественно, молодой венецианский посол не мог знать ее мыслей, однако со всем дипломатическим тактом он позволил выставить себя дураком перед всевидящим Оком султана – куда большим дураком, чем если бы со всеми подобающими церемониями отбыл сражаться в Венгрию.
Я смотрел, как слуги в малиновых с золотом тюрбанах вымыли послам руки и затем, как положено было по этикету, окурили их благовониями. После чего в шатер принесли горы всяких яств: зажаренных целиком ягнят и индеек, жирных голубей, покоившихся в гнездышке сочившегося маслом риса, желтого от добавленного в него шафрана или же розового благодаря тому, что его щедро пропитали гранатовым соком. И все это великолепие красовалось на золотых блюдах толщиной с драхму.
– Тот, который помоложе, – снова заговорила Сафия. – Не сам bailo, а его помощник. – Женщины имеют дурное обыкновение разговаривать со своими евнухами на таком условном языке, который понятен только двоим. Никаких дополнительных пояснений при этом не требуется, а тот, кто случайно оказывается свидетелем подобного разговора, неизменно чувствует себя при этом незваным гостем.
– Единственный, с кем это пройдет, – лаконично добавила она. – Я видела его глаза, он идеалист. И к тому же ему не терпится…
Как и вдох, ее мысль оборвалась на полуслове, и Сафия, не договорив, тяжело оперлась на руку Газанфера.
– Повитуху, госпожа? – пробормотал Газанфер с тем же выражением на лице, которое бывает у человека, когда он возносит небесам молитву.
– Повитуху, мой лев, – услышал я ответ.
XXVI
– Повитуху? – заикаясь, пролепетал я. Онемев от изумления, я смотрел, как могучий евнух, легко, словно перышко, подхватив свою госпожу на руки, усадил ее в стоявшие неподалеку носилки.
Превозмогая терзавшую ее боль, Сафия обернулась ко мне и через плечо уносившего ее великана смерила злым взглядом.
– Честное слово, по-моему ты еще глупее, чем все остальные кастраты! – раздраженно буркнула она. Но была ли ее злость вызвана моей непонятливостью или же причиной стало ее состояние? – Или ты забыл, что султан, наш господин и повелитель, вот-вот станет дедушкой?
В ее устах это прозвучало так же обыденно и просто, как если бы она сказала: «У султана нынче на обед будет плов».
– А это значит, что Айва должна постоянно быть под рукой. Понятно?
– Конечно, – все еще запинаясь, пробормотал я. – Аллах да благословит священную кровь Оттоманов.
– Нет, подожди… – Вцепившись в могучее плечо евнуха, Сафия сделала глубокий вдох и только потом собралась с силами снова заговорить. – Беги за ней сам, слышишь, Веньеро? Не хочу быть одна. Пусть Газанфер побудет со мной, пока она не придет.
– Конечно, госпожа.
– И, Веньеро…
И прежде чем великан Газанфер опустил занавеску доверенных его попечению носилок, его громадная голова склонилась к губам Сафии. Несколько едва слышных слов, которые мне не удалось разобрать, легкое движение белых изящных пальцев, и она снова повернулась ко мне.
– И этот помощник bailo… отыщи его, Веньеро, хорошо?
– Я?! – На самом деле совсем другие слова замерли у меня на языке: «Не принца? Не Великого визиря? Никого из самых знатных и могущественных людей страны?»
– Да, ты. Ты ведь еще не разучился говорить на его языке, не так ли?
– Попробую. И что же мне сказать молодому Барбариго?
– Вели ему прийти. Отыщи Газанфера и сообщи ему, когда он явится. Этого достаточно. Ты понял?
– Хорошо, госпожа.
– Что дурного, если я пошлю за католическим священником, чтобы он благословил мое дитя, когда он появится на свет?
«Да ничего», – согласился я, но на всякий случай решил промолчать. В конце концов, приказывала мне не кто-нибудь, а София Баффо, а ей, как я уже успел убедиться, прощалось такое, за что любая другая из обитательниц гарема давно лишилась бы головы.
Отбросив прочь сомнения, я ринулся выполнять первое из ее поручений. Второе, решил я про себя, пока подождет. Да и потом, что за дело молодому венецианцу до того, что дочь Баффо попала в султанский гарем? Не все ли ему равно, что она вот-вот произведет на свет чудесного, здорового малыша?
Вместо этого я отправился к своему господину – передать ему привет и пожелание своей госпожи. А вот чего я ему не сказал – хотя весть об этом уже успела разнестись по всему гарему, – так это что Сафия благополучно разрешилась от бремени после родов, продлившихся всего три часа и не причинивших ей практически никаких мучений. На следующий день она уже была на ногах и рвалась снова пробраться в укромный уголок, называвшийся Оком султана, хотя Айва строго-настрого запретила ей это.
Узнав новость, Соколли-паша, не медля ни минуты, распрощался со счастливым отцом, свернул свой лагерь и отправился в Европу. Он даже не счел нужным заехать в Магнезию и попрощаться с женой, хоть и знал, в каком она горе. Как бы там ни было, вскоре до нас донеслась весть о том, что вся султанская армия соединилась в Пазарджике. Великий визирь поздравил султана с рождением правнука – «который приветствует вас, господин», – и султан лично повелел дать мальчику самое мусульманское из всех мусульманских имен – Мухаммед.
При первой же возможности повитуха собрала молодую мать и новорожденного принца, приставив к ним трех или четырех специально обученных служанок, и выпроводила их в Магнезию. Я слышал собственными ушами, как она, недовольно качая головой, бормотала сквозь зубы:
– Родить наследного принца в армейском лагере! Клянусь Аллахом, будто какая-то шлюха из тех, что таскаются за солдатами!
Наконец Эсмилькан получила возможность увидеть своего маленького племянника. И хотя в глазах у нее стояли слезы, она играла и не могла наиграться с ним. В эти дни она, по-моему, нянчилась и возилась с ним куда больше, чем любая из его нянек. И уж, конечно, больше, чем сама Сафия. Та, почти не замечая ребенка, молча металась из угла в угол, словно львица в клетке. Насколько я помню, она вообще один-единственный раз упомянула о сыне: Прекраснейшая, внезапно вспомнив об инкрустированной самоцветами люльке, в которой всегда качали отпрысков королевской крови, посетовала, что та осталась в Константинополе.
– В его честь закололи пять баранов, – сказала Эсмилькан, пытаясь утешить подругу. – И не только здесь, но в каждом районе столицы. Со стен Константинополя семь раз палили пушки. Представляешь, целых семь раз! А когда родилась я – всего три!
– Ах, а я была тут и не слышала всего этого! – Сафия, окончательно выведенная из себя, вдруг ни с того ни с сего накинулась на повитуху. – Идиотка несчастная! Как ты могла забыть про люльку?! – вопила она. – Ну и что нам теперь без нее делать? Еще чего доброго, люди и впрямь примут его за ублюдка какой-нибудь шлюхи!
Наступило гробовое молчание. Айва и ухом не повела, словно не слышала. Не обращая ни малейшего внимания на ярость Сафии, она взяла с тарелки еще одно печенье и невозмутимо сунула его в рот.
– По-моему, он совершенно обычный. Ничем не отличается от других детей, – заметила Сафия, не сделав ни малейшей попытки подойти к сыну. Все это время она вообще старалась держаться от него на почтительном расстоянии.
– Машалла! – только и смогла пробормотать Эсмилькан, хотя в ее словах я не почувствовал ни малейшего осуждения в адрес новоиспеченной мамаши. Впрочем… Вполне возможно, ей припомнилось старинное суеверие, что не стоит хвалить новорожденного, так и сглазить недолго, – уж лучше обругать бедняжку последними словами. И поскольку у нее явно язык не поворачивался сказать что-нибудь в этом роде, она принялась усердно твердить: «Чеснок, чеснок», стараясь такой присказкой отвести дурной глаз.
После этого Эсмилькан уже не знала покоя: и сам малыш, и колыбелька, в которой его качали, да и вся комната очень скоро оказались заваленными соответствующими изречениями из Корана и кусочками голубого стекла. А уж сколько моя госпожа приказала принести сюда чесноку, это просто уму непостижимо! Всякий раз, произведя на свет своего собственного ребенка, она бывала слишком слабой, чтобы позаботиться об этом самолично – до того, как Аллах призывал ее долгожданного малыша к себе. Зато сейчас она решила позаботиться обо всем заранее.
– Веньеро! – окликнула меня Сафия. – Помощник bailo, – прошипела она по-итальянски, уже в который раз напомнив мне о своем поручении.
– Помощник bailo? Что это значит? – удивленно пробормотала Эсмилькан. Оказывается, она вовсе не так уж замечталась, любуясь тем, как юный принц, не просыпаясь, справляет свою нужду, и расслышала вопрос Сафии – тот самый вопрос, который сам я постарался не услышать. Оказывается, даже этот неожиданный прилив материнских чувств не изгладил из ее памяти те немногие итальянские слова, которым я успел ее научить.
Поэтому, когда мы остались с Эсмилькан одни и моя госпожа, как я и надеялся, изрядно устав от хлопот с малышом, прилегла, я, воспользовавшись ее кратким отдыхом, все ей объяснил. Сафия, уже почувствовав приближение родов, дала мне еще и второе поручение. К моему величайшему удивлению и, признаться, неудовольствию. При этих словах госпожа подпрыгнула, как ужаленная, и велела рассказать обо всем подробнее.
– И ты так и не знаешь, зачем ей вдруг понадобился этот Барбариго? Ты даже не удосужился отыскать его? – возмутилась Эсмилькан с таким обиженным видом, словно я решился проигнорировать ее собственный приказ.
– Она хотела, чтобы ребенка окрестили, по крайней мере она так сказала.
– Ну и что, по-твоему, в этом дурного? – напустилась на меня Эсмилькан. – Да будет на то воля Аллаха, со временем ему, конечно, сделают обрезание, как и положено у правоверных. А сейчас пусть окропят святой водой. Священный кинжал позаботится о том, чтобы малыш рос в истинной вере.
«Да, как он позаботился об этом, когда речь шла обо мне», – с горечью подумал я, но предпочел оставить свои мысли при себе.
Но моя госпожа не успокаивалась.
– Ах, Абдулла, неужели же ты не заметил, как расстроена бедняжка Сафия?
– Почему не заметил? Заметил, конечно.
– И у тебя хватает жестокости отказать в такой малости молодой матери? Неужели тебе не хочется сделать ее счастливой?
– Такое под силу только Аллаху.
И хотя моя госпожа не сочла нужным спорить со мной, но и отступать она, по-видимому, тоже не собиралась.
– Гарем, – заявила она, – и создан-то был, собственно говоря, лишь для того, чтобы надежно скрывать от посторонних глаз некоторые противоречия, ставшие следствием тайных женских желаний. Он скрывает такие вещи, которые требуют особой деликатности, потому что иначе можно больно задеть чьи-то чувства.
В конце концов, я сдался и отправился выполнять поручение.
Если не считать пушечной пальбы и жалобного блеяния жертвенных баранов, которых волокли на убой, о причинах чего по-прежнему пребывавшие в Магнезии венецианцы могли, естественно, лишь догадываться, то первым, кто сообщил им о радостном событии и о появлении на свет долгожданного наследника, оказался я. Ибо, как я уже говорил, то, что происходит в гареме, не для ушей чужеземцев.
Но еще до того, как я успел открыть рот, оказавшись лицом к лицу с молодым Барбариго, на меня волной нахлынули чувства. Слишком уж много чувств, как я решил тогда. Глядя на него, я внезапно вспомнил, что мы когда-то смотрели друг другу в глаза и лица наши были скрыты масками. Это случилось незадолго до того, как мне удалось расстроить его планы, помешав ему сбежать с дочерью Баффо, а решился я на этот шаг только потому, что побег навлек бы позор на всю мою семью. Я вспомнил все его глупые, напыщенные оскорбления, вспомнил, как он грозил мне гневом своего могущественного отца.
Неимоверным усилием воли задушив в своей груди это чувство, чтобы избежать стыда, я низко опустил голову, прежде чем заговорил. Вот и опять, как в прошлый раз, мне снова приходится скрывать свое лицо, решил я и обратился к нему на чистейшем турецком:
– Молю тебя, передай своему хозяину Баффо, что он недавно стал дедом. И скажи ему, что он может не беспокоиться за свою дочь – и она сама, и его первый внук здоровы и счастливы.
– Клянусь святым Марком, подумать только! – воскликнул потрясенный юноша, но в голосе его не было и намека на то смятение чувств, которое должна была вызвать в нем подобная новость – учитывая тот шум, который она произведет у него на родине. – Итак, турками будет править христианин! Сын венецианской девчонки из монастыря! Вот это да! Да, это, пожалуй, послужит делу христианства куда больше, чем все войны, которые тянутся веками!
Схватив мои руки, молодой человек стиснул их с такой силой, что я почувствовал, как его многочисленные перстни (скорее вычурные, чем изысканные) сквозь ткань рукава больно впились мне в руку.
– Турки, – напомнил я ему, – считают, что все люди на земле рождаются мусульманами. Так что в том, что часть из них растет потом в ложной вере, виноваты только их родители.
Андреа Барбариго скорее всего так и не смог разгадать истинную натуру Софии Баффо. Иначе он давно уже сообразил бы, что ничто не лежало дальше от ее планов, чем идея насаждения христианства в Оттоманской империи. Она родила ребенка, здорового, крепкого малыша, больше того – сына. Но куда важнее, во всяком случае, в ее собственных глазах, было то, что в нем текла кровь Оттоманов и он стал наследником трона могущественнейшей державы в мире. Больше Сафию ничто не волновало.