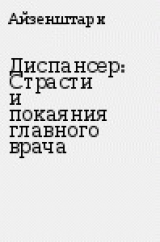
Текст книги "Диспансер: Страсти и покаяния главного врача"
Автор книги: Эмиль Айзенштарк
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 29 страниц)
Возле самой церковной стены на площадке стояла какая-то фантастическая транспортная единица. Это был замызганный велосипедик с притороченной к нему сбоку грандиозной грузовой коляской – тоже на колесиках. Сразу было видно, что крошка-велосипед эту приспособленную к нему махину не потянет, хотя и с моторчиком. Легкие тоненькие колеса под здоровенной грузовой платформой, наивные велосипедные спицы придавали всему экипажу характер неслыханный, марсианский, как бы намекая, что до местной психбольницы уже недалеко… И действительно, вскоре мы заехали на очередной косогор, наполовину перегороженный больничным забором. Здесь, в служебном сарае, сантехники разыскали сварочный аппарат, погрузили его ко мне в багажник, и мы поехали назад.
И опять грелся мотор, и снова мы останавливались, чтобы остыть. На очередной такой остановке послышался отдаленный какой-то треск или даже гром.
– Технарь едет, – сказали сантехники.
– Уж не тот ли это велосипед с грузовой платформой?
– Вот именно.
– Да как же он ее тянет, такую махину?
Они загалдели:
– Не пустую! Не пустую! Три тонны травы технарь в коляску наваливает и волоком еще…
– Это невозможно, – сказал я.
Они засмеялись.
– У него коляска ведущая, она и велосипед тянет.
– Ага… вот оно что… – растерялся я, – впрочем, велосипед зачем тогда, для красоты, что ли?
– А на велосипеде он сам сидит. От грязной травы, значит, отдельно, вообще от грузов, и управление легче, и равновесие… Да вы за технаря не волнуйтесь, не сомневайтесь! Грохот нарастал. Сантехники сказали:
– Сначала дым возникает, дорогу заволокет, а потом его колесница покажется.
Так и случилось. Где-то в перспективе ландшафта клубами-завесами встала зеленая мгла, и в дальнем громе выкатила из горизонта само беглая эта телега. И пошла, хоть на малой скорости, а легко и свободно по косогорам и рытвинам деревенской этой жизни, по размытой земле, как по дороге накатанной и удобной. У меня вырвалось:
– Ух, ты!
– То-то, – сказали сантехники, – технарь едет.
– Он что, местный?
Мужички-сантехники ответили:
– Не, иногородний он, а сюда попал по случайности жизни.
Перебивая и дополняя друг друга, они начали рассказывать. Этот мужик образования никакого не имеет, но технарь от Бога. И на войне техником, говорят, служил в авиации. Демобилизовался он, вернулся к себе в колхоз, и снова по технической части мараковал, чудеса творил даже. От этих чудес и пошли в его жизни события… Вообще-то история у него интересная.
– Интересная?
– Ну да. Он же трактора начал восстанавливать с кладбища.
– С кладбища?
– Ну, забытые людьми и Богом трактора, которые, в общем, из строя вышли.
– Списанные?
– Да черт их поймет, у алкашей этих – списанные, переписанные… в степи лежат, отходили свое…
– Ну-ну, – говорю, – дальше что?
– А дальше, значит, он поколдовал и оживил покойничка, пошел трактор своим ходом, и начал технарь людям участки пахать, за плату, конечно. Все довольные, и приусадебное хозяйство развиваться пошло, но тогда это не модно было. И пришел, как водится, председатель колхоза и говорит:
– Отдай казенный трактор!
А технарь ему:
– Это моя машина, я восстановил…
– Ничего не знаю, – сказал председатель, – трактор колхозный.
И отобрал-таки. Тогда забрался технарь далеко в степь и откопал самого уже древнего и ржавого мертвяка. Люди смеялись от этой развалины, а технарь колдовал, крутил, мастерил что-то, и пошла машина опять, и снова начал он приусадебное пахать. И по новой тут председатель пришел и говорит:
– Отдавай, трактор казенный, ничего не знаю…
Обалдел технарь и топор схватил. Говорит – не подходи, рубить буду тебя… Но председатель не испугался и пошел на него. А технарь его рубить не стал и топор в сердцах на землю кинул. И, представьте, этим кинутым топором он председателю туфлю рассек и в пятку попал. И ушел председатель с порубанной пяткой, с поражением, и авторитет его пострадал. Конечно, он это так не оставил, и вместо себя послал милиционера – технаря брать. А тот вышел, веселый такой, спокойный и говорит:
– Берите, кто смелый, только я бомбами увешанный, и взрыватель вот автоматический, гляньте! Все вместе и взлетим, а жить мне уже не охота…
Отступились милиционеры, и тоже их авторитет пошатнулся, но это на первых порах только, а вообще ж и они не лыком шитые. Они после с женой технаря тайно сговорились. И она его ночью заласкала, зацеловала и разрядила. А сама – шасть в сени, вроде бы за малой нужной.
– Берите, мол, пока разряженный, безопасно…
В общем, продала она его, понимаете?
– Понимаю, – говорю, – это я хорошо знаю. Дальше что?
– Дальше просто. Навалились, на сонного, руки-ноги в железки, и в кутузку его. Потом суд.
– Что же, срок припаяли?
– Не, вместо этого сюда вот определили – в психбольницу для хронических. Судьи видят – человек не в себе, в ажиотаже, трактора собирает на кладбище машин, чегой-то строит из них, еще динамитом обвешивается и пятки рубает.
Словом, они спровадили его сюда, в нашу больницу.
Рев двигателя, между тем, усиливался, фантастический экипаж постепенно приближался к нам. С нарастающим любопытством смотрел я вдаль на эту машину, стараясь разглядеть седока.
– Что же в больнице сделали с ним?
– Ну, сперва подлечили, конечно, потому как он и впрямь был не в себе поначалу. Потом оклемался, врачи его выписали, он здесь осел, женился, дом построил, хозяйство завел. У него коровы, козы, свиньи, куры. Да чего только нет, разросся он. Ну, да это уже потом, когда приусадебное в гору пошло в официальности, значит. Траву, знаете, косилкой своей конструкции режет, сам ее, конечно, слепил, поилки у него всякие автоматические, приспособления хитрые. Профессора до него ездиют – учатся, усваивают. Двигатель, говорят, вот сделал неслыханный какой-то, а может, и вечный, черт же его разберет. А еще с ним был такой случай забавный. Врачи определили его машинистом насосной станции к артезианскому колодцу на 80 рублей в месяц. Водопровода же у нас нет. А вода в колодце то приходит, то уходит, следить надо. Ежели пришла – сразу качать и емкость впрок заливать. Технарь, значит, автоматику поставил, а сам ушел. У автомата рабочий день – круглые сутки, не чешется он и водку не пьет, а воду стережет и качает исправно. Вздохнули мы. Только ему сказали:
– Зарплату с тебя снимаем.
Он возмущается: почему?
– Так тебя же на рабочем месте нет!
– Какое ваше дело?! – он кричит. – Я воду вам даю, да
еще и круглые сутки, не восемь часов – рабочий день.
Они говорят.
– Тебя на рабочем месте нет, контролер придет, кого мы покажем – автомат, что ли?
– Вы ему воду покажите! – кричит он, – вам же вода нужна!
– Слушай, – они говорят, – может, ты и впрямь сумасшедший, выходит, не долечили мы тебя.
– Это вы сумасшедшие, – он им кричит, – это – ВЫ! Это – ВЫ!!! Вам же не я нужен, вам же вода нужна!
Пустой разговор. Сняли с него зарплату, уволили. Он автомат свой забрал и ушел. Не стало воды. И машиниста другого поставили, а вода не пошла. Пришлось к нему опять идти за ради Бога: без воды больнице никак нельзя, уж легче от ревизора ускользать…
– Это верно, – я сказал, – и дураку это ясно.
И еще спросил:
– А он вернулся?
– Конечно. Ему деньги не лишние. Автомат свой поставил и снова больница с водой.
– Послушайте, ребята, а может, этому технарю тоже бы доску привесить где-нибудь, что находится он под защитой и охраной государства, как нужная ценность, вроде той церквушки генеральской с отбитым куполом?
– Купола ему, понятно, отшибли во время свое, – сказали они, – однако же, ныне и времена изменились. Хозяйство у него громадное, так ведь и это даже приветствуется и никто не мешает, ясное дело. Хотя и был такой случай, думали ему палку в колесо ставить, да не получилось опять у них…
– А что за случай? – спросил я на фоне нарастающего грохота, который был уже близко.
– Ну, местные власти хуторские решили электричество ему отрезать. У него же станки всякие, моторы самодельные, приборы хитрые, и все энергию берет. Порча электричества получается. Отрезали, значит, кабель, обесточили. А он, технарь, тут же генератор себе сварганил, на мазуте работает. Еще цистерну здоровую сварил, коммуникацию сделал и все разом во двор поставил. За горючим на телеге этой мотается. Привезет, зальет полный бак, генератор включает и горя не знает. Иной раз и в хуторе света нет – перебои же, а у него завсегда электричество.
Тут рассказчики мои запнулись, все пространство около нас завалило гарью, и ведомая мужиком огненная колесница со свистом и грохотом прошла у нас по левому борту. Мужик обернулся, и в дыме выхлопа лицо его прояснилось вдруг. Грозовое оно, веселое, а в глазах окаянных сварка ослепительная, но за стеклом как бы туманным, защищающим, по ту, стало быть, сторону, и неопасно для нас пока. И бороденка еще клоком вперед и наверх задрана, с нахалинкой, даже вызывающе. А сам боком сидит, как амазонка, на седлышке велосипедном. А я все лицо его забыть не могу, вернее, не могу вспомнить, потому что вроде знакомо это лицо мне, где-то видел, что ли… Но где? При каких обстоятельствах? Так и не вспомнил по дороге тогда. И дома уже это лицо мучительно вылезало, напоминало, дразнило даже. Но не как лошадиная фамилия – из головы, а иначе совсем – из-под ложечки откуда-то, из средостения. А догадка пришла неожиданно – мотивом, музыкой, басом Шаляпина. «Ха-ха! Ха-ха!» Да никогда я не видел этого человека, а лицо его просто гремит в моей душе «Блохой» Шаляпинской. «Блоха? – Ха-ха-ха-ха!» А бороденка еще и в другую тональность уводит, что с ехидцей язвительной: «Блохе? Хе-хе-хе-хе. Хе-хе». И все вместе с колесницей, грохотом и дымом: «Ха-ха… Ахх-ха-ха-ха Ха… ха».
Впрочем, рассказ о технаре – это всего лишь вырванный из жизни кусок. А бытие (быт, бытуха) метут себе дальше, не подчиняясь законам жанра. И понедельник сразу наваливается загадочной толпой в приемной, телефонными звонками-молниями, ценными указаниями с нажимом и солидной почтой. Бумаги, конечно, в корзину. Только сперва прочитать и осмыслить: иной раз там ядовитенькое что-то, цепучее, опасное. И не сразу поймешь – затаенное бывает.
…И припадочный малый, придурок и вор мне тайком из-под скатерти нож показал…
В ухо кричат посетители и шепчут, говорят темно и возвышенно, чего-то просят и требуют, тянут, высверливают. И у каждого свой приемчик. Времени мало, а и здесь не оступись, чтоб не нарваться не на того. И все же быстрей! Мимо! Мимо! Зовут на обход, перевязки еще. Кого к операции на завтра? Предупредить анестезиолога. Это новый наш совместитель. Он хочет ко мне на работу насовсем. Только брать нельзя. Очень конфликтный. Его оттуда гонят, не дождутся. У нас – пришел, ушел. И нет его: сторонний же человек. А как будет в коллективе насовсем? Кто-то протестует, кто-то ежится.
– Хоть внутри тишина, – говорят, – ее сберечь бы!
А тот за горло:
– Не возьмете на ставку, уйду совсем, брошу вас, оставлю!
Тогда – труба нам. Без наркоза пропадем совсем, остановимся. Удержать его надо, но не допустить близко, на поводке его, на расстоянии. В общем, решение надо отложить, оттянуть, а там видно будет. Только вот линию нужно определить, цепочку найти. Подумать бы хорошенько. Но не дают – бьет телефон под ложечку, посетители обложили, свои бегут – тоже срочные вопросы у них. Медицина, хозяйство, гражданская оборона, финансы, пищевые отходы, техника безопасности (инженер ТБ по прозвищу Чмырь тоже в приемной), стерильные растворы, аптека, сено (сколько сена мы заготовили?). Быстрей, быстрей, чтоб не задержали, чтоб не зациклили, чтобы в омут свой не затянули. Мимо, мимо! К делу добраться, оседлать, а там не остановят!
Посетителей раскалываю, отшелушиваю, объясняю, удовлетворяю. В темпе, в темпе. И вот бабка толстая, дворовая, окраинная. Глаз вроде подбитый, но это у нее от роду. Буровит отрицательное чего-то. А в голове у меня анестезиолог: завязывается хороший вариант, красивый сюжет. Молодец я, кажется… А что это бабка несет? Ага! Мужа не хочет брать домой.
– Пущай здесь лежит! И здесь помирает! Я сама больная, дворовые скажут. Рученьки вы мои, ой, рученьки же мои! – и толстые свои лапы тычет мне в лицо, к самому носу.
– Медицина здесь уже не поможет, – я говорю, – а у вашего мужа рак легкого с распадом и метастазами. Ему недолго осталось. Последние часы пусть дома проведет, с вами. Лекарства ему уже не нужны, ему ласка нужна, внимание, любовь, участие… У нас санитарка одна на семьдесят человек, а ему чаек сладенький, тишина, подсадить на подушки, покормить вкусненьким…
– Да не могу ето, не буду! – орет она, и в глазах у нее упорство. А на морде у нее – нутро.
– А когда муж был здоровеньким, он тебе нужен был? – нажимаю я, – а как больной, так ты и отказалась, бросила, бессовестная! Жизнь ты с ним прожила, а сейчас перед смертью самой – продала человека! Мужа своего продала, – сокрушенно я завершил и положил голову на ладони. И оттуда, из-под низу уже тише, но убедительно и проникновенно:
– Обязана ты его досмотреть, мужа своего, обязана! Понимаешь?
– И не обязанная, не обязанная! И не муж он мне! Не муж!
– А кто он тебе?
– Сын.
– Сын?!!! Ах! Ты…, ты…, как…
Задыхаюсь, кровь гудит, виски колотит. Скороговоркой:
– Встань, встань, зараза! Вон отсюда! Убирайся, тварь!
Она пятится и тоже мне речитативом:
– Ваше дело говорить, мое дело слушать…
Дверь захлопнулась. Мимо! Мимо! Чтоб мимо сердца, мимо души, чтоб не пораниться. Там же больные, перевязки, обход… Туда!
В пятой палате сразу успокаиваюсь. Мне улыбается Климачева. У нее был тотальный рак грудной железы справа и сплошной раковый лимфангоит слева, и множественные панцирные высыпания на коже, и я уже сам себе не верю, но она сейчас (по крайней мере, сейчас!) совсем здорова. Занимались ею, можно сказать, экспериментально, придумывали, пробовали, оперировали. Она долго лечилась у знахаря и поэтому запустила болезнь. В области ее смотрел консилиум, ей уже выписали морфий, и она написала завещание. Это моя огромная победа, радость и стабилизация. Я наклоняюсь над ней, она шепчет:
– Я в соборе поставила свечечку за вас…
Так, здесь нужно остановиться, послушать, подзаправиться и обрести.
Климачева прижимает ладони к груди и выплескивает из души: «Спасибо вам… спасибо… спасибо…». И мир снова входит в свои берега, и рабочий день продолжается.
Во вторник десять операций, а перед этим 70 человек в поликлинике: прием за Волчецкую. Она срочно уехала в область лично докладывать причины срыва плана по сдаче пищевых отходов. Теперь обход всех больных (Еланская в отпуске), а на подходах – во дворе, в коридорах, ловят, хватают за рукава, за халат!
– На минуточку…
– Разрешите…
– Подпишите…
– Позвольте…
– Помогите…
– Вернитесь…
– Дайте…
Мимо! Мимо! Минуя их, извиваясь и выскальзывая – в операционную! Двери захлопнуты. Все, теперь не догонят. Операции идут гладко, да они и не очень сложные сегодня. Правда, бабушка Малютина не совсем проста. Она поступила с четвертой стадией рака грудной железы. Эндолимфатическими инфузиями удалось резко уменьшить опухоль, теперь ее можно оперировать. Раковый инфильтрат все же плотной муфтой сел на подключичную вену. Анестезиолог смотрит сверху, хмыкает неопределенно – сомневается. Только ему не видно, что снизу, у меня под пальцами, есть ход – подход – выход. И я триумфально освобождаю вену. Оглядываюсь победно, это моя амбиция, других нет…
А на столе уже высокий, бессмысленный парень по прозвищу Асоциал. Он алкоголик и грубиян, ходит в крошечной белой кепочке набекрень, слушает только меня. Рак нижней губы с распадом и гноем. Анестезиолога уже нет. Ушел на срочную операцию в другую больницу. Гриша Левченко в отпуске, поселковые наркотизаторы уволились почему-то одновременно.
Анестезиолог теперь один на весь город – и ночью, и днем. Физически он силен – тянет, хоть и намекает на какие-то загадочные недуги, кокетничает.
Для этого Асоциала с губой он был бы очень кстати. А теперь придется под местной анестезией. Нужно иссечь нижнюю губу, продолжить разрезы за щеки, сформировать лоскуты, сдвинуть их к середине, ушить сзади, спереди и сверху – получится новая губа.
Асоциал дергается, ругается. Я кричу ему на испорченной блатной фене:
– Лежи, фраер, кусочник, у меня же перо в руке, не дергайся, понял? Я ж попишу тебя, юшкой умоешься!
Так, закончили.
Теперь молодая женщина тридцати лет. Громадная опухоль в подмышечной области. Консультировали в институте, подозревают синовиальную саркому, рекомендуют операцию по месту жительства. Опухоль легко вывихивается в рану и удаляется.
Операционный День закончен. И хорошее настроение. Можно передохнуть в кабинете. Перед уходом опять смотрю больных. Давление у бабушки Малютиной держится. Асоциал новой губой бормочет наподобие «спасибо». У других тоже порядок.
А у молодой женщины конечность на стороне операции холодная, и отсутствует пульс на лучевой артерии. Магистральный сосуд! Холодный пот у меня на лбу и под коленками. Слава богу, машина заправлена (Бензина же нет нигде, это меня по-свойски заправили вчера из уважения). Лечу в область к маститому сосудистому хирургу Дюжеву. А у него застолье. Меня угощают, но кусок не идет. Вытаскиваю его из-за стола, увожу к себе.
В диспансер приезжаем быстро. Женщина уснула под морфием. Будим ее, берем в перевязочную. Дюжев смотрит руку, проверяет движения. Далее он объясняет мне, что такая ситуация может возникнуть или вследствие травмы сосуда, или от его спазма на фоне шокового состояния сосудистой стенки. «И вот теперь, – он говорит, – нам может помочь детальное исследование удаленной опухоли. Если найдем в ее ткани пересеченный сосуд – больную срочно на стол для протезирования, не найдем – консервативное лечение».
Я бегу, я лечу. А в голове: тридцать лет, рука холодная, пульса нет. Если опухоль злокачественная – главное, сохранить жизнь, а если доброкачественная?.. Калека? Своими руками… Господи! И вторым планом: уничтожат… меня уничтожат… Врач не имеет права на ошибку, у них теперь такой лозунг (они же нашли философский камень!). Но ошибка ли это? Я же сосуд не трогал. Я видел его на дне операционной раны. А все ли я видел? Но можно ли видеть все, когда опухоль громадная? А что я вообще видел? У меня же молоко в голове, три жизни прожил за этот день, калейдоскоп, все выжато до капельки, до капельки последней.
Гистологическая лаборатория.
– Девочки, опухоль мне, быстро!
– А мы уже выбросили препарат в мусорный контейнер!
ЧТО?!!!
Тра-та-та, вашу, та-та-та-та!!! Ныряю в контейнеры, но там уже ничего нет. Полчаса назад вывезли на свалку. На свалку?!! В машине бензина нет – я весь пожег, пока мотался в область. Бензина же нигде нет, и у знакомых тоже. Электрик Витек после перепоя. У него крошечный мотоцикл, вторая скорость не работает. Одеваем желтые шлемы на голову, садимся верхом. Мотоцикл дергается, идет толчками. От Вити клубами перегар, это ветер сносит на меня его дыхание.
На свалке страшная вонь, солнцепек и мухи. Поначалу хочется рвать, потом привыкаю, оглядываюсь. Вот же цыганки здесь работают, ворошат граблями меланхолически, не жалуются. Содержимое наших контейнеров определяем по окровавленной марле.
– Девочки, мы вам дадим червонец, если найдете нам в этом квадрате нужный кусок мяса. – Витя-алкоголик тоже берет грабли и намечает себе сектор (материальная заинтересованность). А я слежу всю панораму с небольшого говенного холмика. Сразу находим грудную железу (это бабушки Малютиной, да ни к чему она), еще липому, которая тоже не нужна, цыганки подносят на граблях куски какой-то вчерашней говядины. Все не то! После долгих поисков препарат находит алкоголик Витя.
Возвращаемся. Мы сделали все, что могли (а другие сделают лучше?).
Дома опухоль распотрошили до мелочи. Сосуда не нашли. Слава богу! Сосудистые хирурги разъезжаются. Рука уже теплая, она спасена, моя жизнь тоже.
Но радость недолгая: вновь Сидоренко на проводе: Басов приготовил новое письмо. Он показал, что у нас очень много запущенных случаев рака грудной железы. А ведь у нас анкеты, само обследование. Выходит, все это липа, мы обманщики. Задрать им (то есть нам) халат и всыпать туда горячих! И позор еще! Свист, улюлюканье, приказ, погром… Да Элла Саланова вовремя перехватила, проверила цифры. А он взял всех отяжелевших с прошлых лет больных и завел их в одну графу – четвертая клиническая группа. И выдал их за первично запущенных. И старую хохму применил – вторую группу прошлых лет суммировал: кажется, что у нас много не леченных. За это Бляхману по ошибке еще, когда шею свернули. Элла его разоблачила, а потом все материалы передала Юрию Сергеевичу, ну, а тот уже облздрав перекрыл. Слава богу! Большая была опасность: зубки у наших младенцев острые, а глазенки же оловянные.
Так. Теперь можно и оглянуться по сторонам, оглядеться, расслабиться. Только вот сердце уже болит. Характерная тупая загрудинная боль, и пульс частит, и одышка умеренная. Положим, и это в дело пойдет, ежели с умом. В понедельник у нас медсовет, мой доклад. Я к нему не готовился со своими операциями, разъездами, телефонами и свалками. Употребить субботу и воскресенье на эти цифры? Жалко. Иду в соседнюю поликлинику, захожу к терапевту. Лицо у меня бледное, отекшее, глаза воспаленные. Срочно делают электрокардиограмму, пугаются, потом поздравляют шумно: «Не инфаркт! Не инфаркт!».
Однако все же явная ишемия задней стенки левого желудочка. Тоны сердца глухие. Назначают лечение, рекомендуется покой, а главное, дают больничный лист! Полежать, впрочем, не удастся: в диспансере я сейчас практически один, все врачи в отпуске. Так что покой нам только снится. А вот на медсовет я уже не пойду. Можно отдыхать – в субботу и воскресенье. Ловко я сердце свое пристроил, молодцом! С этими приятными мыслями возвращаюсь к себе в кабинет, пью лекарства, делаю уколы, все меня жалеют, сочувствуют: я же больной. Уютно погружаюсь в кресло, а ноги кладу на стул, сладко потягиваюсь, отдыхаю. Покой, благолепие и тихое ликование в теле. Ни скрипа, ни шороха. Ан нет: дверь все же скрипнула, приотворилась, и дежурная медицинская сестра Роза Касимовна просунула перекошенную свою физиономию за порог.
– Ключ! – сказала она гнусавым голосом. – Клю-ю-ю-ю-ч?!
– Наркоманка она или алкоголичка? – вот в чем вопрос, – мысленно произнес я, продолжая улыбаться своим блаженным ощущениям и мыслям.
– Скажите Лине Маслюковой – пусть ключ отдаст от сейфа, дрянь, тварь такая, работать же нечем. Сама домой ушла, ключ не оставила. Больные страдают.
Она возвела костлявые руки к потолку, зажала кулаки и погрозила Лине Маслюковой, которая уже давно дома.
– Молодец Лина, – подумал я, возвращаясь в этот обыденный и серый мир.
– В сейфе лежат наркотики в ампулах. Вторая сестра не вышла по болезни. А Касимовне доверять наркотики никак нельзя. Да и больных таких нет, которым эта ампула сей момент нужна. Хорошо сориентировалась Лина, – так я думаю, а сам говорю вслух:
– Не волнуйся, Касимовна, разберусь.
Дверь захлопывается, и потревоженная гармония опять возвращается на круги своя. Мир на земле, и в человеках благоволение. И снова прерывается все телефонным звонком. На проводе муж Лины Маслюковой:
– Жена почти в обмороке, – говорит, – Касимовна звонит беспрерывно и орет: Клю-ю-юч! Клю-ю-юч! Клю-ю-юч!
– Ну, так выруби телефон, большое дело. Ключ от сейфа только не потеряйте сами, и завтра чтоб с утра он был на месте.
– Да нет у нас никакого ключа.
– То есть как?
– Лина отдала ей ключ, правда, чуть раньше времени. А Касимовна принесла его назад и Лине швырнула. Изволь, дескать, не уходить до конца смены.
– Так, – думаю, – здесь она себя борцом за правду выставляет, но для чего?
В трубку говорю:
– А что Лина с ключом сделала, куда дела?
– А Лина ключ оставила ей в условном месте, сама ушла чуточку раньше, но она же всю работу сделала (оправдывается), вы же знаете, как она вкалывает.
Это я знаю. Лина очень грамотная сестра, пожалуй, самая грамотная. Она процедурная. Работает четко, самостоятельно. Делает все внутривенные инъекции, капельницы, проводит аутогемохимиотерапию. Сбоев у нее нет, молчалива, аккуратна, уважаемая, одним словом – сестра. А Касимовна – бестолковая безумица, неопрятная, матерщинница, больным грубит, иглой промахивается. И хулиганский жест у нее классический: правая полусогнута с кулаком, а левая на локтевом сгибе правой – выкуси!
– Лину мне давай, – кричу в телефон. – Лину!
– Сколько ампул в сейфе? – спрашиваю у нее.
– Двадцать две…
– ОГО!!!
Уже проясняется картина и гарью несет: ключ Касимовна с условного места взяла, но утверждает, что ключ у Лины. Теперь она может свободно открыть сейф и забрать ампулы… А сама в стороне. Ищи-свищи. Ключ у нас один, второй давно утерян (или его не было?). Мое лечение и отдых закончились. Тревожные зуммеры гудят по всему телу (ах, как оно только что отдыхало и нежилось!), в голове тяжелый набат-звон и удар обухом, и знакомая боль тупая за грудиной опять.
– Свалка… Басов… Касимовна… Гады! Хори кровавые!
И ненависть горячая и тугая бьет снизу наверх, смывает все боли шутя. Да я здоров и страшен. Вихрем в ординаторскую, мимо Касимовны к телефону. Вызываю старшую сестру.
– У нас ЧП. Немедленно выезжай. Сейчас будет здесь автоген и милиция. Понятые… Сейф будем резать.
Подхожу к Касимовне и шепотом свистящим:
– Ключ…
– У Лины, у Лины…
Глаза бегают, на морде распад. Ах, сейчас я буду ее убивать… И рука моя, автономная хищница, сама уже тянется к ее горлу, и пальцы жадно раскрылись… Только я руку вернул, пальцы в кулак и бешено об стол:
– КЛЮЧ!!!
Побелела она, дрогнула, изогнулась.
– У меня, у меня ключ, сейчас отдам. Отдам, отдам… О, Господи!
А сестры уже на подходе. Лина даже с мужем.
– Возьмите у нее ключ, – сказал я и вышел из ординаторской.
И далее… И далее… парадным маршем по только что покрашенной генеральской лестнице (молодец, генерал, хорошую нам лестницу построил в прошлом веке), по лаково сверкающим коридорам (ах, какую краску дали на одном заводе, не поскупились, и все – от уважения), по лаково, значит, сверкающим коридорам, из вестибюля во двор. А двор свежеочищен от векового строительного мусора нашей странной соседки-конторы «Ремвоз». Это один знакомый полковник своих солдат прислал, они, молодцы, мусор и убрали. Так слава же им!
Цепляюсь глазами за положительные эмоции, и напряжение как будто упало, и ярость вроде бы схлынула, и только посредине, не то в трахее, не то под ложечкой остаточно саднит, как после надрывного кашля. Это ощущение не уходит, становится болью, и уже дома не хватает воздуха и места, хочется метаться, стон и пружина там внутри – и без выхлопа прет, разрывает.
Ах, я знаю, что делать. Включаю Высоцкого:
Идет охота на волков,
Идет ох-хота!!!
Его голос входит не через уши и вообще не в голову, он по лезвию ножа врывается в средостение и соединяется, и братается там с моей болью.
Впрочем, и это ненадолго: впереди сладостное, сладчайшее воскресенье – перерыв между раундами: скамеечка в самом углу ринга, и тренер из далекой юности успеет оттянуть резинку трусов, чтобы легче тебе дышать, и брызнет водой в лицо, и помашет полотенцем, и жарко нашепчет тебе в ухо:
– Прикрывайся, ныряй под левую, входи в ближний и крюком его на выходе! Крюком его!
Воскресенье. Короткий отдых. Покой, кислород, солнышко, ремонт и просушка. Сон.
Но вот уже звенит колокольчик, надрывается будильник: понедельник – понедельник – понедельник!!!
Это – гонг. Начинается новая неделя.








