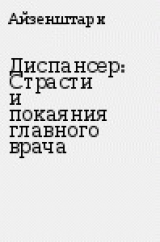
Текст книги "Диспансер: Страсти и покаяния главного врача"
Автор книги: Эмиль Айзенштарк
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
Спор разгорелся с новой силой, уже выходя порой за академические рамки.
– Запомните, – сказал я, – сравнение не есть доказательство. Вы можете сравнивать с клеенками, с корзинками, картинками, картонками и маленькими собачонками, и все это бездоказательно. Сравнение не есть доказательство. С этого начинается любой учебник формальной логики. Впрочем, до физики Краевича вы еще не дошли…
– А вы дошли?.. У вас доказательства?.. Они у вас в рукаве? Ха-ха-ха, – смеялся он саркастически.
– Я докажу, докажу, – сыпал я своему врагу пронзительно. – Ваши стихи, уважаемый поэт Ермилов, в книготорге, и никто даже об этом не знает. И стихи ваших коллег-сотоварищей – там застыли айсбергами.
– Ну и что, – сказал поэт Ермилов и побелел, – ну и что, – повторил он, и зрачки его расширились.
– А вот что, – продолжал я, уже перешагнув заветную черту, – вот что: завезите в книготорг стихи Евтушенко, и придется конную милицию вызывать, чтобы толпу сдержала. За его стихи будут кассу ломать. И я буду в этой толпе…
– Не нужно Вам в толпу, – произнес мэтр, сохраняя величие, – я Вам эту книжицу просто так дарю. Зачем мне этот бездарь в доме?
Я смешался:
– Почему просто так, зачем просто. Да за этот томик я вам целую связку книг…
– Просто так, просто так, – великодушничал мэтр, опять набирая силу.
– Когда же мы это сделаем? – жадно ухватился я.
– Сейчас, прямо сейчас, вот только жену провожу домой, а сам на вокзал – уезжаю, творческая командировка… Так что пошли вместе, и я вам вручу эту бездарь…
– А ты не распоряжайся чужими книгами, – сказала вдруг миниатюрная красавица. – Евтушенко мой, он мне нужен для работы.
И обращаясь к мужу:
– Ты наговорил здесь много ерунды. Талантлив ли Евтушенко? Да, талантлив. Тем хуже. Он развращает своим талантом нашу молодежь. Он – апологет супружеской измены. А пропагандировать супружескую измену нельзя.
Она говорила легко, как по писаному.
– Семья – ячейка общества… И общество не может и не будет равнодушно взирать… И мы в молодежной газете ведем борьбу с этим явлением. Проблема и без того серьезная… Вот для чего мне нужен Евтушенко, чтобы вести борьбу… Супружеская измена – дело не личное… общественная характеристика… Подрыв устоев…
– Вам нравится домострой? – обратился я к ней, уже раскручиваясь на новую спираль.
– Ладно, хватит, – сказала она и махнула точеной своей ручкой, – надоело!
Она перевела дух и обратилась ко мне уже другим голосом:
– Вот вы хирург, не знакомы ли вы с Вилем Харитоновичем Мухиным?
– Я его знаю очень хорошо, – ответил я, и сразу все изменилось вокруг.
– А что Вы можете о нем рассказать?
– Я могу рассказать… Я могу рассказать… что у меня нет слов, чтоб о нем рассказать. Понимаете, это звезда на нашем хирургическом небе или комета… Я не видел таких хирургов, я в клиниках бывал. Таких нет нигде. Огромный талант, понимаете. И человек – прекрасный, удивительный, недосягаемый… Она сказала:
– Я очень рада, значит, не ошиблась, я готовлю сейчас о нем большой материал в газету. На таких примерах и нужно воспитывать нашу молодежь, как вы думаете?
– Конечно, разумеется!
Она засмеялась:
– Ну, слава Богу, пришли, наконец, к общему согласию.
Мы распрощались на улице, было половина первого ночи. На следующее утро к восьми часам я уже был на работе. В дверях появился Виля, веселый, свежевыбритый, в накрахмаленной шапочке и в халате. Он сказал.
– Ты что это придумал: звезда, комета, таланты, поклонники…
Я посмотрел на часы:
– Когда ты успел об этом узнать? Мы же расстались с ней в половине первого ночи!
– Очень просто: я провел ночь с этой женщиной.
– Вот сволочь!
– Ничего подобного, – быстро возразил Виля и выставил большой палец. – Такая вот баба!
– Да я не про это. У нее, видишь ли, том Евтушенко, но не для того, чтобы читать, а чтобы бороться с супружескими изменами. Она весь вечер мне мозги сушила… Материал говорит о тебе – для юношества…
У Вили Мухина было еще одно качество. В круговерти разговоров, общений и контактов он привык выдергивать, как рыболовным крючком, именно то, что ему было нужно. Вот и сейчас он уловил свое. Быстро набрал номер по телефону:
– Танечка, здравствуй, детка, это я. Слушай, сейчас узнал, что у тебя есть томик Евтушенко. Ага… Так ты его сегодня на ночь захвати. Договорились? Ну, целую, зайка, пока!
…И снова шестнадцать операций, в перерывах – сигарета на зажиме, потом в тюремную больницу – вновь оперируем. Потом к собакам – трансплантация сонных артерий. Час ночи. Домой? Но едет на вокзал в поздний ресторан: шампанское, конфеты в роскошной коробке. (Жаль цветов нет!). Да куда же ты, Виля, спать надо, с ног же валимся.
– А у нее сегодня муж опять в командировку уехал…
И ни усталости уже, ни тени в глазах, сам играет, как шампанское, улыбается – и в такси!
Он умер после третьего инфаркта совсем молодым, ему было 33 года: возраст Христа.
Дела давно минувших дней. Преданья старины глубокой… У Вили Мухина было множество женщин, искренне преданных ему душой и телом. Подернутые дымкой забвения многочисленные связанные с ними истории переплелись корнями фабул и, выражаясь торжественным слогом, породили древо этого рассказа.
Виля был очень естественный и цельный, себе никогда не изменял, всегда держался своего стиля, а внешне прост и улыбчив.
Казаться улыбчивым и простым.
Самое высшее в мире искусство…
Покойный Семен Львович Дымарский, как и Виля, собственный облик незамутненно хранил, свою роль играл свято, не отклоняясь, но стиль у него был совсем другой. Дымарский элегантно позировал. Он был лысоват, хоть и молод, и умер ведь достаточно молодым.
А почему я его в этот наш скорбный список не занес? Пропустил что ли? Но ведь Сеню Дымарского забыть нельзя. Просто он умер не от разрыва сердца, у него разорвался мозговой сосуд – инсульт… А у нас опись разорванных сердец. И все же Сеню нужно в тот список: он не по букве, а по духу. И мозговые сосуды разрываются не просто так…
А был он хоть и лысоват, но элегантен, чуточку небрежен и свеж. И кожа лоснилась от бритвы и крема. Он был гусаром, вернее, хотел им быть. Носил пенсне, галифе, до зеркала чищенные сапоги, иной раз к ним и шпоры натуральные с малиновым перезвоном. И стэком по голенищу хлопал, еще любил лошадей и женщин, конечно, и каблуками щелкал, дамам ручки целовал, цветы дарил, а при случае и на колено падал, именно на одно колено, как знамя целует – с достоинством, величаво.
Дымарский, добрый мой приятель,
Он весь, в изломах и грехах,
Худой и длинный в сапогах,
Везде известен как мечтатель,
Хирург, жокей, лихой игрок,
И как любитель женских ног.
Сеня был обидчив, но на подобные экспромты не обижался, они ему даже льстили и были по душе – он похохатывал, протирал безукоризненные стеклышки своего пенсне, курил, а дым выпускал колечками. Оперировал эффектно, на публику, чуть витиевато, чуть претенциозно, но ткани чувствовал и знал меру, потому что хирургию любил нутром. У него были красивые руки – длинные, точеные, ухоженные пальцы и ногти чеканкой. На операции надевал тесные тугие перчатки, чтоб эту красоту облегало. Чтобы не болталось, не мешало, чтобы вязать там, в глубине, в темноте немыслимые узлы четырьмя пальцами, а узко – так и двумя, а то и одним своим подвижным, как червяк, пальцем: что-то виртуозно накинуть, перебросить, элегантно отжать – у него это получалось. Он делал сложные операции, оперировал много, шел на риск, красовался, но и нередко с хорошим исходом. Рвался к славе, к фимиаму, а его колотили. Он бы – на дуэль, он бы им – перчатку благородно, а его по-нашему, по-простому. Тут и сосуд его тонкостенный не вынес, не выдержал… Но до конца, до самой своей гробовой доски держался он самого себя, свой стиль соблюдал, был Сеней Дымарским, неповторимым, элегантным, экстравагантным, чуточку смешным – Аид-Гусар. А кому не нравится – можете жаловаться.
И Виля Мухин никогда не изменял себе, ни в голосе, ни в жесте. И Лев Семенович Резник. И Володя Мурик. И Печерский…
Почему так рано они ушли? Или нет – почему я пока живой? На меня ведь не меньше рушится. Случайности разные стерегут? Или не подсекают? Топография коронаров? Упругость сосудистых стенок, физиология, атероматозные бляшки, спазмы – по совокупности это и у меня не блещет, наоборот, кризами и загрудинной болью стучится и окает, стучится и окает. Намекает Оттуда! Чувствую! А я с этим со всем в окопе, в траншее, по земле ползком и в землю лицом и носом, не в рост иду, упаси Бог, а как придется – по местности, как приляжется…
Один бурбонистый старик-отставник со мною даже теоретизировал по этому поводу. Он за меня случайно зацепился по телефону, из облздрава звонил. Его одолевал начальственный сарказм, хоть он и не был моим начальником. По ходу разговора он вдруг перебил меня:
– Скажите, а в качестве кого вы сейчас выступаете, как главный врач диспансера или как представитель горздравотдела?
– А в каком качестве я вам нужен, в таком и выступаю, будьте любезны.
– Значит, Вы – хамелеон? – осведомился отставник, и в трубку было слышно, как одобрительно хохотнули соседствующие писцы.
–Да хамелеон – ребенок рядом со мной, – сказал я, – просто младенец он!
– Вот как!
– Именно, именно, не сомневайтесь, ни на секунду не сомневайтесь, – верещал я в трубку. – Подумаешь хамелеон: сколько раз он шкуру свою или окраску меняет – ну, два, ну, три раза в сутки…
– А Вы?
– Я? Сто раз на день! Триста! Пятьсот, тысячу, вообще, сколько понадобится! И впредь…
– Значит, вы хуже рядового хамелеона в тысячу раз…
– А вы меня с ним не сравнивайте, я не хамелеон, я – другой.
– Какой, какой?
– Я, понимаете, не Байрон, я, видите ли, другой, еще неведомый…
– Так чем же Вы отличаетесь от хамелеона?
– Я же вам сказал – количеством.
– Ну и что?
– А количество переходит в качество. Здесь качество другое, понимаете?
Не знаю – он понял или нет, но ведь и я задумался потом. Хамелеон ординарный чем плох? Острыми зубами, страшными когтями природа его обделила, и чужая кровь по морде его не течет. Быстро удирать не умеет, у него и ног таких нету. Да ему только шкуру менять по местности. Лев на жертву кидается, на куски ее, и – благородный… Но почему невинную рвет? – так, скажут, выхода у него нет, пропитаться он должен. А у хамелеона выход какой? И то сказать: шкуру сменить – не душу терять. А душа его глубже, за жир и за мышцы нырнет, под ложечкой схоронится, отсидится, перезимует.
А я переключаюсь на ходу. Я бегу, бегу, скороговоркой: бегу, бегу, бегу, бегу.
Кадр: Геночка-пропойца, его каморка, он сантехник и автоклавирует. Сейчас – на полу: лежит, храпит, хрипит, и лужа бензина под ним, ногой бутылку перевернул. Бензин откуда?
– Сестра-хозяйка попросила свинячую ногу обсмолить, из дома ее приволокла. Дура старая, окаянная: бензин пьяницам!
Я Геночку – ногой в бок резко, он просыпается, лыка не вяжет. Пары бензина, вонь острая. Лужу затереть? Стоп! Еще бутылка, быстро ее отсюда. Туда – сюда, возвращаюсь.
Геночка в луже, но уже не лежит, а сидит, качается и… Прикуривает!!!
А еще электроплитку включил! Спираль красная! Искорки бегают!
И… еще одна бутыль с бензином целая, не заметил я! Рядом стоит. Ы-Ы-ЫХ! Руки мои – стальные, чудовища, они сами… ЫХ! ЫХ! Многоточие… (Само цензура!)
Мы с Геночкой уже на лестнице. Я в перевязочную его тащу, он идет хорошо, почти добровольно, и ботинки снимает сам, а на стол не хочет ложиться.
ЫХ! Он уже на столе. Я ему зонд резиновый через нос в желудок, он кашляет, плюет, из пасти его брызги, зловоние, но не обычное, а с выкрутасом каким-то. Ах, не вино он жрал и не водку, но мудреное что-то.
Наш учитель физкультуры
Выпил малость денатуры,
И поехал на Кавказ,
Узнавать, который час.
Еще ему нашатырь – двадцать капель на воде. Так. Трезвеет.
Теперь – ногой его в зад, и башкой он вперед на улицу. А двери на замок. Задыхаюсь я, не по возрасту мне, сердце стучит, перестукивает. Назад иду, улыбаюсь-усмехаюсь, однако сторонних своих наблюдателей-критиков изнутри слышу: знакомо оно, законно.
– Зачем алкоголиков держишь?
– Гнать их отсюда!
– Принципиально!
– Алкашей в больнице развел! Позор!!!
И ладошкой праведно воздух рубят, и бровку наверх изломом ведут. А я им изжогой из нутра своего:
– Идите вы… идите… Мне алкашей трогать нельзя.
– Это почему? Этта зачем?
– Ых, вы, блаженные… Да мне их заменить некем, у них ставка семьдесят два с полтиной – полторы ставки – сто пять. А им нужно в резиновых сапогах в люк нырять, в дерьмо живое – канализацию чистить руками это.
– А второй, электрик-сантехник Вася, по прозвищу Народная мудрость, где он?
– В психиатричке: алкогольный делирий у него.
– Двести десять эти двое получают. Одного трезвого бы за такую сумму.
– Так я бы и рад, но три ставки одному нельзя: ревизор сожрет!
– А за меньше?
– За меньше трезвый в дерьмо не прыгает.
– Но алкаш – это пожар, это же взрыв, это серьезно!
– И дерьмо – серьезно… И ревизор…
Перестуком, быстро, скороговорочкой:
Алкаш, дерьмо, ревизор…
Алкаш, дерьмо, ревизор…
Новым ритмом стучат виски, не вырваться мне – порочный круг. Или это классический треугольник? – Алкаш, Дерьмо, Ревизор.
Стоп! Смена караула: художники пришли – меценаты, авторские полотна, улыбки, дарить будут. Интеллигенты высоколобые.
– Здравствуйте!
– Здравствуйте.
А у меня руки Геночкой пахнут. Сейчас отмою вот… Так, садитесь. Какие же вы, право, молодцы!
Пейзажи, натюрморты, масло, акварель, жанр, графика. Взлеты глубины, проникновения. Традиции, авангард – богатство, право. И маленький же, черт возьми, город, а свистни только – и таланты заявятся, с улицы набегут. Так ведь тем и спасаемся, и разговор на какой волне: передвижники, импрессионисты, пленэр, перспектива. Потом развесили всю красоту в ряд, и улыбнулась эта стена, и санитарочки охнули. А мы свое: Маковский, Серов, Ренуар, Ван Гог. От Геночки, значит, и до Ван Гога включительно – это мои фланги. Что же в середине?
– А гражданин Ерш по письму вот пришел, извольте его.
Этот Ерш предполагает лечить рак не «ножиком, а травами». Он письмо написал в Министерство. Буквы неровные, склеротичные, а мысли туманные и параноидный пафос, конечно. Ладно. Ты параноик – я параноик, садись, пожалуйста, напротив, уважаемый Ерш, только не рассердись. Только бы ты не обиделся, не написал бы снова! Я говорю:
– Мы с вами это понимаем…
Есть такой ход как бы доверительный: «мы с вами». Тонко, и разом предполагается некая общность, которая сама собой уже разумеется, еще душевно и запанибрата чуток.
– Нас с вами не поймут… А вот мы с вами так не поступим… Таких дураков, как мы с вами, работа любит…
Далеко можно скакать на этом коне и без лишних забот-хлопот – экономично.
Закончили мы с Ершом, и отшился он, а я дальше по всей клавиатуре: до – ре – ми – фа – соль…
Что там следующее?
Консилиум: назад мне из параноиков в человеки! И настроение уже бодрое, и губы сами что-то мурлыкают.
Вдруг черная тень промелькнула – Басов: он заворгметодотделом краевого диспансера, которого не существует. Он неуязвим. Оргметодист на уровне Абсолюта. Его нет, чтоб его достать, и Он есть, чтоб тебя ужалить. Такая вот у него странная синекура в недрах одной странноприемной конторы, где тоже стонут, изнемогают, отбиваются от его анонимок и жалоб. А родился он не как все люди, а где-то вылез между пальцами давно немытой ноги: сгусток пота, отвердевший до сыра.
Мимо, мимо него, и нос в сторону – на свежий воздух, на улицу! Впрочем, идти мне совсем недалеко: Больничный переулок, гражданка Шопина. Запах в прихожей – мочевина с борщом и потом.
В общем, планы по запахам я уже сегодня выполнил. Дикий развал в комнате, скелеты бывших вещей. Юный дегенерат – сын – что-то кричит, возбужден, мечется. У него «шишечка на спине». Об этой шишечке его мама написала в редакцию журнала «Здоровье». Оттуда– в Министерство, оттуда – в облздрав, оттуда – в горздрав (резолюции, завитушки). Оттуда – ко мне, и вот я здесь. «Шишечку» сына мне, однако, не показали. Мать говорит:
– Хочу, чтобы проконсультировали в Ленинграде.
Их здесь трое: бабушка, дочь и внук-дегенерат. Впрочем, и мама внушает подозрение.
– Нет, нет, – она говорит, – не потому, что я вам не доверяю. Но Ленинград, Ленинград обязательно. Или Москва…
– А почему?
– По личным причинам, есть мотивы… – и глаз косит интимно куда-то в угол на серую паутину.
– А где Вы работаете?
– Да нигде мы не работаем, – неожиданно взрывается бабка. – Вы что – не видите – все продаем, распродаем, жить же нечем! Молодой человек, а вы не купите фикус?
– Так. Теперь ясно. Всем – до свидания.
Выхожу из дома. Как же отразить все это в докладной – официальным языком и безо всякой лирики?
В стационаре, однако, ждут меня радости. Больная Кривцова уже не умирает, наоборот, поправляется, в постели сидит, ноги свесила, улыбается. Температура нормальная. У нее после операции начался перитонит. Зловонный гной через трубочку валил из живота наружу, нос уже заострился, дыхание стало частым, поверхностным, глаза стали мутные, стеклянные. Мы гной отсасывали и внутрилимфатически громадные дозы антибиотиков ей. Из перитонита вытащили! Мы смеемся, и она смеется. И сестры гордятся нами.
А у санитарок свои горести, они кучей собрались, гутарят что-то, обсуждают. История жутковатая получилась. Умирал молодой сантехник Сережа Петров. Он, бедняга, лежал в маленькой палате с другими обреченными, которые еще ходили на своих ногах и ухаживали за ним, и все было мирно и тихо, но Сережа вдруг выздоровел (ошибка вышла – туберкулез, а не рак!), и дикая злобная реакция – зависть со стороны окружающих. Осатаневший Сережин сосед ударил утюгом санитарку Надьку Братухину и убежал в ночь, в Киев, умирать на вокзале… Санитарка матерится, божится, слезы текут. Мне успокоить ее душевно – и в область: Юрий Сергеевич ожидает. Тридцать километров по шоссе – духом единым. И к парадному крыльцу сходу швартуемся, и мимо фресок наружных вовнутрь бегом: фойе, коридор, секретарь – приехали!
В уютном и просторном кабинете директора главбух и молодой человек восточного типа, округлый, лысоватый. Сидит прямо, спинки стула не касается, собственный портфель, как за горло взял, на коленях держит, а лицо бесстрастное, никакое. Юрий Сергеевич, напротив, жестикулирует, и мимика у него богатая, и у главбуха очень выразительные гримасы, еще обрывки разговора, отдельные их слова: трупы… морг… тридцать пять рублей… деньги-то небольшие… да неужели, да послушайте… Ко мне директор всем корпусом и жестом, а глазами того восточного держит:
– Ага, замечательно, к месту, ко времени, – говорит и пальцем уже на меня кажет, – вот вам знаменитый организатор здравоохранения, его вся область знает!
И еще с уважением громадным, убедительно и проникновенно:
– Он же все приказы по номерам помнит, директивы – так наизусть!
Мне с ходу нужно чуть потупиться от скромности – как бы принимая похвалу, но вроде бы и намекая на перебор. И тут меру надо знать, и еще понять нужно, о чем речь, само дело в чем? А дело в том, что анонимка пришла на санитарочку из морга за то, что она сторонние трупы обмывает, обтирает, одевает и обувает, а за это ей полставки лишние идут – тридцать две с полтиной в месяц. Вот оно – торжество жизни: и в морге, значит, она продолжается! А восточный красавчик – из финотдела, у него документы в портфеле, и Дело его – правое, а мы люди жалкие, недостойные, и сейчас вот укроемся за ширмой объективных причин и глаза свои отведем блудливо.
Впрочем, все это нужно запрятать на самое донышко, неповрежденное еще, вовнутрь, а внешне сделаться уверенным и отважным. Сейчас я оракул, третейский судья, из этой среды – потому немного пошлости в средостение и тяжести в подбородок. Хорошо. Начнем, пожалуй.
– Что делать будем? – с мудрой и чуть усталой улыбкой вопрошаю красавчика.
– Санитарку убрать, с руководства начет, а что же еще?
– Не торопись, дорогой, не торопись (фамильярность дозированно тоже нужна), есть и другие решения.
– Ну вот, видите, – вмешивается Юрий Сергеевич, – я же говорил – это специалист. Это ж его конек – обожает бумаги, любое решение вам найдет, и все по закону…
Я подхватываю:
– Найду, найду, это же пара пустяков, я же эти законы наизусть (Господи, хоть бы один вспомнить!).
– Да ничего вы не можете, – усмехается красавчик, – нету таких законов, чтобы сторонние трупы оплачивать.
Я нависаю над ним и сам уже верю в то, что говорю:
– Я вам сейчас сотню законов, директивные письма веером разложу, как пасьянс, и покажу, и докажу, не в этом дело…
– А в чем?
– Дело в принципе. Сначала принцип установим, а потом закон-директиву подыщем.
– А принцип простой: есть анонимка – надо разбирать. Нашли нарушения – будем наказывать.
– Это очень просто, – возражаю я, – а простота, знаете, хуже воровства…
Красавчик молчит, а мне нужно через пиджак ему сердце проколоть, чтобы очнулся он как-то, хоть на мгновение. Я говорю:
– Мертвых нельзя оскорблять. Это – не сторонние трупы, это – останки людей, их нужно в порядок привести – обмыть, одеть и поклониться им, иначе мы с тобой одичаем, озвереем, понимаешь? Мама у тебя есть?
Он вздрогнул, а я смотрю ему в глаза, в нутро самое, держу его. Он говорит:
– Я никого не оскорбляю, я по закону…
Но вижу – смущен немного.
–А ты у мамы спроси, – я говорю, – расскажи ей про этих мертвых, и спроси у нее: мама, я правильно делаю?
Все же он – кавказский человек, у них осталось кое-что, и мама у них не проходная пешка пока. Но грешное с праведным он не желает мешать, не с руки ему, он так и сказал:
– Не смешивайте, это разные вещи…
– А мы с тобой не инструкцию обсуждаем, мы принцип сейчас определим.
– А эти все принципы мне зачем? У меня как раз инструкция.
– Так ты что, беспринципный человек? Еще похваляешься?
Он снова замолчал – молодой совсем Красавчик, необъезженный. Я его дальше работаю, я говорю:
– Ты ведь не санитарочка из морга, институт, небось, заканчивал, философию учил, диалектику… Все связано-завязано, и принципы, конечно, это главное – основание и начало. А без них ты – робот бессмысленный. Чудовище механическое. Куда тебя занесло? Подумай, мертвых ты уже осквернил, ты их покой оскорбил.
(В глаза, в глаза мне смотри, почувствуй, ощути… И гвоздиками – в зрачки ему и за мякоть. Оно вместе идет, волнами, с яростью и тоской. Одни слова не подействуют – уйдет он от слов одних, отмахнется с усмешечкой даже, но от волны не уйдет. А в моем наборе хамелеона и душу живую неповрежденную иной раз выпустить можно, конечно, ежели в масть.)
Красавчик опять молчит, а мне нужно без остановки – дальше, пока волна идет – хлестать его, захлестнуть, опрокинуть, а там видно будет. И я в марше разворачиваюсь на Юрия Сергеевича и благоговейно о нем. А он этого не любит, но что делать, игру принимает, и позу, естественно, и жест: немного величия и державы подзапустить, маленько бронзы добавить, а усталость – своя собственная, родная – вот и образ готов.
– Посмотри на директора, – говорю я, – это же хирург великий, замечательный, он мою дочку оперировал, а я знаю, кому ребенка доверить. Ему в живот еще залезать, а ты ему душу рвешь. А рука если дрогнет? (И глазами веду, и Красавчик за мной глаза ведет на пальцы его быстрые, цирковые, очень выразительные и автономные совершенно. Они как-то отдельно своей жизнью живут, словно коты на улице.)
Мой Красавчик туда уставился невольно, а я дальше ему в унисон:
– Эти руки надо беречь, они людей спасают, цены им нет.
– А я не про руки, я про финансы, государственную копейку тоже надо беречь, – говорит Красавчик, отряхиваясь и как бы просыпаясь.
А это нельзя. И тогда я лицо свое к его лицу – близко, впритык, и все мои бессонные ночи, и страхи, и боли – в него! Бей! Оно из глаз моих, из ноздрей идет, гортанью, глоткой, через зубы, со словами вместе. И еще затуманенным разумом за речью слежу, чтобы не спороть лишнее.
– Эти руки за все расплатились, – я говорю, – они пятнадцать лет в отпуске не были, документально можно проверить, отпускные не получали ни разу, и тоже документы есть, они здесь в воскресенье, в субботу и в праздники, и снова бесплатно. Они расплатились за всех санитарочек морга – расплатились до самого страшного суда, и нечего вам здесь делать, понимаешь, хирургов мучить нельзя, это безумие – мучить хирургов…
– Хорошо, ладно, – сказал Красавчик ошалело и быстро, – согласен, а выход какой? Где закон? На что опереться? Дайте закон, положение, инструкцию, Вы же обещали.
Ах, черт, я и забыл совсем. Какие инструкции? Ни при какой погоде я их в глаза даже… а если и возьму когда в руку, так чтобы в корзину, с тошнотой. И растерянность маленькая уже, и заминочка пошла. Но сразу врубается Юрий Сергеевич:
– Это мелочи, это нам ничего не стоит, – говорит он весело и чуть свысока, даже покровительственно, чтобы не дать заподозрить, – инструкции-то он все знает наизусть, он вам тысячу выходов подскажет, это же – законник, инструкции – его слабость.
И далее в таком духе он метет безостановочно, чтобы дать время мне и позицию не уступить пока. И я подхохатываю уверенно и нагло:
– Конечно, разумеется, Господи…
– Ну, так скажите, так подскажите, – не унимается Красавчик-ревизор.
Теперь он смотрит мне в глаза и добавляет: «Только не общими словами, конкретно, ну!»
И выхода уже нет. И в моем мозгу начинается дикая работа – и обыск, и поиск того, чего там не было отродясь. Где ты, призрак?! А может, вообще его нет в природе?
–Пожалуйста, пожалуйста,… – я бормочу, а сам ловлю из преисподней хоть что-нибудь. И чего-то там щелкнуло все-таки, кувыркнулось, отозвалось, и я сказал небрежно, как бы в зубах ковыряясь: «Свыше полутора ставок можно начислить еще тридцать процентов доплаты – за совмещение профессий, так считайте, что санитарочка совмещает разные профессии. Очень просто…».
– Ну, я же говорил, – взрывается Юрий Сергеевич уже с подлинным облегчением, – я же говорил, я же знаю, кого вам представить, видите, он же инструкции наизусть помнит, он же знаменитый…
– Но это не есть совмещение профессий, – бормочет Красавчик, – санитарка возится с трупами – это одна профессия. И если…
Я перебиваю его:
– Э нет, дорогой, она Сорбонну не заканчивала, на ее уровне санитарочном это разные профессии: одно дело подготовить вскрытие, другое дело – обмыть труп, одеть, обуть и вид придать.
Красавчик еще сопротивляется:
– А это с какой стороны посмотреть…
– Верно, – говорю я, – для того мы с тобой и принцип сначала определили. Да, чтобы прах человеческий осквернить и чтобы его родных оскорбить и густо им душу заплевать, и чтобы дело важное разрушить, которое не ты делал, и руки хирурга чтоб укусить, и санитарочка бедная чтоб заплакала – для всего этого нужно разделения профессий не увидеть, не узреть, не заметить. Но чтобы тебе человеком, а не злодеем остаться, придется, однако, это разделение в акте указать, зафиксировать его. Начинай от принципа!
– Ладно, – согласился, наконец, Красавчик, – что-нибудь придумаем.
Он улыбнулся нам по-человечески, и мы распрощались. Я усмехнулся:
– Сейчас покажу тебе статью по деонтологии, один почтенный доктор написал, в летах, некто Лившиц.
– Чего же он хочет?
– Да, по-моему, он хочет выкопать туннель между имением Павла Ивановича Чичикова и своим собственным, Маниловским, и общаться тогда и беседовать на темы возвышенные и чудные.
– И куда же он предлагает копать, как это ему представляется?
– А он предлагает содержать мозг врача в такой же чистоте, как и руки хирурга. Ибо к моменту встречи с больным этот мозг не должен быть загрязнен посторонними мыслями и эмоциями.
– А если не получится?
– Он и это предусмотрел. «Тогда, – говорит, – нужно взять бюллетень, отпуск, перейти временно на не лечебную работу».
– А ну, покажи статью, действительно забавно… Ну, да Бог с ним. С чем приехал? Что привез?
– Во-первых, откушать с Божьей помощью. Вот они: котлеты, капуста и курицы кусок, жена прислала…
– А у меня… а у меня, – забормотал он, – свежая булочка, найсвежайшая, – и царским жестом ее на стол. – Как это вовремя! Сегодня женщину оперировал срочно. Она закровила, понимаешь, неожиданно и сильно. Пока увидели, пока испугались да приволокли ко мне, у нее и нос уже заострился, пришлось впопыхах своей крови ей отлить пятьсот грамм во время операции. Хорошо, группы сошлись.
– А после что-нибудь поел?
– Чай пил сладкий крепкий и булочка вот… Ну, ничего, мы теперь все котлетой и курицей возместим, и булочка еще свежайшая, и чай тоже.
Усталость уже проходит, пищеварение веселое, как печка-буржуйка в мороз гудит, и тяга хорошая.
– Ну, что привез, – спрашивает Юрий Сергеевич, – какие новости?
– Да тут у меня препараты – пересмотреть. Мои Гурин-Лжефридман в отпуске, а больше у себя никому не верю. Пусть ваши глянут.
– Что-нибудь интересное?
– Весьма и весьма. Например, вот деликатные стекла, щепетильный вопрос. Молодая женщина, красавица, опухоль на шее – огромная, вколоченная, лечилась у знахаря. Операция тяжелая – от сосудистого пучка едва отошел, на разрезе рыбье мясо – саркома типичная, а гистолог дает воспалительный процесс, разрастание чего-то куда-то, но доброкачественное все. В этакое счастье и поверить нельзя, да вот узнали, что муж у нее садист, и в наказание укладывает ее на тахту и бьет по шее ребром ладони… У них традиция такая семейная. Так может, прав гистолог?
– Все может быть, – говорит Юрий Сергеевич, – в этаких традициях всякое может случиться. Давай посмотрим твои стекла.
Звонок: телефон.
–Да-да, – говорит Юрий Сергеевич, обозначая свое присутствие.
– Нет, нет! – кричит он уже по смыслу разговора. – Не делайте этого ни в коем случае!
И, перебивая кого-то, наперекор и шурупом в чью-то башку:
– Нельзя! Нельзя! Нельзя! Вообще нельзя, понимаете?
Теперь ему нужно набрать воздух, а там ему что-то в трубку метут, и, видать, быстро, споро. На меня рядом телефонное бульканье сплошной морзянкой идет, неразличимо. А он слушает, кривится, сокрушается, но говорит спокойно, убедительно:
– Так вам и ведь и скажут, моя дорогая, что у вас была с ним связь, и все подтвердят, вы же знаете наших людей… Но и не в этом одном дело, понимаете, просто такие вещи делать нельзя. Запомните: этого делать нельзя! Никогда!
Он ловит ответ, успокаивается, говорит: «Слава богу, правильно», – и кладет трубку. Я спрашиваю его глазами.
– Моральный ликбез, – отвечает Юрий Сергеевич, – объяснял одной заведующей, что нельзя писать жалобу на бывшего любовника.
– А чего же она?
– Да из ревности. Он ей изменил: с операционной сестричкой связался.
– На это и жалуется?
– На это, представь…
– Так с какой же позиции?
– А позиция у нее гражданственная: аморальщину тот развел, устои он подрывает… коллектив не может молчать, терпеть его… что за пример для молодежи… общественные организации должны его… всеобщий позор и отпор ему… – Но в конце вдруг всплакнула: «Шлюшка он!» и согласилась в конце жалобу не писать.








