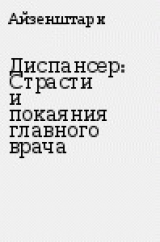
Текст книги "Диспансер: Страсти и покаяния главного врача"
Автор книги: Эмиль Айзенштарк
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
Но вот и особенный случай: старуха Войченко и ее дочь-инвалидка. Два карбункула ненависти и вероломства. Тугие – налитые – опасные. Врачи поселка, где они проживают, объявили им бойкот, написали формальное заявление, что посещать их не будут, хоть увольняйте. Потом, правда, все равно к ним ходили – никуда ведь не денешься. А те остервенелые и меж собою в склоке, ножи кухонные мечут друг в друга, визжат неистово, взахлеб. В нужный момент, однако, стопорятся резко – от истерики к ледяному спокойствию, и уже гнусь выговаривают четко, артикулировано, как Правду вещают, да грамотно, с аргументами. Обе – психопатки клинические. А у психопатов талант неслыханный, чутье звериное в душу твою просунуться и точки самые болевые и изнеженные нажать яростно, чтобы страданием тебя ослепить, чтоб задергался ты обожженный, ослепленный, обугленный. Им это сладко, мать родную не пожалеют. Психопата нужно в узде содержать, ровно и строго, дабы инстинкты поганые усмирить, не дать им разбушеваться.
По логике, конечно, врач командует психопатом, а здесь наоборот получается. Эти «карбункулы» грамотно запугали докторов, сломали их, а потом, уже запуганных, оскорбляли, издевались над ними и тешились. Во всяком случае, местные эскулапы были очень довольны, когда старуху поместили к нам. С дочкой-инвалидкой хлопот меньше. Та врачей обычно не вызывает, лишь перед очередным ВТЭКом срочные вызовы делает, чтобы астму продемонстрировать, инвалидность продлить. В диспансере старуха Войченко соседок своих в палате сей же момент оскорбила, в истерику иных ввела. Пришлось ее в другую палату перетаскивать, а там одна торговка поперла ее самою. Тогда санитарки вытащили старуху в фойе, положили напротив телевизора пока… Тут и попалась она мне на глаза. На ней была косынка, одеяло – выше подбородка, и я принял ее за другую, совсем мирную старушку, которая получала лучевую терапию.
– Ну, как дела, – осведомился я на ходу, – как облучение?
– Мои дела очень плохи, – четко ответила старуха, – потому что меня лечат такие врачи, как ты. Разве при моей болезни можно делать облучение?
Она сбросила одеяло и быстро привстала, ткнула в меня пальцем. Привлекая внимание окружающих, сказала громко, отчетливо:
– Безграмотный человек! Без-гра-мот-ный! Тебе тут делать нечего!
И вдруг резко закричала:
– Издеваетесь! Над больными издевательство!!!
Смолкла и – круто под одеяло, застыла. Мы обомлели.
Это было начало, классической трагедии, пролог… Дочка ее позвонила мне домой вечером:
– Вы показали свою полную несостоятельность. Буду жаловаться министру здравоохранения. Вы назначили рентгеновское облучение моей матери, но мама знает, что облучать ее нельзя. Больные понимают в медицине больше, чем вы… Разве это не тема для разговора?
Жестко: «Большого разговора, по большому счету!»
Истерически:
– Бездарь! Бездарь! Бездарь!
Бросает трубку. Короткие гудки. Так. Жизнь закончилась. Операции отменяются. Теперь главное – старуха Войченко, ее история болезни, ее назначения. Содрогаемся мы, комиссию ждем. Ах, воспоминания и ассоциации наши – свежи, кровоточат еще. У всех в памяти письмо больной Ивановой в Министерство. Это письмо целиком я уже приводил в своих записях где-то. Петрова проклинала меня за то, что я сделал ей рентгеновский снимок в связи с переломом правого предплечья. А снимок был сделан для исключения метастаза, поскольку у нее рак прямой кишки. Иванова ненормальная, она решила, что я ей «сжег кровь рентгеном», искалечил ее и т. д. Требовала меня сурово наказать. И вот недавно лишь побывал у нас главный министерский психиатр, случайно попал сюда, молодой человек, симпатичный. Он проездом здесь и занемог – боли в голеностопном суставе после травмы. Эти боли мы ему сняли иглоукалыванием, и благодарный психиатр рассказал нам, что произошло с этим письмом в министерстве. Уже само его содержание говорило, что автор ненормальный: «сожгли кровь рентгеновским снимком, убийцы! Какой же дурак снимки делает при переломе? Отобрать диплом у этого дурака! Пусть на станке поработает!» и т. д. Впрочем, письмо даже не читать можно, поскольку есть в приложении официальное заключение психиатра: параноидное состояние личности заявителя. Имеется еще акт комиссии, подтверждающий, что рентгеновский снимок больной Ивановой был сделан по показаниям и никакого влияния на ее кровь не имел. И все эти бумаги легли на стол главному онкологу республики.
Я хорошо ее знаю, приходилось встречаться. Она смутная, зыбкая, бесформенная – без четких границ. И не только в смысле тела, а и во всех прочих смыслах. Эта дама пытается отдать (отвязаться) жалобу Ивановой главному психиатру, то есть нашему гостю. Она берет относящиеся к делу бумажки, отрывается от стула, выходит в коридор, и уже оттуда в соответствующий кабинет. Симпатичный наш гость – главный психиатр – продолжает рассказ:
– Заходит, значит, она ко мне и – шасть бумаги на стол, – а ну, разбирайся, тут паранойя, по твоей стал-быть части.
Но я отказался, говорю:
– Рак более тяжелое заболевание, нежели паранойя! Значит – в основе рак, а паранойя – сопутствующее страдание, не главное, не основное. Главное – рак. Значит, жалоба за вами!
Так и осталась жалоба за ней. А еще через год, при утверждении плана онкологического института по науке, она извлекла это письмо на свет и обрушила его на голову директору Сидоренко:
– Что происходит у вас под носом! Безобразие! Куда смотрите!
Она уже 25 лет работала в министерстве, каждый день за письменным столом. Она – столоначальница: входящие, исходящие, бумажки, папки, тесемки. При помощи жалобы Ивановой она обозначает свое присутствие и озабоченность на коллегии. И как изображает! Сорок восемь научных тем, из них кооперированных 18, международных – столько-то, так все исчезло на этот момент, похерилось куда-то, за параноидным письмом Ивановой уже ничего не видно. Оно как дьявольская скрижаль – и в сердцах, и в думах, и в воздухе самом! Слава богу, министр их на землю возвратил, и тогда только они о науке заговорили…
Все это мы хорошо знаем, хорошо помним и страшимся. Мы думаем и говорим друг другу:
–Если даже заверенный психиатром параноидный бред Ивановой такое действие произвел, то что же будет теперь, когда Войченко напишет! С повадкой демагога! Аргументированно! Артикулированно! Задушевно! И честно!
Что же это-шаги командора? О, ужас… О, ужас… О, ужас…
Нет, слишком торжественно, красивости много – средневековье.
Сорок второй год. Я лежу на земле. От самолета отрывается черная точечка, она летит, приближается – мне в глаз, в зрачок! Свист. А-ах! Не в меня!
Нет, не так остро, а длиннее, томительней. Что же это?
– Да не думайте вы, бросьте, – говорит Алла Григорьевна. – Поручите этих людей мне. Все будет хорошо, вот увидите. Все будет хорошо, – повторяет она и улыбается.
И отсекает меня от них, наводит мосты и контакты, лаской, улыбкой, любовью она врачует пещерные их инстинкты, мягко парирует провокации. По совету Юрия Сергеевича направляем «карбункулов» в институт на консультацию, чтобы назначения были уже институтские, не наши. Тогда нас нельзя обвинить, что мы неправильно их лечим. По этому пути комиссии идут особенно охотно. Лечение не столь наука, сколь искусство, здесь бить легко. Это как, например, критик может облаять картину или книгу. И еще предполагалось: их укротит величие института, «Открытый прием», толпы благоговеющих, цветы… Но человек у нас предполагает, а психопат располагает. Эти двое прибыли почему-то поздно вечером. Прием закончился давным-давно, врачи разошлись. Старуха и дочь-инвалидка принялись колотить в закрытые двери. Опрокинув санитарку-ключницу, они ворвались в опустевшее здание с истерическими криками, с визгом, ревом. Все живое попряталось, позапугалось. А эти двое разогревали друг друга на вопле, на выдохе. И еще их вдохновляло то обстоятельство, что сюда они приехали на такси – потратились зазря…
Ну, теперь держись. Мне тошно стало от этих известий: бесы во тьме… На другой день, в воскресенье, я позвонил Алле Григорьевне, передал ей последние новости. Она сказала:
–А вы не волнуйтесь, у вас своих дел достаточно. Это мое дело, вы же их мне поручили. Вот только позавтракаю и схожу к ним, они рядом живут – соседи, так мы по-соседски… Ха-ха, – смеялась она, лукаво и бодро, – не сомневайтесь, не волнуйтесь, успокойтесь! – повторила она, попрощалась и повесила трубку.
В понедельник рано утром она позвонила мне домой:
– Дело налаживается постепенно, я веду большую дипломатию, вы же знаете, какой я дипломат. Только прошу у вас разрешения опоздать сегодня на работу, у меня боли небольшие за грудиной и…
– Что вы, что вы, – перебил я, – сейчас же ложитесь, о работе – ни слова! Сердечные боли – значит, полный покой!
– Спасибо Вам, – сказала она, – Вы такой добрый! А насчет этих не волнуйтесь, я чуть полежу и договорю их.
Ее положили в больницу, потому что боли усилились. А еще через день она мгновенно умерла от разрыва сердца на фоне тотального инфаркта задней стенки левого желудочка. Провожать ее пришли сотни людей, весь дом, вся улица, пациенты, знакомые. Сквозь эту толпу во дворе я пробился к самому гробу, взялся рукою за край, смотрю на лицо. Когда разрывалось ее сердце, на лице отразилась дикая боль, которая и застыла в смертной маске. И страх, и растерянность, и обида… Это ко мне: я поручил ей это! Я! Алла Григорьевна, Вас не вернуть… Алла Григорьевна, Вас не вернуть… Аллаааа….
Кто-то резко трясет меня за рукав сзади или сбоку. Я оборачиваюсь. Нос в нос, глаза в глаза: дочка-инвалидка Войченко. Ее губы шевелятся, слышу звуки, слова:
– Так и знала, что найду Вас здесь. Так и знала. А мой вопрос не решен, в институт зря проездили. Надо решать, сколько ждать можно! Сколько можно ждать? А?
Тут я бросаю свое ничтожное перо. Шекспир, Данте, Достоевский, возьмитесь, опишите, чтобы поняли люди, чтоб они узнали и содрогнулись. А я чуть передохну и дальше пойду.
Куда же мне теперь? На юбилей, чтобы развеяться. Тридцатилетие окончания института.
Мы вновь – юные студенты. Мы сбросили морщины, убрали животы.
А медики пешочком,
По камешкам, по кочкам,
Путь свой держат в ЦГБ!
Что за глотки у нас! Кажется, ничего не изменилось. И с новой силой взрываемся:
Пошел купаться Ваверлей, Ваверлей,
Оставив дома Доротею, Доротею.
С собою пару пузырей,
С собою пару пузырей,
Берет он, плавать не умея!
Мы поем дружно, мы избираем секс-бомбу факультета. Она встает, раскланивается, хохочет. Было за ней это, было… Гремит музыка. И мы были молодые, Господи, какие мы были! Да и сейчас: – Ленька, здоров! Янька, Генка – сюда, ну, ребята… Римочка, привет! Кровь, кажется, опять молодая, еще вином подогретая. Ах, головы же мы вскинули, и походка легкая. И где-то за городом, куда пароход завез, я на коня верхом вскакиваю и разъезжаю, и фертом на девочек моих бывших, гусарствую. Да что там я! Вот Галочка Русина. Ни дня врачом, кажется, не работала. После института – сразу на телевидение диктором. Потом замуж за писателя. Обеспечена. Культ здоровья и тела. И пластическая операция на лице. Наши дети, наши мальчики клеются к ней, полагают сверстницей. Она подмигивает в нашу сторону и пальчик к губам, и танцует с ними быстрые танцы, и уматывает их. Они валятся от ее темпа, не выдерживают они, а мы в восторге. Мы охаем, она счастлива, ее звездный час.
Ах, Галка! Галка! Галллочка…
И снова – музыка. Вино и музыка равняют всех. Но…
В круговерти бесподобный профиль Володи Линника. Он был денди, да и сейчас – костюмчик, рубашечка, колесики со скрипом. Еще он был общественный вождь, всегда сидел в президиумах, а я рисовал на него карикатуры для экстренных «Молний», ибо этот профиль под карандаш просился. Впрочем, Володя не обижался, он свою миссию понимал, сам подхохатывал. Я слышал, что у него были очень большие неприятности. И то, что он сейчас в этом зале, с нами, в своем костюмчике – уже радость огромная, если не чудо…
Я кинулся:
– Володя, слава богу! Обошлось, значит!
– А ты знаешь? Ты знаешь? – спрашивает он тревожно и доверительно.
– Знаю, Володя, знаю. Но сейчас уже все в порядке, да?
У него слезы в глазах:
–Обошлось, ох обошлось… А сколько я пережил, сколько пережил.
– Поздравляю! Поздравляю!
Но…
Через несколько минут узнаю, что несчастье, которое я имел в виду, произошло с другим доктором, его однофамильцем, и тоже того зовут Володя. А с этим Володей что? Да у него свои собственные несчастья, о которых я просто не ведаю. Здесь гремит музыка, льется вино, веселые лица и счастье песнями-перекатами от стола к столу.
Но…
Подойди к любому, копни каждого – крепость в развалинах.
И…
На стене роскошного ресторана висит красочное объявление оргкомитета:
ДРУЗЬЯ, ВЫПЬЕМ ЗА УСПЕХ НАШЕГО
АБСОЛЮТНО БЕЗНАДЕЖНОГО ДЕЛА!
И…
Двое наших студентов на юбилей не явились по уважительной причине, хотя деньги успели внести, билет получили. Это Малкин: за два дня до нашей встречи во время операции он упал мертвым на кафель операционной. При вскрытии обнаружен истинный разрыв сердца. Это Володя Мурик: разрыв сердца после анонимки…
Ройтер, железный Ройтер, минуточку внимания, я представлю сейчас этот неполный список разорванных сердец.
Лев Семенович Резник – основатель и главный врач легочно-хирургического санатория. Его сердце разорвалось на работе, он умер на руках своего заместителя Михаила Тихоновича Корабельникова.
Виль Харитонович Мухин – уникальный хирург, наверное, самый сильный из всех, кого я встречал. (О нем еще расскажу обязательно, вот только этот список закончу…)
Михаил Юрьевич Пахомов – сотрудник нашего диспансера, о нем уже было…
Малкин – просто упал в операционной, а что, почему – мы не знаем, сведений нет…
Ефим Григорьевич Печерский – заведующий урологическим отделением БСМП: жалоба, комиссия, инфаркт, смерть.
Володя Мурик – главный врач городской больницы: анонимка, комиссия, инфаркт, смерть. А ведь здоровый был парень: всю войну десантником…
Алла Григорьевна Минкина – доброта наша незабвенная…
Список достоверен, смерть удостоверена.
И…
Многоуважаемый Ройтер, не проанализировать ли нам сей документ? Не осмыслить ли нам его, друг Горацио? Усилия, как видишь, огромны – уже рвутся сердца, а толку нет. Нами недовольны. Послушай-ка разговоры: о чем говорят люди в автобусах, в трамваях, на улицах, на посиделках, в магазинах? Они недовольны. Мы умираем, а они недовольны.
Организатор здравоохранения Ройтер, кому нужна такая организация? Но ты спрашиваешь:
– В чем же дело?
– Детерминист Ройтер, запомни: сложные системы детерминации не подлежат.
– Что же взамен?
– Ну, конечно, этот вопрос я ждал от тебя. А взамен, друг Горацио, пусть реализуется доверчивость свободного рассудка, открытый прием, доверительный промежуток между Правилами и Реальностью, между Инструкцией и Обстановкой. Тебя беспокоит, чем или кем сей промежуток заполнить? Ах, друг Горацио, мы заполним его не чиновниками, не ревизорами-балбесами, не паразитами-присосками, не призраками и не теми, кто изображает голландский сыр на работе. Доверительный промежуток уже по одному созвучию мы заполним теми, кому доверяем. А мы доверяем Авторитетам. И да здравствуют Авторитеты!
Юрий Сергеевич Сидоренко,
Лев Семенович Резник,
Аким Каспарович Тарасов,
Виль Харитонович Мухин…
Ладно, этот список закончу при случае, а теперь вернемся к Виле Мухину, я же обещал.
Он был обаятелен, молод, красив и удачлив. Все у него получалось просто и великолепно, за что бы ни брался, а хирург – Божьей милостью, резекцию желудка делал за 25–30 минут. Такого я никогда не видел и не увижу. На двух столах одновременно начинали аппендэктомию и резекцию, заканчивали в одно время…
– Виля, как это у тебя получается, чтобы резекция так быстро?
Он отвечал:
–Да просто. Левой рукой берешь желудок, а правой его вырезаешь…
В его словах содержалась не одна только ирония или шутка, а еще и серьезная правда, которую можно было понять и принять, но не формально, а через чувство, на особенной родственной ему волне. Он говорил мне:
– Оперируй на шее свободно, не бойся, здесь только сосудистый пучок имеет значение, все остальное – выдумки наших врагов.
Во время операции ткани не подчинялись ему насильно, а как бы вступали с ним в добровольный и тайный союз. Легко и Божественно, вроде сами по себе, они расходились, расслаивались, мгновенно обнажая все нужное на глубине. И снова соединялись четко и мягко, сопоставляя топографию отдельных слоев. А руки его в это время красивых движений не делали. Да и широченные перчатки, которые болтались на пальцах, никакого отношения к высшей эстетике не имели. Виля просто работал, и не на публику.
Ухватившись за его образ, я сразу ухожу в то время и вижу… Он оперирует очень много – 12–16 операций в день, в перерывах курит в предоперационной, а сигарета на зажиме. Потом ныряет к себе в кабинет – в кабинетик на первом этаже, пишет докторскую. Потом конференции, доклады, отчеты, вызовы, консультации, еще собаки в эксперименте… Потом еще очень и очень многое и разное, и все взахлеб, безостановочно, но и без надрыва, даже вроде и без усилий, как дышит. И покой от него и уверенность, когда он рядом. Вот началось там наверху кровотечение, остановить не могут, где-то в животе, в малом тазу, в грудной клетке – там паника. За Вилей гонец – срочно, ах, срочно туда!
– Тихо, тихо, – говорит Виля, он же такой сторонник тишины. (Главное, чтобы тихо…)
А сам быстро тапочки обувает и бежит из кабинета своего в операционную. Но не так бежит, чтобы все видели – вот Виля мчится, на пожар что ли, а незаметно, по-над стеночкой… И в операционной появляется не драматически, а как бы походя. Руки в стерильные перчатки сует, халат, шапочка сами надеваются. И сразу все становится понятным. У него сложное простым делается, и где темно было, там уже все видно, и что глубоко засело в яме какой-то дьявольской, то уже и на поверхности. И ничто не мешает вокруг, и – вот он, сосуд кровоточащий, – каждому дураку теперь видно. И где лужи страшные были, там сухо теперь. А Виля уже уходит, ускальзывает безо всяких лавров и аплодисментов – это ему совсем не нужно.
Он любое позерство, любую позу органически не выносит. Сам никогда не оперировал на публику, перчатки любил широкие, больше размера руки, чтобы болтались свободно, не давили и не стесняли бы движений. Если при нем кто-либо позировал на трибуне, в разговоре или за операционным столом, Виля говорит: «Изображает голландский сыр». И добавлял: «Не по вкусу, а по запаху…».
Сам оперировал легко, потому что чувствовал себя всегда свободно. Он был внутренне свободным, казалось, ничто его не тяготит, и улыбка всегда. Силен был во всем – даже в Абракадабре: отчеты составлял блестяще, чтобы оставили в покое.
И всегда – свободен!
Помню вечер в ресторане. Это был ужин в честь Сени Дымарского и меня. Виля был нам благодарен, каждому за свое. Сене временами он поручал своих студентов, срочно выезжая на операции во все концы, куда звали, приглашали, умоляли, звонили, трезвонили. Да, кстати, и платили, тогда это было можно. А я с ним ездил, ассистировал ему, а потом мы забирались в экспериментальную лабораторию окружного госпиталя – за городом, и там оперировали еще собак, трансплантировали им сонные артерии и возвращались совсем уже поздно на такси, когда трамваи уже не шли, а мы были молоды.
В общем, в конце учебного года Виля давал ресторанный ужин в нашу честь. На столе шампанское в серебряном ведерке с колотым льдом, дорогой коньяк, икра, конечно, черная и красная, другие красоты-прелести и цветы – солидный был ресторан. А мы разодеты, разглажены. В те годы о джинсах и куртках еще неизвестно было, в ресторан и в театр ходили торжественно и строго. Ритуалы еще были в ходу, и дам приглашали на танец чуть церемонно, не наклоняясь над ней всем телом, а стоя прямо, и лишь подбродок на грудь, и чуть каблучками прищелкивая, а у них даже шпоры остаточные кавалергардские где-то в подкорке позванивали. И музыка не ревела по-нынешнему, а тихо звучала, разговорам не мешая, а лишь оттеняя общение ресторанной лирикой и поволокой.
За соседним столом сидел Большой Начальник, пил коньяк, закусывая икоркой, слушал музыку, и это тоже было в порядке вещей. Он поздоровался с нами, улыбнулся. И снова принялся за свое. Мы тоже отдали дань кулинарии и напиткам, а когда разогрелись окончатально, Виля неожиданно встал из-за стола. Лавируя меж танцующими, раскланиваясь по сторонам, он поднялся на сцену к музыкантам, подошел к саксофонисту, подарил ему очаровательную улыбку, протянул руки, взялся за саксофон и уверенно, как будто так и надо, как-то вынул инструмент из музыканта. Мелодия захлебнулась и смолкла, сломался танец, пары остановились, запахло скандалом, и дежурный милиционер пошел уже от двери на сцену.
А Виля к залу лицом, и хозяином положения, улыбка, еще одна – совсем лучезарная, и уверенно – жест успокоительный, и мундштук в зубы – и полилась, полилась, черт возьми, прелестная мелодия чистыми волнами. Соло на саксофоне! Все остановилось и смолкло восторженно. Виля упивался музыкой, он наслаждался. Ему так хотелось. В наслаждениях он себе никогда не отказывал и препятствий не знал. Он был свободен, я же говорил…
…Он лежал со своим еще первым инфарктом, и к нему пришла его пассия, когда дома никого не было. Пришла невинно, с цветами и фруктами. Но Виля дары деликатно в сторону, а ее самою – к себе. Она забеспокоилась:
– Что ты, Виля, у тебя же инфаркт, тебе нельзя!
Он засмеялся:
– Кто из нас доктор – ты или я?
Аргумент показался резонным…
В работе он тоже видел наслаждение. Казалось, ему всегда хорошо, и лишь изредка, что-то вспоминая, куда-то окунался, и в глазах – серый чугун, да и то на мгновенье какое, потом опять смеялся, хохмил, подначивал.
В президиум Всероссийской конференции онкологов слал записки:
«Дорогие делегаты, вы не зря прошли свой путь-
Ёся Рывкин вам покажет,
Как не надо резать грудь!»
Или
«Рак повержен в прах и в тлен,
Наш Ефим отрезал член…»
В те годы Иосиф Рывкин считался специалистом по раку грудной железы, а Ефим Леонидович Сагаков писал диссертацию по раку полового члена. Оба они были в возрасте, казались нам почтенными старцами, а мы – совсем щенки, и нашим духовным вождем был Виля Мухин, которого уважали и обожали за все уже сказанное. И еще за отвагу.
В экспериментальной лаборатории Окружного госпиталя собирались по ночам после нескончаемого рабочего дня. Как я уже говорил, мы занимались трансплантацией общих сонных артерий у собак. Громадный пес лениво дремал, и мы думали, что он уже под морфием. Когда же вознамерились водрузить его на операционный стол, пес дико зарычал и ринулся на нас. Мы, Вилина свита, в ужасе отпрянули, а Виля прыгнул вперед и сделал невероятное: правой рукой он схватил пса за морду и сомкнул ему челюсти, а левой рукой одновременно вцепился в загривок. Сжимая пасть, он удержал собаку, которая рвалась из рук. Нам, остолбенелым, сказал (не крикнул, а сказал!): «Чего стоите? Вяжите его и морфий…».
А после – ни слова упрека. От восторгов наших и похвал отмахнулся.
Конфликты при нем как-то затухали, склоки оседали, тускнели. Другая тональность от него возникала. И даже упоминание его имени влияло на атмосферу разговора и спора. Так и случилось во время одного застолья в доме журналиста Л. Казанского, которого я знал давно – он пропагандировал запись медицинской документации на магнитную пленку. Мы с ним тогда подружились, ездили вместе на юг отдыхать. И вот я пришел к нему в гости, а там большая компания за столом, а во главе стола сидел или даже довлел незнакомый парень, здоровенный, со спутанной шевелюрой, которая чуть ниспадала на его могучие плечи и как бы припахивала богемой.
– Поэт Ермилов, – небрежно бросил он в мою сторону и сунул не то ладошку цельную, не то два пальца.
Жена поэта, миниатюрная красавица, сидела рядом. Среди женщин в те годы было не принято ходить без лифчика, но, казалось, что она может себе это позволить. Кроме того, у нее была тонкая талия, плавные бедра и ножка очаровательная под столом. Кушала она изящно, элегантно, вообще привлекала внимание, но держалась отчужденно и строго, соблюдала дистанцию, а на взгляды любопытные и дерзкие высылала встречный лед, как это умеют делать женщины, когда не хотят. Впрочем, и должность у нее была серьезная. Она заведовала отделом комсомольской этики или эстетики в молодежной газете. А ее муж говорил жарко о литературе, о поэзии, ему хотелось быть мэтром. Но этому мешал золотистый рыбец с прозрачной спинкой, который капал на разрезе, а также языковая колбаса, ветчина нежная, тонко нарезанная еще в гастрономе, хрен, горчица, свежий хлеб, наша молодость и волчий аппетит. Духовные ценности в этих обстоятельствах как-то отодвигались на второй или даже третий план, уступая могучей вегетатике и первичной природе.
Видя такое дело, наш мэтр решился на крайнее средство:
– Вчера мы разгромили Евгения Евтушенко, камня на камне от него не оставили, – сказал он и самодовольно оглядел жующих.
Жевание действительно прекратилось, автономные разговоры смолкли, наступила тишина. Сакраментальная фраза была произнесена в ту пору, когда газированные стихи Е. Евтушенко впервые вырвали пробку и взбудоражили публику.
– И где же вы его громили? – зловеще спросил какой-то вундеркинд напротив.
– В редакции нашего журнала, – гордо ответствовал поэт Ермилов.
– У вас ничего не получилось, – срывающимся голосом сказал другой очкарик. – Во-первых, потому что Евтушенко просто не знает о вашем существовании, а во-вторых, потому что если вы даже станете друг другу на голову, всем вам вместе не дотянуться до его лодыжки…
Это была перчатка и пощечина в дворянском собрании.
К барьеру! К барьеру! К барьеру!
Страсти накалились, мгновенно, о еде сразу забыли.
– Мещане! О, мещане! – ревел мэтр, излучая озон и молнии.
Теперь он действительно был в центре внимания и наконец-то мог разгуляться.
– Я знаю, я знаю, что вы ищете в этой поэзии! – рычал он. – В этой так называемой поэзии! – тут же поправлял он самого себя.
– Так что же, что же мы ищем? – язвительно задыхались очкарики, – скажите, слушаем вас, – и сабелькой в него: – А ну-ка! А ну-ка! А ну-ка!
– Вы ищете эротику, – выдохнул мэтр, указывая на них разоблачающим перстом. – И что такое Евтушенко? – вопросил он у люстры, подымая к ней глаза в руки. – Евтушенко, – ответил он с неподдельным волнением, – это апологет, да, пожалуй, и представитель разнузданного секса в литературе.
– Доказательства! Доказательства! – верещали очкарики.
– Доказательства? Ну что ж. «Ты спрашивала шепотом: А что потом, а что потом? Постель была расстелена, И ты была растеряна», – горестно цитировал мэтр. Мое терпение истощилось.
– Послушайте, – обратился я к нему, – а почему вы решили, что секс противопоказан литературе? Помните известное стихотворение Роберта Бернса: «…И между мною и стеною
Она уснула в эту ночь…
– Да, но «она была чиста, как эта горная метель», – живо откликнулся тот.
– А помните, у Пушкина на полях «Евгения Онегина» есть рисунок поэта и приписочка к нему:
Там, перешед чрез мост Кокушкин
Опершись……на гранит
Сам Александр Сергеевич Пушкин
С мосье Онегиным стоит
.
– Как вы думаете, – продолжал я, и мне тогда казалось, что это очень тонко и язвительно, – как вы думаете, – чем он оперся?
Не отвечая прямо на поставленный вопрос, мэтр заметил:
– Во-первых, это не секс, а, скорее, некоторая вольность поэта, а главное, на полях, не в тексте, а на полях. Да мало ли, кто что на полях делает, в стороне от текста, на обочине. Это использовать – все равно, что в замочную скважину глядеть!
– Ах, скважина, скважина, – закипел я, – так сейчас не замочную, а натуральную вам предоставлю, и легально, не с обочины, а из текста прямо:
Орлов с Истоминой в постели
В убогой наготе лежал,
Не отличился в жарком деле
Непостоянный генерал.
Не мысля милого обидеть,
Взяла Лаиса микроскоп,
И говорит: дай мне увидеть,
Чем ты меня, мой милый….?
– Личное, интимное, – забормотал мэтр, сбавляя, однако, тон, – в стороне от главной линии творчества, а главное, главное, – снова приободрился он, – главное – это гражданственность. И уж здесь все это неуместно: гражданственность и милая вашему сердцу гадость несовместимы.
– Куда там! – сказал я, – послушайте, что писал Пушкин в адрес временщика и царского холуя Аракчеева, да и в адрес самого императора:
Холоп венчанного солдата,
Благославляй свою судьбу.
Ты стоишь лавров Герострата
Иль смерти немца Коцебу.
А, впрочем, я тебя…!
– Так это же опять эпиграмма. И что вы привязались к эпиграммам? На обочине же творчества… Обочина вам больше нравится, да? Все вы такие…
Остальные спорщики уже замолкли и смотрели с интересом наш поединок.
– У великих не бывает обочины, – сказал я, – это все ваши дурацкие реестры, организация здравоохранения: главное, неглавное, основное, побочное. Впрочем, вы хотите
чего-то хрестоматийного, так извольте, но и здесь ваши реестры недействительны:
Румяной зарею
Покрылся восток.
В селе за рекою
Потух огонек.
Росой окропились
Цветы на полях,
Стада пробудились
На мягких лугах!
Эти стихи я впервые прочитал в своем учебнике для третьего класса. Хрестоматия… Но когда стал постарше, узнал, что это только начало стихотворения, которое, кстати, называется «Вишня». Далее по ходу повествования:
Пастушки младые
Спешат к пастухам.
– Ну и пусть себе спешат, – заметил мэтр, – с Богом!
– А вы послушайте, как описывает пастушку А. С. Пушкин:
Корсетом прикрыта
Вся прелесть грудей,
Под фартуком скрыта
Приманка людей…
– Плотно одета пастушка, – иронизирует мэтр.
– Всему свое время, – отзываюсь я, – пастушка ведь на дерево залезла, чтобы вишен нарвать.
– Ну и что?
– И вот тогда-то:
Сучок преломленный
За юбку задел,
Пастух изумленный
Всю прелесть узрел!
……………………
Любовь загорелась
В двух юных сердцах.
Пастушка упала на землю, к ней ринулся пастушок, обнял ее и…
…Соком вишневым
Траву окропил.
Такая вот хрестоматия. Детям, разумеется, только два четверостишия и можно давать, дальше нельзя – они еще маленькие. А нам, взрослым, это можно. Вы говорите: «Мещане». Это не мы мещане, это вы – младенцы!
Тот же член мочу выводит
И детишек производит
В ту же дудку дует всяк –
И профессор и босяк!
Это Гейне. «Орлеанскую девственницу» писал Вольтер, а «Гаврилиаду» – Пушкин.
Казалось бы, теперь и палец некуда просунуть, но этот парень не зря рвался в лидеры. Он сказал:
– Вы нас ловко увели в другую сторону, завели черт знает куда. Не о великих мы говорим, а про Евтушенко. А он – бездарь, понимаете? Его стихи, как дешевые базарные клеенки, на которых лебеди нарисованы и пышнотелые красавицы. Вам это нравится, потому вы – мещане!








