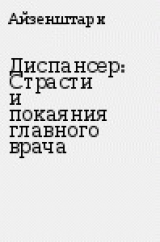
Текст книги "Диспансер: Страсти и покаяния главного врача"
Автор книги: Эмиль Айзенштарк
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
Гагра – либеральный город. Здесь боготворят родителей и почитают соседей. Сосед – свет в окне. Сосед с тобою и в горе, и в радости, и сосед закроет тебе глаза, когда придет твой час и черед. В этом городе не было раньше замков, дома стояли незапертые, и какие дома! С колоннами и витыми мраморными лестницами, с кокетливыми широкими верандами и с хитрыми еще выдумками напоказ. Впрочем, за последнее время кое-что уже изменилось в сторону усреднения на основе общих стандартов. Однако же коренные гаг-ринцы все еще верят в свою исключительность. С двумя нашими девочками я заказал молочный коктейль и поднял бокал, цитируя Пушкина: «Друзья, прекрасен наш союз!». Юный абориген тотчас поправил меня: «Прэкрасен город Гагра, а нэ Союз!».
Но мы приехали сюда не спорить, а отдыхать. И мы идем на пристань. Прогулочный теплоход везет нас в открытое море, за горизонт, и соленый ветер полощет нам бронхи, газирует кровь и радостно шибает в голову, как шампанское. И было двойное ощущение времени: с одной стороны, эти дни и часы просверкали, как молнии, а с другой показалось, что мы отдыхали здесь чуть ли не месяц. И ведь отдохнули на славу. Наши плечи расправились, страхи-тошноты пропали, зазвучали, зазвенели наши голоса. И захотелось работать, работать… Ноздри уже раздувались: возьмемся, ох, и возьмемся. Никто, конечно, не сказал ничего такого вслух, но мы уже перемигивались, как заговорщики, и назад ехали, внутренне засучив рукава и как бы пританцовывая от азарта и нетерпения. Колеса отстукивали в унисон: возьмемся, возьмемся, возьмемся!
А как приехали в диспансер, нам сказали: «У вас ревизия». И свет померк. И тьма над бездною. И стоим мы перед ними словно голенькие. А те смотрят спокойно и нас глазами ощупывают, как хозяйки живых кур на базаре.
Ах, контролеры же – гости не прошенные! Одна – пожилая, расплывшаяся, чуть колышется от избытков. Другая же – молодуха точеная. Обе мне мандаты сунули и – за дело свое. А дело у них – военное. Аптеку они сразу отрезали – опечатали. У них это в манере – аптеку разом отсечь. Восставшие захватывают поначалу вокзал, телеграф и еще чего-то. А эти вот – аптеку. Тут же развернулись они на учет и отчетность. Журнал и книги амбарные хотели у нас забрать, чтобы мы там чего не исправили на ходу. Но не получилось, ибо столько их, что двум бабам не унести – коней надо. Тогда они что-то записали по итогам, дабы сверку вести потом, а пока захватили старушонку – сестру-хозяйку, заперлись с нею в ее каморе, и пошла у них толковища по мягкому инвентарю. Старушонка там, слышим, поплакивает, а мы снаружи суетимся, черноморский загар уже сходит, слезает. Из-под него на наши щеки румянцы ползут, как чахоточные, и сердца стучат с напряжением, нам давление набивают. Прощай, красавица Гагра!
– Девочки, – я говорю, – хватайте каждая свои журналы, оформляйте, сверяйте, записывайте!
А за что хватать? Их же миллионы позиций. По аптеке одной – приход-расход-остаток (излишек? – упаси, Господь, хуже недостачи), дефициты, выписки, листки назначений. За два года – по каждому дню!
– Девочки! – я кричу, – лекарства проследите, простучите до единой таблеточки. А тут самая путаница и возникает. Ибо аптека – понятие бухгалтерское, а болезни – от Бога. И соединять эти вещи нельзя – тогда уродство, бессмыслица и крах. Ибо начнет болезнь гранями играть-поворачиваться, тут мы и пойдем эти лекарства менять, заменять, выменивать. У нас одна мысль: в точечку фокусом, а ведь нужно бы и раздвоиться – все– и вся по журналам и ведомостям пере-перезаписать. Только оно опять не сходится, что-то там не получается, а еще в конце месяца излишки вдруг большие, ибо казна районная поздно оплатила, и мы разом товар большой получили, а расходовать его не успеваем. Еще больной таблетку попросил, и дали ему, но не провели ее по всем книгам. Где же таблетка? И комиссия выезжает в полном составе к одной старушке на квартиру (они это любят) и вопрошает официально:
– Вы, гражданка, таблетку такую-то получили в день выписки?
– Получила, родимые, получила, истинный Бог…
И когда благая весть эта пришла в институт, то вздохнули с облегчением прославленные хирурги. А одна даже прослезилась. Железная леди, хирург, а все-таки женщина.
Учет и Отчетность… Умом-головою мне ясно, что без них в нашей-то, Господи, модели не обойтись, но внутренне, эмоционально, и то и другое вызывает у меня шок и омерзение, как, например, скотоложество и педерастия. И я бегу, бегу, уклоняюсь, увертываюсь, я отворачиваюсь: авось, кто-нибудь там без меня сделает. А без меня плохо, ибо роковое правило администратора: хочешь дело провалить – поручи его кому-нибудь! А дел этаких – без числа! И зачем я к аптеке привязался? А питание больных? Трехразовое, по 2–3 блюда на каждого, за два года, и чтоб совпало: поступления – выписки – порции – дни. Десятки тысяч порций, и чтоб сошлось у этих-то кухонных-замурлыканных. Еще твердый инвентарь, медицинское оборудование, инструменты (шприцы бьются – списываются? не списываются?), лимит электричества, совместители (это черная дыра), приказы, оформления, канцтовары, простыни, подушки, одеяла. Их сейчас как раз пересчитывают. Господи, так чего же я тут сижу, что в каморе там, где толковища идет? Я – туда!
А там – старушка моя запуганная, обалдела совсем и, видать, пузырь у нее переполнен – ногами сучит. Да она сейчас им что угодно подпишет. А тем – премия долевая, с нашего горя процент. Уже акт они пишут. Я спрашиваю: «Ну, что тут у вас? Как дела?».
Пожилая молчит, глядит через меня насквозь, равнодушно, экономит себя, опытная. А молодуха играет – упивается, сама улыбочку строит, а в глазах огонечки волчиные:
– Недостача у вас… Выявили…
– А ну, остановитесь, – я говорю медным корабельным голосом. Пожилая перо отложила и как бы в даль уставилась.
У молодой на лице тень-капризуля и губы бантиком.
– Где недостача? Чего не хватает?
Они молчат. Я перевожу взгляд на свою старушку, и та, задыхаясь, кричит:
– Халаты! Халаты!
– Ах, вот оно что, так это же чепуха, сейчас принесу.
– А не это главное, – сказала молодуха с прищуром, – главное, откуда вы их принесете.
– Не бойся ты – тебя не обманут, халаты на случай войны на складе по гражданской обороне лежат. Уже лет десять, а войны все нет, слава Богу.
– Почему сразу не представили?
– Ну, забыла она. Кстати, дайте ей пописить, что вы ее держите?
– Не, не! – закричала моя старушонка, – мы общий язык нашли!
И льстиво на них:
– Оне люди хорошие…
И рукой молодуху погладила избыточно преданно и нежно.
Э, да отсюда и уходить нельзя… Быстро же это делается… Я говорю:
– Без меня ничего не писать, не подписывать – я мигом!
Через минуты с кипой старых пыльных халатов со склада ГО влетаю в каморку и по счету молодухе на колени бросаю. Завалил ее, а недостача все еще не перекрыта.
– Ерунда, – говорю я, – есть еще халаты стерильные в биксах, что завтра на операцию. Они обожженные, цвет характерный. Я мигом!
– Да не бегите, не старайтесь, – говорит молодуха, – ничего у вас не получится.
– Почему?
– Ну, принесете вы еще пять халатов, ну десять, но ведь сорок семь не принесете. Так чего же вы хочете?
– Сорок семь не хватает?
И опять, наслаждаясь моим позором и крахом:
– Так чего же вы хочете?
В голове сумбур, где же выход? Проверять, проверять самому. Обсчитались? Считать будем сейчас, хоть до утра. Черт с ним, до утра!
– Значит так, – я говорю…
Но сестра-хозяйка, моя старушонка-лицедейка, вдруг кричит, фальшиво подхохатывая:
– Да шутют оне! Семь халатов, не сорок семь!
И одной рукой молодуху за рукав треплет, как бы фамильярно, запанибрата, а другой по сторонам ведет, приглашая в свидетели всех нас и Всевышнего. И нынче уже на меня смотрит искательно так и льстиво.
– Шутют, шутют оне, – веселится она невеселая, – семь халатов только и не хватает, хе-хе…
– Ах, вот оно что, – пересыхает у меня во рту. – Ах, вот оно что, – белеют мои деревянные губы, – Ах, вот оно…
Я наклоняю свое белое лицо к лицу молодухи. Она тоже белеет…
Итак, недостача халатов устранена. Я покидаю каморку, иду наверх. Мои девочки в сборе, очень возбуждены, взвинчены. Силовые поля страданий электризуют воздух.
– Что случилось?
– Потеряли журнал…
И какой журнал, Господи!
– Да ведь за это знаете что?
Она показывает два пальца на два пальца положенные, решеткой перекрещенные, а к отверстию решетки глаз вплотную приставлен, как бы на волю смотрит. В детском садике еще мы так тюрьму изображали, по-детски символизировали…
– Ищите журнал, будьте вы прокляты!
Мы все переворачиваем вверх дном. Находятся давным-давно потерянные и уже забытые вещи, журнала нет. А завтра ЭТИ могут его истребовать… И тогда… И тогда… Холодное отчаяние заполняет наши души и эту комнату. Гаснут силовые поля возбуждения, уходят румянцы, приходят бледность, легкая желтушность и тупая покорность. Со дна души говенными поплавками всплывают подходящие сейчас слова:
– От судьбы не уйдешь… Чему быть, того не миновать… Сила ко-ло-ду ломит… Плетью обуха…
Я говорю:
– Проснитесь, девочки! Внимание!
Они поднимают головы с надеждой, встрепенулись, еще ведь не выбились – день мучений только первый. Но ведь и перелом острый психологический – после чистого и голубого да в этакую дрянь! Я говорю:
– Мы восстановим пропажу. Сейчас возьмем все документы из архива за два года, и день за днем перепишем в новый журнал. И пусть проверяют, хоть выборочно.
Кто-то охает, кто-то вякает, но ведь и выхода нет. Сорок две тысячи койко-дней… С разбором каждого…
– Давайте, девочки, ночь впереди!
Работа пошла. Я – не участник. У меня эти вещи не идут. Они быстро кипы расфасовали, новый журнал завели и пишут, пишут, пишут. Перед рассветом чуть даже поспали, потом снова взялись и утром завершили свой тяжкий труд, а на ногах уже не стоят. Теперь еще самая малость: на каждой странице и на обложке посидеть и поерзать, чтобы глянец снять, чуть засалить листы – дабы не показались они слишком свежими. Эффект усиливают, осторожно плюя на бумагу мелкими брызгами, прыская слюнями через губы. Наконец все готово. Мы делаем отдых, успокаиваемся, расслабляемся и… тут же находим старый журнал. Немая сцена из «Ревизора» (ах, ревизоры вечны!). Всем нам хочется разругаться друг с другом, но нет сил. Журнал, собственно, не был потерян, он просто размещался в большой Амбарной книге и был продолжением такого же манускрипта за прошлые годы. Волнение и паника отбили память, книгу перекладывали из рук в руки, и никто не догадался ее раскрыть. Смотришь в книгу – видишь фигу. Вот уж поистине:
Оперировать в таком состоянии нежелательно. Мы откладываем операции на следующий день в надежде выспаться сегодня, а пока идем на обход, маскируясь – я бритьем, они – макияжами. Но остаются наши глаза, и по ним больные узнают, наверное, все. К
тому же отдохнувшие за ночь ревизоры опять ожидают меня. Начинается день второй. А всего их было, таких дней, тридцать…
Менялись акценты и композиции, но солнце было тьмой багровой, и мы рычали на них. Они тоже озлились и ринулись в аптеку с надеждою, но там красавица баскетбольная с нежным лицом – Лена Романова. Халат белоснежный, руки крестом на груди, и подбородочек ее точеный вздернут чуть с вызовом. Скала – девочка, двадцать шесть лет. И не прошли они на главном направлении.
Теперь на кухню бегут. Сто четырнадцать стаканов чая перевыпили мы за два года. Вот он, их первый улов. Ну, да тут сам черт не поймет. А потакать им нельзя нигде. Левый край, правый край – не зевай! Я думал, что тут им и погрязнуть: десятки тысяч блюд за два года на балансе. Однако ж они, профессионально бумажки пасуя друг другу, и спортивно, и по-кошачьи как-то, разом все перелопатили и наковыряли лишних восемь шницелей. То есть их было восемь по плану, а мы взяли шестнадцать. Я – к поварам. Те говорят: «Все правильно, два шницеля на порцию, маленькие такие шницели, диетические…». Но пока я шницели искал – те еще чего-то нашли. Ах, был такой день, когда сделали большую выписку, а на кухню передать не успели. И стали супы, котлеты, компоты лишние и масло, несколько порций на завтрак, и молоко… Ободрились те, начет уже пишут в пятикратном размере по коэффициенту. Я говорю кухонным:
– Не плачьте, скинемся всем по рубчику. Тут принцип важен, чтоб не лазили впредь. Жаль. Ну да мелочи пока, не без того.
А те ночью врываются, следят, дежурных проверяют, отработку рабочего времени, за совместителей взялись. А тут секретарша зевнула, новогодний приказ обновила не сразу, а в феврале, и совместители целый месяц работали и получили без моей подписи. Те записали: ущерб государству.
И снова начет. И опять они ходят, ловят нас. И крутят, крутят что-то страшное, а что – неведомо. И куда кинутся – неизвестно. Вот к старухе подходят, и с улыбочкой деликатно ей:
– Бабушка, вы сегодня таблетки вот эти получали?
Старуха народная глянула истово:
– Я желаю тебе заболеть раком, здесь полежать, тогда узнаешь за эти таблетки.
Дрогнули они, отступились и к выходу, к выходу. Покинули диспансер. А радости нет, ушли ведь недалеко – в районную бухгалтерию, за три квартала, им там удобнее наши бумаги изучать-шерстить.
– Все впереди, все впереди, – доносят лазутчики, – что-то они вам готовят, а что – неизвестно… Другая теперь война – в темноте, ожидание. Не отдышаться нам.
Однако же удар-несчастье с другого бока пришелся. Вдруг начала кровить наша заведующая стационаром Лида Еланская. Мы в кресло ее – там опухоль!!! Какая? Доброкачественная или… Сидоренко сказал:
– Если рак, жить не будет, не вытянет. Огромная штука… И сильно загорала в Гагре, пережглась…
От девочек скрываем пока, но как-то сразу они все узнают. Жалеют, плачут. Ах, Лидочка, Лидочка, что ж ты наделала? Что мы наделали? Как пропустили? На что время потратили, Господи?! Прелестница, цветущая, да как же это?! Мужики оглядываются, шею себе вывихивают, глазами тебя жадно по коленям, по бедрам, а мы тебя к такой операции – на смерть? Господи, об этом и думать нельзя.
Она пришла ко мне в кабинет совсем отрешенная, выставила секретаршу, двери захлопнула. Лицо стальное, ни слезинки. За рубашку взяла меня, за ворот:
– Поклянитесь мне жизнью своих детей, что вы не поступите со мной, как с другими больными. Вы мне скажете правду. Мне правду! Правду! Слышите?!
– Да я… Да, Лидочка, да что ты?
– Детьми поклянитесь, внучкой, внучкой…
Она засопела, заплакала, я кинулся за валерьянкой, за тазепамом, а когда прибежал назад, ее уже в кабинете не было. Вечером я позвонил начальнице этих ревизоров на квартиру, чтоб тет-а-тет.
– Послушайте, у нас несчастье неожиданно, у Лидии Юрьевны обнаружили опухоль, будем ее оперировать.
– А я причем?
– Пожалуйста, сделайте перерыв, Еланская заведует стационаром, все проверки по ней идут, понимаете, у нее все нити в руках, без нее запутаем. Дайте человека спасти, а потом трясите, прооперировать только бы…
– Ну и оперируйте со славой, мы вам не мешаем, мы проверку ведем, у нас свое дело, а у вас – свое. Так что совмещайте.
– А ты помнишь, как твой супруг у меня на руках умирал? Это можно ли совместить с проверками и вообще с чем-либо? И что он тебе завещал тогда, ты помнишь?
– Мою боль не трогайте, сюда это не относится, а проверку мы будем продолжать, – заключила она твердо, и разговор был окончен. Ничего у меня не получилось, эти люди назад не оглядываются.
А ревизорам ведь и смысла не было тормозиться. Они яму-ловушку нам огромную как раз уже приготовили, нас туда завтра сталкивать будут. Всего только ночь у меня и осталась для отдыха. Но я об этом еще не знаю. Впрочем, моя телефонная собеседница тоже не знает, что скоро и второй ее муж будет умирать у меня на руках, и не знает Лидочка Еланская, что за опухоль у нее окажется, и скажу ли я ей всю правду чистую про анализ ее.
Никто ничего не знает. И, вероятно, от того мы все кое-как засыпаем в эту ночь и спим еще до утра.
Утром вызывают в бухгалтерию. Идут Еланская, зав. лабораторией пенсионерка Нина Абкаровна и я. Заходим с биением сердец.
Бухгалтера наши, защитники слабые, горем повитые, катафалками застыли на рабочих местах. Фронт их прорван, и бегут они в сердце своем. А победители-ревизоры смотрят празднично, сытыми кошками жмурятся, костяшками на счетах играют, как бы небрежничают, а шкура горит, флюоресцирует. Поймали нас! Ах!
Велят садиться. Сейчас начнут. Пожилая подалее вторым планом формируется, вроде бумаги перебирает, но вся здесь – оттуда. Молодая, как всегда, впереди. Ей слово. Не подымая глаз от бумаг, она начальственным, угрожающим тоном произносит короткую страшную речь.
Она сообщает нам официально, что ревизия обнаружила у нас крупные финансовые злоупотребления, которые выразились в значительных превышениях заработной платы. Больше всех я переплатил сам себе (эх, стаж и категория – бумерангом!), но немало переплачено и зав. стационаром Еланской, а также Марии Абкаровне и рентгенологу. В погашение нанесенного нами ущерба предлагается взыскать эту сумму с нас. Молодая дышит легко, раскованно, жестикулирует. Пожилая чуть головой подмахивает – в резонанс. Я слушаю одним полушарием, другим думаю, но не мыслями, а вспышками, разрядами: фырк! фырк! Чтение акта закончено. Теперь комментарии.
– В нашем акте все проверено, каждая цифра точная, – поясняет молодая. – Мы в область ездили, с главными контролерами консультировались, законы все и приказы сверили, да вы можете сами проверить, это ваше право, пожалуйста, но лучше вам подписать. – Она к Марии Абкаровне обернулась, за руку взяла дружелюбно:
– Мы пенсию вам пересчитывать не будем, оставим, как есть, – и с пожилой они переглянулись, и брови взаимно приподняли, и руками чуть повели, в смысле: – ладно, пусть уж пользуются нашей с вами, понимаешь, добротою.
Ко мне подошла с лицом открытым, безо всякого камня за пазухой:
– Вот вам совет – подпишите.
У меня в голове: фырк-фырк! За этакие суммы растопчут… выгонят… заплюют… трибуна… печать… Не отмоюсь… Нет… Но молодая уже проникла в мои тревоги и сказала мне искренне, с участием:
– Подпишите, и вам зачтется, что сумма ущерба уже погашена в процессе ревизии, понимаете, зачем вам нервы трепать еще? Дело ваше, конечно, – заключила она, – но добрый мой совет вам, честное слово.
Я оглянулся в душной этой комнате: Мария Абкаровна уже готова, ей лишь бы пенсию не тронули, так вот же и обещают… Лидочке Еланской деньги не нужны, на тот свет их брать, что ли? Значит, я только… Ну, мучители! Сейчас вы узнаете. Я открываю шлюз, а там хватает, и моя бешеная рука стальным кулаком бьет в стол, подпрыгнули их бумага проклятые, папки и пыль взвилась (или это дым?!). «Я тебе подпишу…» – надвигаюсь я на молодую и она снова бледнеет, как тогда в каморе. У моих – глаза живые стали, бухгалтера-катафалки разом очнулись. Так. Шлюз пора закрывать. Сейчас другая война пойдет. Я свеж и весел. Я отдыхал в Баден-Бадене, меня массажисты массировали, психологи накрутили, да и сам я уже экстрасенс неслыханный. Силы во мне, магнетизмы, энергии. А все прочие здесь – рядовые граждане. У меня перевес: адреналин в крови, сахар в моче. Потом все это еще отрыгнется за грудиною, по коронарам, но сейчас, но сейчас, эх!
– Книгу мне зеленую!
– Какую зеленую, какую? – заверещали бухгалтера уже с готовностью, уже с надеждою.
– Ну, толстую эту, как два кирпича, трудовое законодательство в медицине.
– Несем! Несем! – кричат. – Вот она!
– Выходит, начет вы сделали потому, что у меня совместительство свыше полутора ставок? А все, что выше, в начет. Так?
– Да, – сказали они.
– Смотрите сюда!
С книгой громадной иду на них, как с топором занесенным. Пальцем веду по строке, читаю, все слышат:
– Параграф 5. В медицинском учреждении при отсутствии ставок дежурантов дежурства не считаются совместительством. Понятно?
Молодая говорит:
– Ну и что? – и плечиками пожимает, и маску-недоумение делает, дескать, при чем тут это?
И опять я читаю громовым голосом по складам. И снова она говорит:
– Ну – и – что…
Пожилая вообще ничего не слышит, совсем в бумаги ушла, закопалась, а эта уже ничейную позицию на доске сводит вечным ходом наивным:
– Ну – и – что…
Знаем мы эти шахматы.
– Смотри сюда! – я командую, – видишь, весь параграф чернилом подчеркнут, шариковых ручек тогда еще не было, ты еще в ясельках на горшочке сидела, понимаешь, когда я эти слова подчеркнул и сбоку вот значочек выставил, называется Нота Бене, означает: «Не будь оглоедом, читай внимательно!»
Все меня слушают, кроме пожилой, которая занята. А молодая опять:
– Ну – и – что?
Я с другого бока ей:
– Одного контролера, – говорю, – мы и осекли тогда этим самым параграфом, через исполком, кажется, точно не помню. В общем, ушел он из вашей конторы… И фамилию назвал им всем знакомую, без обмана, значит! Молодая губку прикусила, отпустила, маникюрами воздух цапнула:
– А вы не имеете права сверх полутора ставок. Вообще. Совместительства, не совместительства – значения не имеет! Нель-зя!
И капризулькой – скороговоркой: «нельзя-нельзя-нельзя-нельзя!».
– Это можно, это можно, – говорю я одним полушарием, а в другом мысли-образы: фырк-фырк. Надо б ее немножко… Еще бы разок.
А молодая меж тем строчит и строчит из окопа своего:
– Нельзя-нельзя-нельзя!!!…
– Можно-можно, – ухаю я в ответ, а сам точку ищу у нее болевую. – Скоро мне большие деньги в кассе получать, – двадцать тысяч (цифра-то как подобрана ошеломительно, но и чуточку ведь правдиво).
Она запнулась, умолкла, огневая точка ее подавлена. В завоеванной тишине я продолжаю:
– И все эти рубли пойдут свыше полутора ставок, вообще помимо зарплаты. И что же, ты у меня эти деньги отнимешь? Начет? Протокол?
– Какие деньги?
– Видишь ли, я книгу про вас пишу… Это гонорар. А писателям знаешь сколько платят?
– Какая книга?
– Ну, про вас, про тебя, не понятно, что ли. У меня ж с издательством договор подписан.
Тут и пожилая от бумаг своих оторвалась. Она меня слушает в непонятии пока, но и с тревожинкой. А я мету себе дальше:
– Литературные критики знакомые просят образ молодой ревизорши, чтоб выразительно расписать со страницы на страницу.
– Ну – и – что? – сказала молодая.
– Да ничего, просто я описал тебя – и как сестре-хозяйке писать не давала, и как бабушку одну спрашивала насчет таблетки, и что она тебе ответила, помнишь?
– Ну, ну, – сказала молодая, а голос – другой, и воздух иной: ей – одышка, мне – дышать. Мы с ней – «Двое на качелях», только что пьеса не та… Я говорю ей:
– Вы что, законов о труде не знаете, приказы вам не знакомы? Всю жизнь сидите на них и не знаете? Да вы просто понадеялись, что мы в этом деле не волокем, чтоб свое оторвать, себе премию…
Она молчит, стукнутая.
– В общем, ты у меня получилась как образ… Рублей на семьсот пятьдесят… Мои законные.
Шепот-ропот по канцелярии тут пошел, на их памяти я стишок юбилейный сочинил, видать пером владеть умею, все правильно, я фаворит! Шайбу! Шайбу!!! – нутром понеслось по этому стадиону. Мне наступать. Я говорю: Перехлест часов идет, пиши протокол! Я по графику на ставке сейчас, а в голове у меня совмещение незаконное: я этот разговор сейчас работаю – лицо твое, руки, слова, все в дело пойдет и сумму потянет».
– Ладно, – сказала молодая, – половина суммы с вас снимается. Остается вам заплатить… – она застучала костяшками…
– В чем еще дело?
– Очень просто, – сказала молодая, – ваши дежурства с правом сна, а вам платили «без права сна».
– Какие сны? Ты чего?
– Поясняю: вы имеете право спать на дежурстве четыре часа.
– А кто не имеет права?
– Хирурги.
– А мы кто?
– Вы – онкологи, – произнесла молодая и опять затрещала своими кастаньетами.
Я выломал из нее счеты и сухим коротким залпом перемешал костяшки.
–Доказывайте, доказывайте! – пропела молодая и вновь улыбнулась доверчиво.
– А чего доказывать? Все ясно, онкологи и есть хирурги, у нас операционная для красоты что ли? Операционную видели?
– Видели, видели, – сказала молодая и опять воздух набрала, еще что-то сказать хочет наперекор, видно, только я перебиваю, не даю.
– А ведомость глянь? Мне же платят за категорию высшую по хирургии. Поняла? За хирургию! Не за астрономию! Не за русский язык! Не за математику! Я не повар, не пекарь, я…
Но тут бесстрастный и бесцветный голос, как репродуктор на вокзале, четко пресекает мою речь, оттесняет меня и захватывает пространство и внимание всех. Это пожилая. Она отделилась от бумаг, уставилась на бесконечность и проговорила:
– Вы являетесь хирургами. Но с улицы к вам не везут. Вы оперируете по плану, а это – не скорая помощь. Вы можете ночью спать, часы вашего сна не оплачиваются. Эти деньги мы высчитываем. Мы возвращаем деньги в бюджет. По закону. Возмещайте, платите.
Явление пожилой из глубокого тыла привлекает всеобщее внимание. Все головы разом повернулись к ней и, кажется, уже чуть подмахивают, как бы соглашаясь. Она меня сбила. Что значит свежий резерв! И весь адреналин я уже израсходовал. Негде взять… Тогда сарказм, другой ход – игра на шпагах!
– Вы уверены в том, что говорите? Твердо знаете это? Или наобум Лазаря?
Я вопрошаю многозначительно, вроде зная что-то наперед и щурясь от хитрости.
– Доказывайте, доказывайте, – говорит пожилая неопределенно, в космос.
– И докажем… Документально.
Но тут молодая с другого бока зашла, они меня в клещи берут. Пасуя друг другу легкие бумажки и тяжелые амбарные книги, они пальчиками тычут в номера, параграфы. И мелькают приказы, табеля, директивы и ведомости, звучат, рычат и тявкают незнакомые, непонятные марсианские слова. Это дело не моего естества. Экая Тьмутаракань – чужая территория. Пора уходить, не теряя лица. Но молодая мне под руку ныряет, в ближний бой просится – под самый нос бумаги с печатями сует.
–Вот, – говорит, – посмотрите-ка, тубдиспансер с правом сна получает с вычетом, а вы – без вычета.
И уже резвится:
– Тубологи с вычетом, онкологи без вычета… Ха-ха-ха!
И ропот новый, уже по залу:
– Тубологи… онкологи…
Пора, пора уходить. Прикрывая отход, я кидаю им:
– Че-пу-ха! Чепуха! Все слова ваши – сотрясение воздуха. Я вам документ привезу заверенный, что мы оперируем ночью тоже. Онкологи – не тубологи. До свидания!
Я оборачиваюсь к своим, говорю: «Пошли!» И мы выходим на свежий воздух.
А там – солнышко жаркое, люди газировку пьют, ларек, мороженое… Только мы – другим путем, мимо всего этого. Лидочка Еланская молча идет, свое мыслит. Я – в инерции боя: зубы щелкают, губы шепчут.
Ус-ссслышьте нас на суше,
Мы гибнем от удуш-шья,
Спешите к нам!
– Это ж надо, какие дряни, – говорит Мария Абкаровна, – законы о труде им не известны… Ревизоры и не знают законов? Конечно, знают, притворяются только, премию себе зарабатывают.
– Да нет, – я возражаю. – Вы не правы. Они не знают законы. Их знать нельзя… Их четыре с половиной миллиона – законов и директивных писем, имеющих силу закона, попробуй, запомни! К тому же еще они противоречат друг другу.
И в одном приказе, в тексте едином кручено-накручено. Вы заметили, я ревизорам когда защитный параграф читал, остальное ладошкой прикрыл, вроде им чтение облегчил, глаза им нацелил. А ведь я тогда иной пункт запрятал, который от нашего камня на камне не оставил бы или, наоборот, наш того вдребезги бьет. Черт же их знает. Наш пунктик свыше полутора ставок разрешает – сколь угодно дежурить, а тот, ладошкой прикрытый, запрещает свыше двенадцати часов на работе быть. В одном приказе – быть или не быть? А сколько их – хороших и разных? Уж так получилось. Мария Абкаровна, что у нашего Якова – есть про всякого, для каждого свой пунктик. Искать надо…
И ревизоры наши – не мошенники вовсе, они себе премию честно работали, и наверху консультировались безо всякого обмана. Только не человеческого ума это дело, не та задача, здесь системы нужны – АСУ, ЭВМ… Но чтоб в машину сей океан загнать – так десять институтов должны год работать, я справлялся. Ревизорам – весь океан этот достался, а нам только озеро – медицина-онкология. И наши люди в институте на этом озере всю жизнь сидят – отдел же специальный есть по этим водорослям. Тут и ум, и сноровка, и спасение наше. Что нам нужно – всегда найдут!
Впрочем, Мария Абкаровна еще один вопрос мне задает:
– А почему вы им все-таки сказали, что они эти законы сами знают, а нас вот нарошно пугают?
– Так это же я им специально приемчиком болевым каратэ-самбо-дзюдо. Война, Мария Абкаровна, не мы ее начинали…
И снова молча до перекрестка. Здесь наши пути расходится. Лидочка – домой, прощаться и собираться. Абкаровна – в какое-то еще собрание (она парторг), а я в диспансер – на обход и консилиум. И спим эту ночь – кто как может.
Утром я у Еланской с машиной, она жадно целует внука в коляске, ручки ему гладит, уходит резко, не оглядываясь. Я болтаю по дороге, она молчит.
А в институте уже все готово, коечка стоит, бельем чистым заправлена. И пока идет оформление, я успеваю еще в отдел кадров. А там Костя – старый кадровик, фронтовик и мой друг. Он с полуслова все, с полдыхания, мигнул женщинам своим, и те разом в бездонные эти картотеки ушли, ищут нужное, следопыты мои, дай-то вам Бог!
А я – назад – Лидочку ободрять и прощаться. Но слова ни к чему. Сама онколог, она знает, на какую койку легла, и гаснут ее глаза.
До свиданья, Лидочка, до свиданья, Лидочка-а-а-а-ааа… И коридорами, коридорами отсюда, мимо дверей и запахов этих домой!
А по дороге Костя-кадровик, он улыбается:
– Держи бумагу свою и радуйся. Право-сна-без-права-сна отменили десять лет назад. Вот он, приказ министерский.
– Отменили кому?
– Да всем подряд… онкологи, тубологи, хирурги – спите себе, когда сможете, а денежки за все часы получать.
– Молодец, Костя, спасибо.
– Так у нас фирма, чего надо – всегда найдем.
Я бормочу: «Ну, сильная бумага, красивая…». И с этими словами покидаю онкологический институт. В кармане у меня – спасительный мандат, а на койке – Лидочка Еланская.
Уходим, значит, от суда людского, но избежим ли божьего суда?
Акценты переместились. Лидочка теперь – главное. Жалость и боль за нее. У девочек моих немой вопрос в глазах и серый чугун под ложечкой. Это страх. Что будет? Гистология… ах, гистология, что скажет она? И ревизия уже на периферии нашего сознания, она скукожилась и сшелушивается последней сыпью. Механически слышу акт и подписываю. Ревизорши улыбаются мне, но не профессионально, а по-человечески, и напоследок мы говорим как люди. И я получаю в кассе недополученные деньги (качнулся маятник в другую сторону!), и Лидочке нужно дополучить, если выйдет из больницы…
Кое-что за месяц работы они все же наковыряли. И то сказать – не по кругу ведь мы отбивались, а на главных только фронтах. Нынче ритуальное собрание созываем, акт зачитываем, и встречная бумага от нас пойдет в смысле: поняли – осознали.








