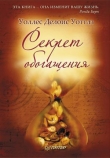Текст книги "Революционное богатство"
Автор книги: Элвин Тоффлер
Соавторы: Хейди Тоффлер
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 42 страниц)
Этот сдвиг имеет важные последствия с точки зрения власти. «Оккупирующая» валюта (это наш термин) не всегда тем самым приносит пользу стране своего происхождения. Здесь действует множество факторов, и иной раз такое вторжение может дорого стоить стране, из которой оно осуществляется. Правительство «оккупированной» страны обычно отчасти утрачивает контроль над внутренней монетарной политикой и слабеет в глазах населения. Оно теряет часть того, что экономисты называют «сеньоражем» – речь идет о тех деньгах, которые требуются для выпуска денег, их печатания и распространения. И если какая-то валюта низко котируется в мире валют, ее, как правило, легче потеснить на рынке.
Более значительные перемены происходят, согласно Коэну, не во взаимоотношениях наций, а в отношениях между правительствами и рынками. Таким образом, использование в одной стране двух или более валют расширяет диапазон выбора для компаний и финансовых институтов, которые размещают в ней свой бизнес. Она может предложить выбор, учитывая валютный риск, налоги, регламентации, правила бухгалтерского учета, стоимость заключения сделок и конвертации, финансовый инструментарий и тому подобное. Иными словами, в результате снижается влиятельность и контроль местного правительства.
Наконец, это делает «оккупированную» страну более чувствительной и потенциально более податливой по отношению к конъюнктуре мировых финансовых рынков. Вот почему первым шагом многих вновь избранных президентов или премьер-министров является визит на Уолл-стрит, чтобы ритуально продемонстрировать финансовую осмотрительность на время своего присутствия на посту.
То, что мы наблюдали до сих пор – великий сдвиг богатства в Азию, создание киберпространства, изменение критериев, по которым оценивается место, расширение глобального охвата и географическое распространение временно пошатнувшегося доллара, – все это только часть тех перемен, которые происходят в нашем отношении к такому основополагающему фактору, как пространство.
Далее мы обратимся к наиболее неоднозначному из всех сегодняшних пространственных изменений – к тому, что заставило его противников маршировать по всему миру и (буквально) бить в барабаны в Портэ-Аллегре (Бразилия), в то время как его сторонники во время своих ежегодных встреч в швейцарском Давосе пытаются соблюсти вежливость по отношению к своим противникам. Речь, конечно, пойдет о самом спорном и ложно толкуемом понятии всего экономического лексикона – глобализации.
Есть ли у нее будущее?
Глава 12 НЕПОДГОТОВЛЕННЫЙ МИР
В 1900 году празднование начала нового века в Париже было отмечено Всемирной выставкой, посвященной прогрессу. Газета «Фигаро», едва сдерживая восторг, писала: «Как нам повезло встретить первый день XX века!» Одним из источников энтузиазма было движение к глобальной экономической интеграции, какой она виделась богатым странам, – к рациональному прогрессу, который благодаря переменам в пространственных и политических отношениях обеспечил бы экономическое процветание.
Рассуждая в духе сегодняшних сторонников экономической глобализации, экономисты с энтузиазмом говорили о том, как все более и более сближаются страны и народы. Международная торговля в процентном выражении к мировому производству за период с 1800-го по 1900 год выросла почти в девять раз, причем часть ее приходилась на торговлю с колониями в Азии и Африке. Тот, кто проецировал эти тенденции в будущее, мог бы сделать заключение, что процесс экономической глобализации завершится задолго до 2000 года, но история не идет по прямой, и мир оказался не готовым к тому, что случилось.
Через четырнадцать лет после Всемирной выставки скрепы, которыми соединялись между собой разные страны, успели проржаветь и рассыпаться, а бойня Первой мировой войны грубо нарушила перемещение товаров и капиталов. В 1917 году началась большевистская революция, в 1930-х разразилась Великая депрессия, в 1939—1945-м разгорелась Вторая мировая война, в 1949-м власть в Китае взяли коммунисты, а с 1940-х и вплоть до 1960-х последовала цепь антиколониальных выступлений в Индии, Африке и Азии.
Взятые вместе, эти и другие, менее значительные и заметные события, расшатавшие давно создавшиеся торговые устои, стимулировавшие протекционизм или провоцировавшие насилие и нестабильность, затормозили межнациональную торговлю, поток инвестиций и экономическую интеграцию. Коротко говоря, мир вступил в полувековую фазу реглобализации.
Больший капиталист, чем тыАмерика, чью промышленную основу Вторая мировая война не только не затронула, но скорее даже усилила, нуждалась в рынках для экспорта своих товаров и еще более капитала. Мир жаждал американских товаров, часто оказывавшихся единственными доступными.
Более того, развивающаяся технология удешевляла и облегчала обслуживание межнациональных рынков. Убежденная в том, что глобальная экономическая реинтеграция послужит их целям, одновременно способствуя росту мировой экономики, американская элита принялась создавать международные рынки, через которые с минимальными затруднениями могли бы перетекать товары, капитал, информация и навыки, что приняло форму идеологического крестового похода за реглобализацию.
Еще в 1990-х годах огромные мировые регионы оставались, в сущности, закрытыми для беспрепятственного обмена товарами, валютами, людьми и информацией. Только один миллиард населения Земли жил в условиях открытой экономики, однако к 2000 году, по некоторым оценкам, его численность увеличилась до четырех миллиардов.
Китай с населением свыше миллиарда стал приверженцем «рыночного социализма», который точнее было бы называть «социальным капитализмом», и открыл двери иностранным предприятиям, товарам и деньгам. Посткоммунистическая Россия приглашает иностранных инвесторов. Восточная Европа и бывшие советские республики на Кавказе и в Центральной Азии следуют ее примеру. Многие страны Южной Америки, поощряемые Америкой и возглавляемые Чили и Аргентиной, сбросив путы регламентации и проведя приватизацию, стали приглашать к себе капитал Уолл-стрит и на какое-то время сделались большими капиталистами, чем американцы.
Как мы видели, национальные валюты все в большей мере покидают страны своего происхождения. Увеличился пространственный охват не только гигантских межнациональных корпораций, но и небольших фирм, даже – благодаря связи через Интернет – отдаленных деревенских предприятий с микроскопическим бюджетом. Расцвела мечта о полностью интегрированной мировой экономике – такой, при которой ни единый из 510000000 квадратных метров земной поверхности не останется недоступным.
Реглобализаторы чувствовали себя на коне.
Тесты для воды «Эвиан» и кетчупаНа самом деле этот марш к реглобализации зашел не настолько далеко, как считают его сторонники и противники. Согласно Р. Вайнгартену, председателю Финансовой группы Белого дома, даже в финансовом секторе неопределенный термин «глобализация» «маскирует совершенно различную скорость перемен. Если валютные рынки действительно являются глобальными, то рынки ценных бумаг отстают от них, а фондовые рынки практически продолжают допускать на биржу главным образом только национальные ценные бумаги».
В отношении Европы, где интенсивное давление в пользу экономической интеграции привело к введению единой валюты и центрального банка, «Файнэншл таймс» констатирует, что «фондовые рынки остаются крайне разобщенными, характеризующимися мозаикой разных правил и регламентаций». Несмотря на появление сотен зачастую спорных новых законов и правил, нацеленных на создание единообразия, одна и та же бутылка воды «Эвиан» в 2003 году стоила во Франции 0,44 евро, а в Финляндии – 1,89 евро. Одна и та же бутылка кетчупа «Хайнц» стоила в Германии 0,66 евро, а в Италии – 1,38 евро, невзирая на надежды чиновников из Брюсселя.
Еще более существенным является замечание З. М. Беддоеса в «Форин полиси»: «Только 18 развивающихся стран имеют постоянный доступ к частному капиталу», и даже если бы таких стран было больше, «это не означает, что существует единый глобальный рынок капитала». Возьмем другой уровень: методы бухгалтерского учета отличаются от страны к стране, несмотря на попытки принять общие единые стандарты.
Тем не менее уже в 1990-х годах 35000—40000 мультинациональных корпораций имели 200000 филиалов или дочерних компаний во всем мире. Валютные депозиты в мире возросли с 1 миллиарда долларов в 1961 году до 1,5 триллиона к концу столетия. Прямые иностранные инвестиции увеличились до 1,3 триллиона долларов. Межнациональный долг к 2001 году достиг 1,7 триллиона долларов. Мировой торговый оборот вырос до 6,3 триллиона долларов.
Одним из самых адекватных на сегодняшний день критериев оценки масштабов глобализации является индекс, разработанный А. Т. Карни и журналом «Форин полиси». Он учитывает такие составляющие, как труд, прямые иностранные инвестиции, поток портфельных инвестиций, технология, путешествия и туризм, и на основе этих данных сравнивает страны. Этот индекс включает широкий набор и других переменных, от культуры и коммуникаций до количества иностранных посольств, а также количества межправительственных организаций, в которые входит данная страна.
На базе всех этих данных исследования 62 стран, проведенного Карни в 2003 году, выяснилось, что верхушку рейтинга самых глобализированных заняли малые страны – Ирландия, Швейцария, Швеция, Сингапур и Нидерланды. Соединенные Штаты заняли 11-е место, Франция – 12-е, Германия – 17-е, Южная Корея – 28-е, обогнав Японию (у нее 35-е место).
Уровень межнациональной экономической интеграции фактически упал в 2002 году из-за замедления темпов развития экономики США и падения прямых иностранных инвестиций в 2001 году, хотя общая сумма и превышала значения, отмеченные ранее 1999 года. Несмотря на полученные данные, «Форин полиси» мало сомневается в продолжении реглобализации; если же добавить к этому усиливающееся «взаимооплодотворение» валют, описанное выше, то причин для оптимизма будет еще больше.
«Желтая пыль»Еще одна причина кроется в ремарке Харриет Бэббит, бывшем заместителе директора Агентства международного развития США: «Мы быстрее глобализируем наши пороки, чем добродетели».
К примеру, поданным ООН, незаконный оборот наркотиков составляет 400 миллиардов долларов, или примерно 8 % мировой экономики. Используя новейшие технологии, наркоиндустрия формирует гигантскую теневую экономику, объем которой во многих странах перекрывает объем легальной (или официальной) экономики и охватывает весь мир.
От Афганистана и Колумбии до школьных классов, от трущоб Рио до улиц Чикаго наркодилеры развернули одну из самых глобализованных индустрий мира. Ни одно правительство не в силах контролировать ее, даже если бы на то была соответствующая воля.
Глобальной является и индустрия секса. В албанских лагерях беженцев находятся похищенные в Румынии женщины, которых переправляют в Италию, где их превращают в секс-рабынь. Так называемые агентства в Бухаресте продают «танцовщиц» торговцам живым товаром в Греции, Турции, Израиле и даже далекой Японии. По данным ЮНИСЕФ, около миллиона бедных молодых людей, в подавляющей части девушек, ежегодно попадают в капканы, расставленные дельцами сексбизнеса.
Вот что написал в своей шокирующей статье редактор «Форин полиси» Мозес Наим: «Наркотики, оружие, интеллектуальная собственность, люди и деньги – все это не единственные товары незаконного оборота, приносящие гигантские прибыли международным сетям. Торгуют человеческими органами, вымирающими видами животных и растений, ворованными предметами искусства и токсичными отходами». Именно потому, что эта деятельность незаконна и пытается укрыться от преследований, маршруты продвижения ее «товаров» постоянно меняются.
Контрабандисты, обеспеченные фальшивыми документами, с помощью подкупленных чиновников легко ускользают от пограничного контроля в отличие от преследующих их по горячим следам полицейских, которые не могут пересекать границы. Как пишет Наим, правительства высокомерно защищают «суверенитет» своих территорий, однако этот суверенитет «нарушается буквально ежедневно не другими государствами, а не имеющими родины сетями, которые в целях наживы с легкостью нарушают и законы, и границы». Например, Венесуэла не позволяет самолетам США в своем воздушном пространстве преследовать драгдилеров из Колумбии, которые совершенно безнаказанно туда проникают.
Наим приходит к выводу, что наши попытки контролировать эту незаконную и антиобщественную деятельность теневой экономики провалятся, поскольку правительственные стратегии основываются на «ложных идеях, ложных предпосылках и устаревших институциях». Понятно, что он имеет в виду: для того чтобы остановить преступный бизнес, требуются глобальные или по крайней мере многосторонние усилия.
Кроме того, существует так называемая «желтая пыль» из китайских пустынь, которая периодически затягивает корейский Сеул. Из-за лесных пожаров в Индонезии удушливый смог вызывает одышку и кашель у жителей Малайзии и Сингапура. Утечка цианидов в Румынии отравляет реки Венгрии и Сербии. Глобальное потепление, загрязнение воздуха, озоновые дыры, наступление пустынь, нехватка пресной воды – все эти проблемы подобно наркоторговле и сексуальному рабству требуют для своего решения организованных региональных или даже глобальных усилий, желает кто-либо этого или нет.
Истинно верующиеБлага и издержки дальнейшей межнациональной интеграции являются сегодня предметом широчайших – поистине глобальных – споров. Ясно одно. Жизнь несправедлива. Экономическая интеграция и ее территориальные последствия не обеспечивают никаких равных возможностей, не устанавливают единых правил игры – это остается абстрактной идеей, не имеющей отношения к реальности.
Нет необходимости повторять все аргументы касательно преимуществ и недостатков расширяющегося пространственного охвата и глобализирующихся экономик. Даже достаточно точно выявить все pro и contra гораздо труднее, чем кажется на первый взгляд. Венгерский экономист Андраш Инотаи, генеральный директор Института мировой экономики в Будапеште, проанализировал плюсы и минусы для стран, присоединяющихся к Евросоюзу. Его оценка вполне применима и к экономической интеграции на глобальном уровне.
Обращаясь к двум глубинным основам, обсуждавшимся на страницах этой книги, он указывает, что «блага и потери в мире распределяются пространственно неравномерно» и что результаты различаются «и во времени тоже». Сиюминутные приобретения и проигрыши, отмечает он, могут обернуться своей противоположностью в долговременной перспективе. Иногда выгоды или потери поджидают нас здесь и сейчас; иногда они случаются здесь, но не теперь; другие – теперь, но не здесь.
Как сторонники, так и противники глобализации сводят свои противоречия к лозунгам вроде тех, что наклеиваются на бамперы автомобилей.
Публикации в защиту или против глобализации столь обильны, что в них легко утонуть. Одна только поисковая система Google выдает 1500000 соответствующих документов. Судя по обзору журнала «Ньюсуик», в 1991 году в 40 крупнейших печатных изданиях было опубликовано только 158 материалов, касающихся глобализации. В 2000 году их было 17638.
Негативные стороны глобализации выявить легко, хотя в большинстве своем они связаны с коррупцией, загрязнением окружающей среды и жестоким насилием, а не с экономической интеграцией как таковой.
Тем не менее реальность вопиет. Китай был – и остается – виновным во всех этих грехах: невероятной коррупции, огромном уроне экологии, бесстыдном подавлении социальных протестов. Однако эти негативные явления необходимо сопоставить с тем, что Китай системно интегрируется в глобальную экономику и использует глобальный капитал, чтобы помочь 27000000 людей выбраться из глубокой крестьянской нищеты.
Несмотря на то что энтузиазм проглобалистских сил слегка охладился в результате критики и из-за сегодняшнего ослабления мировой экономики, они с оптимизмом оценивают отдаленные перспективы. Некоторые с религиозным упорством верят в то, что полная глобализация неизбежна, что, несмотря на временные отступления и заминки, она в конце концов восторжествует и соединит всех людей и все территории в глобальную сеть, напоминающую гигантский мозг.
Эти истинно верующие считают, что, во-первых, ни одна страна не сможет до бесконечности отворачиваться от «захватывающих дух» возможностей глобализации в повышении уровня жизненных стандартов; что, во-вторых, мы стоим перед лицом новых проблем, которые не могут быть решены без нее; и что, в-третьих, новые технологии все более способствуют глобализации.
Скептики могут возразить в ответ на это, что, во-первых, преимущества мирной жизни тоже могут захватывать дух, хотя они снова и снова отвергаются; что, во-вторых, не все проблемы решаются; что, в-третьих, история полна альтернативных технологий, созданных для коррекции того, чему способствовали созданные прежде.
Реглобализация может со скрипом остановиться, если цены на нефть останутся высокими или будут расти по мере истощения ресурсов; если распадутся стабилизирующие союзы; если распространится обновленный вариант протекционизма; если каждый человек, каждый пакет или контейнер, пересекающие границу, должны будут проходить более тщательный досмотр из-за угрозы терроризма, страха перед эпидемией или по другим причинам.
Таким образом, вопрос, который имеет для нас важнейшее значение, таков: приостановилось ли многолетнее движение в сторону реглобализации лишь для того, чтобы сделать вдох перед новым рывком? Или оно снова пойдет вспять? Неужели мы – несмотря на увеличивающуюся мобильность предприятий и объем прямых иностранных инвестиций, несмотря на Интернет и киберпространство, несмотря на массовые передвижения людей – стоим перед новым историческим сдвигом от реглобализации к деглобализации со всеми вытекающими отсюда последствиями в надвигающемся будущем для того, где мы будем жить, работать, инвестировать и создавать богатство? Если так, это окажется еще одной мучительной переменой в нашем отношении к глубинным основам экономики.
Если нам придется сделать поворот на 180 градусов к опасно неопределенному будущему, многие из тех, кто не будет к этому готов, окажутся отброшены в сторону или безнадежно отстанут.
Глава 13 ТОЛЧОК НАЗАД
Немногие слова способны разжечь столь яростную ненависть, как «глобализация», и при этом столь же немногие употребляются с таким лицемерием – или наивностью.
С термином «глобализация» неразрывно связана истинная мишень широко распространенных неприязненных чувств – это Соединенные Штаты, штаб-квартира мировой экономики свободного рынка и на сегодняшний день единственная мировая сверхдержава.
В своем стремлении к глобализации (или, точнее, реглобализации) Соединенные Штаты в последние десятилетия также выступают под фальшивым флагом. Главы целого ряда последних администраций, и особенно президент Билл Клинтон, как заклинание повторяли миру одно и то же. В соответствии с так называемым Вашингтонским консенсусом, глобализация плюс либерализация в форме приватизации, отсутствия государственного регулирования и свободной торговли Уничтожат бедность, установят демократию и построят прекрасный мир для всех.
И про-, и антиглобалистские идеологии, как правило, валят в одну кучу глобализацию и либерализацию, как если бы они были неразделимы. Однако страны могут интегрировать свои экономики и без либерализации, а проводящие либерализацию страны могут продавать государственные предприятия, снимать ограничения и приватизировать свои экономики и без глобализации. Ни то, ни другое не гарантирует того, что долгосрочные блага хлынут с макроэкономического на микроэкономический уровень, где, собственно, и живут люди. И ни то, ни другое не гарантирует демократии.
Что теперь совершенно ясно, так это то, что позиции обеих сторон в идеологической войне вокруг глобализации совершенно намеренно искажаются.
На веб-сайте протестного движения, который ведет бесконечную кампанию против глобализации, перечисляются «акции» в Хайдерабаде, Индия; Давосе, Швейцария; Порто-Аллегре, Бразилия; Буэнос-Айресе, Аргентина; Вашингтоне, округ Колумбия; Барселоне, Испания, а еще в Новой Зеландии, Греции, Мексике и Франции. Демонстранты осаждали лидеров мировых держав в шикарных отелях при проведении многочисленных международных встреч от Сиэтла до Генуи или вынуждали их укрываться где-нибудь в захолустье и использовать силы безопасности для обеспечения порядка. Сегодня протестующих приглашают на встречи с этими лидерами, и движение заметно потеряло свою былую задиристость.
Трудно, однако, не заметить, что эта вроде бы антиглобалистская деятельность координируется с помощью веб-сайтов в Интернете, который сам по себе является, по сути, глобальной технологией. Политическое воздействие этого движения обеспечивается в основном благодаря телевизионным репортажам, осуществляемым глобальными спутниковыми системами. Многие выдвигаемые антиглобалистами требования – например, доступность лекарств против СПИДа, – могут быть удовлетворены только глобальными корпорациями, против которых выступают протестующие, используя компьютеры, тоже созданные другими глобальными корпорациями. Многие протестующие не смогли бы присоединиться к демонстрациям, не будь глобально связанных авиалиний и глобальных систем резервирования билетов, да и сама их цель состоит в создании движения, имеющего глобальное влияние.
Это движение фактически раскололось на множество различных, часто недолговечных групп с поразительно различающимися целями – от запрещения детского труда до объявления вне закона табака и прекращения преследований транссексуалов. Здесь есть и анархолокалисты с чистыми, как роса, взорами, восхваляющие естественное существование в не затронутых индустриализацией деревнях – для удобства забывая о невозможности вести частную жизнь, сексизме, ограниченности местных тиранов и нетерпимости, так часто встречающихся в реально существующих деревнях. Есть здесь и романтики, призывающие вернуться к природе. И, конечно, ненавидящие США и Евросоюз супернационалисты, объединяющиеся с неофашистами, преследующими политические движения иммигрантов. Многие из остальных – это и вообще не антиглобалисты, а контрглобалисты.
Эти контрглобалисты, например, твердо поддерживают ООН и другие международные агентства. Многие мечтают о чем-то вроде единого мирового правительства или по крайней мере о более влиятельном глобальном управлении, финансируемом, возможно, за счет глобальных налогов. Чего они на самом деле хотят – так это краха глобальных корпораций и глобального финансового капитала; на них они возлагают вину за эксплуатацию рабочих, загрязнение окружающей среды, поддержку недемократических режимов и прочие бесчисленные беды.
Антиглобалистское движение создает много шума, но даже если бы все скандирования, все марши и демонстрации однажды прекратились, все равно некоторые формы экономической глобализации могут оказаться вынуждены замедлиться или остановиться в ближайшем будущем.
На горизонте уже маячат факторы, которые могут прекратить расширение пространственного охвата и заставить даже антиглобалистов пожалеть о том, что произойдет.