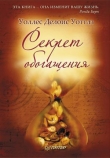Текст книги "Революционное богатство"
Автор книги: Элвин Тоффлер
Соавторы: Хейди Тоффлер
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 42 страниц)
В связи с этим мы подробно остановились на каждой из этих основ и том воздействии, которые они оказывают на богатство.
Возьмем, к примеру, эффект десинхронизации. Как мы видели, компании вынуждены бесконечно изменять свои продукты и взаимоотношения. Изменения в потребительских запросах, требованиях рынка и финансовой системы происходят все быстрее, но темпы перемен при этом различны. В результате на фирмы оказывается дестабилизирующее давление, и их менеджеры пытаются не отстать от времени. В ответ на это возникла целая индустрия синхронизации, целью которой является помощь фирмам в преодолении столкновения скоростей.
А между тем медлительный, движущийся на черепашьей скорости, плохо синхронизированный общественный сектор навязывает компаниям внушительный «налог на время», тормозя их деятельность задержками в судебном разбирательстве, а также в поставках и снабжении, регулирующими установлениями, разрешительными процедурами и тысячами других способов. Другими словами, одна часть системы жмет на педаль газа, а другая давит на тормоза.
Как мы видели, нигде это противоречие не выступает в такой наглядной форме, как в противоречии между быстро меняющимися требованиями к навыкам передовой, стремительно прогрессирующей экономики и окаменелой неподвижностью системы образования.
Мы также убедились в том, что определенная доля десинхронизации абсолютно необходима для того, чтобы поддерживать в системе богатства конкурентную борьбу и инновации. Однако вместе с тем ясно и то, что избыточная десинхронизация может ввергнуть компании, области производства и целые экономики в хаос. В самом деле, достаточно вспомнить потрясения на бирже, связанные с отчаянными попытками системы богатства ресинхронизировать себя.
Но время – только один аспект. Чтобы понять, что принесут нам грядущие перемены, надо рассмотреть кумулятивные эффекты временных конфликтов на фоне столь же существенных трансформаций в пространственном распределении. Сегодня мир затаив дыхание следит за массовым перемещением богатства и создания богатства в странах бывшего третьего мира во главе с Китаем и Индией, несомненно, одного из крупнейших и наиболее быстро совершающихся перемещений в истории; возможно, это завершение великого цикла движения богатства, начавшегося примерно 500 лет назад.
Более того, мы предположили, что, вместо того чтобы задаваться вопросом о том, продолжится или нет глобализация, следует признать надвигающееся расщепление на деглобализацию на экономическом уровне и на глобализацию кампаний по борьбе с загрязнением окружающей среды, терроризмом, наркотрафиком, сексуальным рабством и геноцидом. Здесь также одна нога жмет на педаль газа, а другая – на тормоз.
Результатом этого столкновения становится ускоряющееся перемещение центров создания мирового богатства к новым горячим точкам повышенной прибавочной стоимости, оставляющее за собой новые очаги бедности. Но самый радикальный пространственный сдвиг связан не с территориальными проблемами. Несмотря на то что миллионы людей игнорируют этот факт, мы стоим на пороге прорыва человечества в космическое пространство. Для историков будущего при взгляде на XXI век самым важным из экономических событий могут оказаться колонизация космоса и создание богатства за пределами нашей родной планеты.
Указанные перемены не произойдут без еще более существенных трансформаций в глубинной основе знания и нашего отношения к нему.
Если сдвиги в использовании человеком времени и пространства хорошо заметны, то нынешнюю революцию в науке – определяющей глубинной основе нашего времени – воспринять гораздо труднее. Эти перемены в силу самой своей природы неосязаемы, невидимы, абстрактны, они носят эпистемологический характер и, по видимости, не связаны с нашей повседневной жизнью. Однако никакой прогноз относительно будущего богатства не может быть успешным без должной новой оценки роли знания.
Итак, в предыдущих главах мы довольно упрощенно очертили сферу и природу знания как главного источника передовой экономики. Однако тут требуется скорее не анализировать, а синтезировать, то есть рассмотреть, как эти глубинные основы взаимодействуют друг с другом.
Изменяя свое отношение к времени (например, через ускорение), мы неизбежно делаем бесполезной или устаревшей некоторую часть знания. Тем самым мы увеличиваем вес того утиля, который тащим за собой.
Некогда правильные аналогииАкселерация не только способствует устареванию фактов, но притупляет некоторые ключевые инструменты, которые мы используем в процессе мышления. Например, аналогию. В мыслительном процессе невозможно обойтись без использования аналогий. Этот инструмент основывается на обнаружении сходства между двумя или несколькими феноменами и последующем приложении выводов, сделанных в отношении одного к другим.
Например, врачи часто говорят: «Сердце – это насос» – и описывают его клапаны и прочие элементы в терминах механики. Эта модель помогает им правильно понять, как работает сердце, и правильно его лечить. Такой процесс зачастую оказывается плодотворным.
Однако после того как сходство обнаружено, обычно считается, что объекты сохраняют свое сходство. В периоды медленных изменений так и происходит. Однако сегодня, в быстро меняющейся среде, некогда сходные вещи тоже быстро меняются и в итоге становятся заметно непохожими, и заключения, сделанные на основе аналогий, оказываются ошибочными и заводящими в тупик. Следовательно, чтобы справляться с сегодняшними проблемами, нам нужны не только новые знания, но и новые способы мышления.
Тем не менее многие экономисты, сознательно или просто в силу традиции, цепляются за аналогию между экономикой и физикой. Такое понимание возникло несколько столетий назад, когда в физической науке господствовали ньютоновские идеи о равновесии, причинности и детерминизме. Конечно, с той поры физики радикально изменили свои взгляды на эти предметы, но многие экономисты все еще основывают свои открытия на исходных ньютоновских понятиях. Привыкшие мыслить в индустриальных терминах, многие ученые с трудом могут принять уникальный характер знания, в том числе то, что оно ни с чем не соперничает и не убывает, что оно неосязаемо и потому его сложно измерить.
Только сопоставив неудачи экономики с назревающим кризисом науки, мы осознаем их истинную значимость. То и другое оказывает огромное – и самое непосредственное – влияние на то, как мы создаем богатство, причем и то, и другое подвергается трансформации.
Карта познаваемогоУказанные кризисы – только частный случай крупномасштабной интеллектуальной драмы. Экономика и наука при всей своей значимости представляют собой лишь две взаимосвязанные части огромной системы знания, а сама эта огромная система переживает историческое потрясение.
Мы по-новому подразделяем знание, разрушая междисциплинарные границы индустриальной эпохи и реорганизуя глубинную структуру нашей системы знания. Неорганизованное знание затрудняет доступ к нему и лишается своего контекста. Поэтому на протяжении веков ученые делили знание на отдельные, имеющиеся четкие границы категории.
В XII веке, переводя на европейские языки труды арабского мыслителя Абу-Наср аль-Фараби (870–950 гг.), они обнаружили у него то, что можно назвать «картой познаваемого», – систематическую иерархическую организацию знания по категориям. Позднее, во времена Средневековья, в западных университетах знание членили по-другому. Каждому образованному человеку полагалось овладеть тривиумом (состоявшим из грамматики, литературы, поэзии и аристотелевой логики) и квадривиумом (астрономией, арифметикой, геометрией и музыкой).
Сегодня знание разбивается на все более специализированные узкие категории и подкатегории, которые университеты аккуратно, как аль-Фараби, иерархически структурируют.
С точки зрения академического статуса и бюджета, точные науки, как правило, стоят впереди гуманитарных и социальных дисциплин, которые считаются слишком «мягкими». До сих пор иерархическую пирамиду науки венчала физика, но в последнее время ее заметно теснит на вершине биология. Среди социальных наук наивысший ранг присваивается экономике, поскольку она в высшей степени математизирована, а потому является самой точной (или по крайней мере претендует на это). Однако обе эти структуры вот-вот рухнут под тяжестью собственного веса.
Для выполнения все большего числа работ требуются междисциплинарные знания, так что все большим спросом пользуются профессии, названия которых состоят из нескольких слов: астробиолог, биофизик, инженер-эколог, юрист-бухгалтер. Выполнение некоторых задач требует уже не двух, а трех специализаций, и тогда появляются, например, нейропсихофармакологи.
Похоже на то, что скоро эти названия станут совсем нечитаемыми. Кажущиеся перманентными дисциплины и иерархия могут совсем исчезнуть, уступив место неиерархическим конфигурациям, ad hoc, определяемым актуальной проблематикой. В настоящий момент «карта познаваемого» становится мерцающим набором постоянно меняющихся паттернов.
Уже одно это говорит о серьезных потрясениях в системе знания, которые изменят состав научных коллективов, профессии, факультеты университетов, персонал больниц и бюрократические системы в целом. Специалисты, в наибольшей мере извлекающие пользу из прежних традиций все большей специализации знания – штатные профессора, бюрократы, экономисты и прочие, – будут сопротивляться такого рода переменам. Несомненно, узкая специализация приносит хорошие дивиденды, однако она убивает неожиданность и воображение и плодит индивидов, которые боятся ступить за границы своей области и даже помыслить об этом боятся.
Напротив, воображение и креативность расцветают, когда прежде не связанные идеи, понятия или категории данных, информация или знания объединяются по-новому. Объединяя далеко отстоящие друг от друга потоки личного опыта и ноу-хау, научные работники вводят в мыслительный процесс и принятие решений временные, новые, далекие от общеизвестных аналогии. В этой новой системе то, что может быть утрачено в результате долгосрочной, глубокой специализации, окажется компенсировано креативностью и воображением.
Эффективные новые технологии помогут нам ввести временные дисциплины в новые модули и модели. Это уже происходит. Мы уже теперь соединяем все более разрозненные базы данных в поиске прежде не замечавшихся паттернов и связей. Это сочленение не только является удобным инструментом для обнаружения того, как соотносятся между собой продажа пива или подгузников и ураганы.
Сопоставление данных иногда приводит к удивительным результатам. Чиновники здравоохранения в Виргинии использовали этот метод, чтобы обнаружить причины вспышки сальмонеллеза: возбудитель был обнаружен во фруктах, упакованных на маленькой бразильской ферме. Вот что сказал представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США: «До сих пор нам неизвестны были случаи заболеваний от плодов манго».
Если креативность подразумевает неожиданное сопоставление фактов, идей или открытий, ранее считавшихся не связанными между собой, то углубление и сопоставление становятся фундаментальными инструментами инновационного процесса.
Сводя воедино перемены в конфигурации знания, добавляя сюда расщепление данных, информации и знания на все более мелкие фрагменты и не дорожа их устойчивостью, по-разному классифицируя вещи и явления, используя вероятностные сценарии, все более стремительно внедряя новые модели и оперируя на все более высоких уровнях абстракции, мы не просто аккумулируем больше знания.
Если сопоставить все это с кризисом в экономическом мышлении и самой экономической науке, с очевидностью выяснится, что мы находимся в процессе всеобщей реорганизации знания, какой еще не видела история и которая повлечет за собой последствия, далеко выходящие за пределы экономики—в культуру, религию, политику и общественную жизнь. Одновременно мы делаем богатство индивидов и наций более зависимым, чем когда-либо, от роста всемирной базы знаний.
Нам неведомо, какими странными извилистыми путями Двинется познание как расширяющаяся система и куда это нас приведет.
Соединяя описанные изменения в нашем отношении к времени, пространству и знанию – то есть к глубинным основам, – мы едва улавливаем общие контуры внушающей трепет революции, происходящей сегодня на планете. Чтобы заглянуть за их пределы, необходимо увидеть потрясающие перемены, ожидающие нас впереди, причем не только в открытой нашим глазам экономике, но и в «скрытой половине» всей рождающейся системы богатства.
Не сделав этого шага, мы как индивиды и как общество в целом будем вслепую, спотыкаясь, брести в будущее, не отдавая себе отчета в том, какие возможности имеются у нас в руках.
Часть шестая ПРОТРЕБЛЕНИЕ
Глава 23
СКРЫТАЯ ПОЛОВИНА
Нам часто напоминают о том, что более миллиарда человек существуют на один доллар в день. Это средняя цифра, следовательно, многие выживают – едва выживают, – получая меньшую сумму. На самом деле многие люди фактически живут вообще без денег. Они никогда не входили в мировую денежную систему и живут, как и наши далекие предки, только на то, что сами могут произвести. Значительная часть этого обездоленного населения готова на все, чтобы вступить в денежную экономику.
Для этого им надо пройти через одну из так называемых семи дверей к деньгам. Представьте себе длинный коридор с семью запертыми дверями. Усталая, грязная, голодная толпа отчаянно толкается в эти двери. На каждой из них висит табличка, на которой написано, что нужно сделать, чтобы ее отпереть. Неграмотные отчаянно умоляют тех, кто умеет читать, сообщить им инструкцию. Вот что гласят надписи.
Дверь первая. Создай что-нибудь продаваемое. Вырасти излишек зерна. Напиши портрет. Сшей пару башмаков. Найди покупателя – и дверь откроется.
Дверь вторая. Найди работу. Трудись. Получи за свой труд деньги. И вот ты уже в денежной системе. Ты – часть видимой экономики.
Дверь третья. Получи наследство. Если родители или дядя Фрэнк завещали тебе деньги, эта дверь откроется. Ты войдешь в систему. Может быть, тебе никогда не понадобится работать.
Дверь четвертая. Получи подарок. Кто-нибудь – кто угодно – может подарить тебе деньги или что-нибудь для продажи за деньги. Форма не важна – если ты получил что-нибудь в дар, тебя впустят в эту дверь.
Дверь пятая. Женись (или женись еще раз). Выбери супруга (супругу), который (которая) уже вошел (вошла) в одну из этих дверей, и он (или она) поделится с тобой деньгами. Тогда и ты сможешь войти в эту дверь.
Дверь шестая. Получи пособие. Деньги может дать тебе правительство. Сумма может оказаться небольшой, но и ее достаточно, чтобы дверь отворилась и ты попал в денежную систему.
Дверь седьмая. Укради. Воровство – первое прибежище преступника и последнее прибежище отчаявшегося бедняка!
Есть, конечно, варианты – пожертвования, взятки, найденный клад и тому подобное, но эта семерка – главный портал, через который человечество уже веками вступает в денежную экономику.
Сегодня общий ежегодный валовой продукт мировой денежной экономики – той, что называют видимой – составляет порядка 50 триллионов долларов. Такова, как считают, общая экономическая стоимость всего создаваемого на планете за год.
А что, если сумма производимого нами за год в товарах, услугах и опыте составляет не 50 триллионов, а ближе к 100 триллионам? Что, если в добавление к этим 50 мы получим еще 50, так сказать, помимо бухгалтерии? На наш взгляд, они, вполне возможно, существуют, и следующие главы этой книги мы посвятим охоте за исчезнувшими 50 триллионами. Эта охота приведет нас от суперкомпьютеров к Голливуду и музыке в стиле хип-хоп, к биологическим угрозам, пиратству в области интеллектуальной собственности и поискам жизни в космосе.
Экономика протребленияВ отличие от семи дверей, ведущих в денежную экономику, в скрытой внебухгалтерской экономике таких дверей тысяча. Эти двери открыты для каждого – и для тех, у кого есть деньги, и для тех, у кого их нет. Никаких условий для входа нет. Мы от рождения наделены способностью пройти через них.
Эту невидимую экономику не следует путать с подпольной или теневой экономикой того мира, где деньги отмывают, уплаты налогов избегают, а террористы, диктаторы и наркобароны процветают. Сам факт, что теневая экономика используется для перевода и сокрытия денежных средств, помещает ее в рамки денежной экономики, а не той не-денежной экономики, о которой идет речь.
Экономическая карта, которой сегодня пользуется большинство из нас и которой руководствуются и бизнесмены, и политики, на самом деле представляет собой только часть, деталь гораздо более крупной карты. Та, первая, отражает лишь видимую экономику.
Но существует еще и огромная «скрытая» экономика, в которой идет неизмеряемая, неотслеживаемая и неоплачиваемая экономическая деятельность. Это экономика протребления.
Когда люди производят на продажу продукты, услуги или опыт в денежной экономике, их называют производителями, а сам процесс – производством. Для обозначения того, что происходит во внебухгалтерской экономике, подходящих слов (во всяком случае, в английском языке) нет.
В книге «Третья волна» (1980) мы изобрели слово «протребитель» для тех, кто создает товары, услуги и опыт для собственного пользования или удовольствия, а не для продажи или обмена. В этом случае мы, индивиды или группы, одновременно Производим и поТРЕБляем наш продукт, то есть протребляем.
Когда мы печем пирог и сами его съедаем, мы протребители. Однако протребление – это не только индивидуальный акт. Целью приготовления пирога может быть обед для семьи, друзей или соседей, но при этом без всякого ожидания денежного или иного вознаграждения за это. Сегодня благодаря тому, что мир делается меньше за счет прогресса транспорта, коммуникаций и информационных технологий, понятие «протребление» может включать неоплачиваемую работу по созданию стоимостей, которые человек делит с незнакомцами чуть ли не на Другом конце Земли.
Все мы временами являемся протребителями, и во всех экономиках имеются протребительские секторы, потому что многие наши личные потребности и желания либо не могут быть удовлетворены рынком, либо же они слишком дороги, либо же нам просто нравится (или мы вынуждены) заниматься протреблением.
Стоит закрыть глаза на видимую экономику и заткнуть уши, чтобы не слушать эконоболтовню, как мы обнаружим удивительные вещи. Во-первых, то, что протребительская экономика огромна; во-вторых, что многие очень важные вещи мы совершили именно в ее рамках; в-третьих, даже при том, что экономисты на нее практически не обращают внимания, 50-триллионная денежная экономика не могла бы просуществовать без нее и десяти минут.
Вот излюбленная фраза придерживающихся традиционных взглядов бизнесменов и экономистов – «бесплатного обеда не бывает». Мы часто произносим ее именно за обедом. Но нет мантры более обманчивой. Протребительский продукт – это субсидия, от которой зависит вся денежная экономика. Производство и протребление неразделимы.
Многие, в том числе экономисты, согласятся с тем, что то, что мы делаем в качестве протребителей – ухаживаем ли за больным отцом или служим волонтером в соседской общине или на пожарной станции, – имеет общественную ценность. Многие также согласятся и с тем общим мнением, что непреодолимая Берлинская стена или «железный занавес» разделяет то, что мы делаем за деньги, и то, что мы делаем как протребители.
Однако мы надеемся показать – достаточно убедительно логически, хотя и на основе немногочисленных данных, – что эта «стена» в реальности не существует, что многие протребители регулярно перемещаются из одной зоны в другую и что то, что мы делаем как протребители, оказывает глубокое влияние на денежную экономику, хотя этого часто не замечают.
Более того, мы покажем, что это совсем не абстрактный предмет для исследования экономистами. Это важно для родителей, которые платят за обучение детей и отчисляют налоги, чтобы дать детям образование в будущем. Это важно для маркетологов и менеджеров, рекламных агентов и инвесторов, генеральных директоров и вычурных вкладчиков, банкиров, лоббистов и лиц, занимающихся стратегическим планированием. Это особенно важно для политиков и политических лидеров, которые хотят вести нас в безопасное будущее.