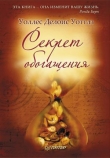Текст книги "Революционное богатство"
Автор книги: Элвин Тоффлер
Соавторы: Хейди Тоффлер
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 42 страниц)
Для некоторых людей истина открывается в мистическом откровении. Она не допускает сомнений. Она такова, какова есть. «Поверьте мне на слово». (Конечно, если вы «поверите мне на слово», поверите, ибо я так говорю, я стану почитаемым авторитетом, и тогда ко мне можно применить и критерий авторитетности.)
ДолговечностьВ этом случае проверка истинности основана на возрасте самой истины. Выдержала ли она проверку временем? Или же она совсем нова, а потому сомнительна? Тут авторитет не бог, не книга и не личность, но длительный отрезок времени, называемый «прошлым».
Может быть, куриный бульон хорош при лечении простуды, но является ли это правдой, несмотря на то что из поколения в поколение бабушки поили им заболевших в семье?
Многим из нас сегодня трудно оценить, насколько важной считалась истина, переданная по наследству, до эпохи Просвещения и промышленной революции. Историк Алан Kopc из Пенсильванского университета говорит, что «ниспровержение признанного авторитета прошлого стало одной из самых значительных вех во всей истории Запада».
НаукаНаука стоит особняком в ряду прочих критериев. Она единственная сама зависит от жесткой проверки.
В числе существующих критериев наука, по всей видимости, используется в обыденной жизни реже всего. Мы, к примеру, не прибегаем к научным тестам при выборе щенка, а берем его просто потому, что он нам понравился. Мы не ставим лабораторных опытов, решая, какой фильм посмотреть в кинотеатре или с кем нам дружить. В наших повседневных делах процент решений, принимаемых на основе науки, ничтожно мал. Между тем за несколько последних веков ни один из шестерки критериев истинности не имел такого значительного влияния на создание богатства. И ни один из них, как мы увидим, не подвергался таким опасностям.
Наука – это не собрание фактов. Это процесс – нередко хаотичный и непоследовательный – проверки идей. Идеи должны быть проверяемыми, по крайней мере в принципе; иногда думают, что и фальсифицируемыми. Проверка включает в себя наблюдение и эксперимент. Результаты должны быть воспроизводимы. Знание, которое не отвечает этим требованиям, не является научным.
Даже самые убедительные открытия остаются неполными и неокончательными; они подвергаются дальнейшему изучению, пересмотру и иногда опровергаются новыми научно проверенными данными.
Это делает науку единственным из шести фильтров, последовательно противостоящим любого рода фанатизму – религиозному, политическому, националистскому, расистскому и так далее. Именно фанатичная убежденность порождает терроризм, преследования инакомыслящих, инквизицию, бомбистов-самоубийц и другие ужасы. Именно эту фанатичную убежденность наука вытесняет пониманием того факта, что даже наиболее признанные научные истины являются в лучшем случае неполными или преходящими, а следовательно, ненадежными.
Идея о том, что каждое научное открытие должно быть и обязательно будет усовершенствовано или отброшено, выводит науку в отдельный класс. Таким образом, в ряду других основных фильтров истинности, будь то консенсус, согласованность, последовательность, авторитетность, откровение или долговечность, только наука сама себя корректирует.
Если остальные пять были в ходу с начала времен и отражали статичность и сопротивление переменам, свойственные аграрным обществам, то наука широко распахнула двери переменам.
Джозеф Нидхем, известный историк китайской науки, биолог по образованию, показал, насколько технологически продвинутыми были китайцы по сравнению с Европой до определенного переломного момента, когда западная наука сделала резкий скачок, обогнав китайскую. Этот большой прыжок в будущее был вызван не тем или иным научным открытием, но чем-то бесконечно более действенным. Как пишет Нидхем, «во времена Возрождения на Западе, во времена Галилея был открыт самый эффективный способ совершения открытий».
Элементы «научного метода» можно проследить к раннему исламу, Ренессансу или Фрэнсису Бэкону, XVI–XVII векам, но ясный и общепринятый метод определения истинности того или иного утверждения или гипотезы появился гораздо позже.
Канадский историк Йен Джонстон из университета Маласпина поясняет: «Процесс научного познания не всегда выступал в виде хорошо скоординированной строгой деятельности при наличии ясного и общепринятого понимания ее метода. Наука все еще разбиралась в том, что на самом деле представляет собой такая деятельность, и при этом существовало множество конкурирующих методов, теорий и систем почти во всех ее сферах» на протяжении всего XVIII века и даже в начале XIX. Только постепенно начинали использоваться элементы опытного наблюдения, эксперимента, количественной оценки, распространения результатов, повторения или опровержения, двойного слепого метода и прочих широко известных сегодня техник.
Изобретение научного метода стало даром человечеству, новым фильтром, тестом, могущественным метаинструментом для познания неизведанного и, как впоследствии оказалось, для ускорения технических изменений и экономического прогресса.
Среди всех решений, принятых в экономике в любой заданный день, только ничтожнейшая доля может назваться научно обоснованной, но даже этот крошечный след в глобальном масштабе существенно изменил нашу способность создавать и расширять богатство. И так будет в будущем – если мы позволили этому случиться.
Сдвиги истинностиКонечно, в действительности все мы полагаемся не на один критерий истинности. Когда нам требуется медицинская помощь, мы обращаемся к науке, за моральной поддержкой – к откровениям религии, а по прочим вопросам прибегнем к чужому авторитету. Мы изменяем выбор критериев, а то и комбинируем их.
Многие компании, политические партии, религиозные движения, правительства и другие группы пытаются манипулировать нами, делая упор на том или ином критерии-фильтре. Посмотрите, к примеру, как телереклама использует настоящих врачей для увеличения продаж фармацевтической продукции, внушая нам, что рекомендация верна, поскольку основывается на научных данных. В других рекламных роликах появляются знаменитости – Боб Доул рекламирует виагру, а Лэнс Армстронг – продукцию компании «Бристол – Майерс Скуибб», как будто каждый из них – авторитет в данном вопросе. Компьютеры фирмы «Делл» рекламирует небрежно одетый молодой человек примерно того возраста, что и потребители, которых «Делл» желает привлечь, – внушая зрителям, что тем самым они присоединятся к консенсусу соответствующей возрастной группы.
В отношении таких продуктов, как сухие завтраки фирмы «Куэйкер Оутс» или «Блинная мука тетушки Джемаймы», а также огромное множество других, наименование которых начинается со слов «по старинному рецепту», как бы предполагается, что производство по старинке гарантирует качество (как полагала ваша бабушка). Во всех этих случаях разные фильтры достоверности используются в коммерческих целях. Следующим шагом явится разделение маркетологами потребителей на группы по признаку того, какой критерий используется каждой из них.
Но не только индивиды решают, что правда, а что нет. Целые культуры и общества обладают собственным «профилем доверчивости», характеризующимся предпочтительным использованием одного или нескольких критериев.
Одно общество предпочитает полагаться на авторитет и религиозное откровение – скажем, Иран после теократической революции 1979 года. Другие делают акцент на науке и ее сестре – технологии, как Япония, начиная с 1960 года.
«Профиль доверчивости» общества глубоко воздействует на количество и тип богатства, которое оно производит. От него зависит, сколько денег будет потрачено на строительство мечетей и церквей, а сколько на исследовательскую и конструкторскую деятельность либо на погружение в сладостную постимперскую ностальгию (как во Франции и Великобритании). Он воздействует на число обращений в суд, природу юридической системы, удельный вес традиций и уровень сопротивления переменам.
В конечном итоге выбор фильтров истинности ускоряет или замедляет темп того, что чешский экономист Еуген Лебль называл «приростом» – скорость, с которой люди накапливают знание, необходимое для постоянного повышения стандартов уровня жизни.
Завтрашняя экономика будет в огромной мере базироваться на том, какой из фильтров мы предпочтем для верификации знания. Мы в очередной раз меняем наши отношения к глубинной основе богатства без учета последствий и рискуем одним из ключевых источников экономического прогресса.
Ставкой в этой игре является будущее науки.
Глава 20
ЛАБОРАТОРИЮ – В ОТБРОСЫ
Ничто за последние века в такой мере не способствовало увеличению продолжительности жизни, улучшению питания и здоровья, приумножения богатства, как знания и наука, включая даже то, что теперь устарело. Однако на фоне многочисленных знаков перемен в ряду глубинных основ богатства сегодня все заметнее делается активизация партизанской войны против науки.
Эта война ведется не против отдельных научных фактов, она нацелена на обесценивание самой науки. Это попытка навязать изменение в самом способе ведения научной работы, поставить рамки тому, что ученые могут или же не должны изучать. На глубинном уровне это попытка навязать глобальный «сдвиг доверия» – девальвировать доверие к науке как способу верификации истины. Если эти попытки удадутся, это фатальным образом скажется на будущем наукоемкой экономики, уменьшит шансы в борьбе с глобальной бедностью и нищетой, и само наше будущее потонет во мраке.
На поверхностный взгляд может показаться, что мировая наука процветает. Во всем мире растет число ученых и инженеров, увеличиваются расходы на исследования и конструкторскую деятельность – в 2003 году только в США на эти цели было затрачено 284 миллиарда долларов.
Довольно значительные суммы были выделены иностранным исследователям и иммигрантам из всех уголков Земли, приток которых пополнил ряды американского научного сообщества. США также стали тренировочной базой для легионов ученых, работающих в разных странах мира – от Китая и Индии до Ближнего Востока и Мексики.
В секторе бизнеса в 2004 году одна только компания Ай-би-эм затратила на научно-исследовательскую и инженерно-конструкторскую деятельность 5 миллиардов. Ее исследователи во главе с Полом Хорном запатентовали в общей сложности 3248 инноваций – то есть по одной каждые 2,6 часа каждые сутки все 365 дней в году. Она получила на 68 процентов патентов больше, чем занявшая второе место компания «Мацушита».
Эти инновации не только улучшили продукцию самой Ай-би-эм, но, что гораздо важнее, представляют продаваемую интеллектуальную собственность, которая принесла 1,2 миллиарда прибыли за счет лицензирования – это составило примерно 15 процентов чистой прибыли компании в 2004 году. Основные продукты Ай-би-эм уже не просто физические объекты – это сервисные услуги и знания.
Пути трансляции науки в общий экономический рост чрезвычайно сложны и являются предметом жарких дебатов. Но, по словам Гэри Бачулы, бывшего заместителя министра торговли США, «сегодня ведущие экономисты считают технический прогресс важнейшим, если не самым важным фактором экономического роста, обеспечившим за последние полвека половину прироста национального продукта США».
Согласно данным Национального научного фонда, в последние годы «другие страны увеличивают объем научной и конструкторской деятельности, сосредоточивая внимание на таких областях, как физические науки и инжиниринг, которые в США получают сравнительно меньшее финансирование».
Стало уже общим местом повторять, что научное знание – это обоюдоострое оружие, поскольку его открытия используются и в деструктивных целях. Однако то же самое справедливо в отношении религии и вообще ненаучного знания, хотя ни то, ни другое не породило такого количества открытий, которые внесли бы свой вклад в здравоохранение, питание, безопасность и прочие общественные блага.
Бритвенные лезвия и праваИмея в виду этот вклад, можно подумать, что ученые, причем не только в США, но и во всем мире, пользуются огромным уважением, как это было в прошлом.
Но нет. Когда ученые-медики из американских университетов несколько лет назад, получив почту и вскрыв конверты, обнаружили там бритвенные лезвия – это было предупреждение со стороны защитников животных, требовавших прекратить эксперименты над животными, а не то… Под «а не то» подразумевались заложенные в автомобили бомбы, поджоги и прочие формы устрашения и насилия.
Фанатики прав животных представляют только одну ветвь широкой антинаучной коалиции, членами которой являются представители маргинальных групп таких движений, как феминизм, охрана окружающей среды, марксизм и другие якобы прогрессивные течения. Получая поддержку в академических и политических кругах, в среде медийных знаменитостей, они обвиняют науку и ученых в многочисленных грехах: от лицемерия в лучшем случае до жестокости и преступлений – в худшем.
Они, к примеру, утверждают, что исследователи-фармацевты продают свою объективность корпорациям, которые больше заплатят. (Несомненно, некоторые так и поступают, но отсутствие порядочности не является привилегией только одной профессии.)
С другого фронта неофеминисты возлагают на них вину за то, что во многих странах женщины страдают от дискриминации при получении образования, и им чинят препятствия при приеме на работу и в профессиональном росте. Борьба против этого совершенно справедлива – такие действия глупы, нечестны и лишают нас интеллектуального потенциала половины человечества. Но опять-таки гендерная дискриминация свойственна не только науке и, к сожалению, превалирует в бесчисленном множестве других профессий.
Одновременно наука подвергается нападкам радикальных участников экологического движения. Ученые, говорят они, богатство грозят уничтожить человечество генетически модифицированными продуктами.
Мы одними из первых еще лет тридцать назад предупреждали о необходимости быть крайне осторожными с генной инженерией, но паническая иррациональная оппозиция вряд ли оправданна.
Экоэкстремисты в Европе сливают в СМИ сенсационные истории о «пище Франкенштейна» и входят в альянс с европейскими протекционистски настроенными правительствами, требуя наложить эмбарго на американский продовольственный импорт. Несмотря на кризис, угрожающий массовым голодом в Зимбабве, некоторые европейские страны оказывают давление на правительство этой страны, под угрозой торговых санкций требуя отказаться от продовольственной помощи, посылаемой туда Соединенными Штатами, на том основании, что поставляемые продукты являются генетически модифицированными.
А между тем Джеймс Моррис, исполнительный директор Всемирной программы пищевых продуктов ООН, заявил африканским правительствам, что «генетически модифицированная кукуруза употреблялась в пищу буквально миллиарды раз, и никаких отрицательных эффектов не наблюдалось. Так что если речь идет о безопасности продукта, то научно обоснованных причин для опасений нет».
Оголтелая кампания против ГМ-продуктов в Европе нанесла большой урон корпорации «Монсанто», лидирующей в создании генетически модифицированных семян. В Лоди (Италия) активисты подожгли склады компании, чтобы уничтожить семена кукурузы и сои, и написали на их стенах «Монсанто – убийцы» и «Нет ГМ!».
Подобные акции заставляют и другие компании опасаться; сокращения рынков продуктов, связанных с наукой, слишком) суровых или плохо продуманных регламентации, перемещению инвестиций в другие секторы и оттока перспективных молодых кадров.
Под знамена враждебно настроенных к науке активистов стягиваются самые разные силы, от левых социалистов до британского принца Чарльза, который в своей лекции на Би-би-си под названием «Уважение к Земле» атаковал «неодолимый рационализм науки». Ранее он обвинял науку в попытках установить «тиранию над нашим сознанием», вторя радикальным защитникам экологии, апологетам Нью-эйдж и другим, кто жаждет возврата к «сакральному» прошлому.
Это обращает нас к еще одному источнику антинаучной пропаганды – не знающим устали религиозным «креационистам», чья яростная ненависть к дарвиновской теории провоцирует развязывание кампаний против научных учебников, за цензуру программ образования и атаки на секуляризм, который у них ассоциируется с наукой.
К армии всех этих противников науки можно добавить независимых воителей, не всегда психически здоровых, готовых ради своей идеи совершать убийства.
Тед Качински в 1990-х убил троих и ранил 23 человека. Он шантажировал крупные газеты, заставляя публиковать свои пространные диатрибы против науки и технологии, в противном случае угрожая убить еще больше людей. Общая реакция глубоко возмущенного общества была резко отрицательной, но нашлись ученые, которые поддержали его манифесты, а в Интернете появилось несколько сочувствующих сайтов вроде страницы Chuck's Unabomb и alt.fan.unabomber.
В целом имеется антинаучное партизанское движение, смыкающееся на периферии с легионами верящих в паранормальные явления и зеленых человечков из космоса, не говоря уже о практикующих всевозможные формы «альтернативной» медицины и левитацию.
Голоса этой армии усиливаются стараниями Голливуда, изображающего ученого как злого гения, и бесконечными телешоу на темы «запредельного» (помогающего пообщаться с родными мертвецами или околевшей домашней любимицей игуаной).
Хор антинаучно настроенных активистов достиг такой громкости в Великобритании, что, когда ведущий британский специалист в репродуктивной биологии Ричард Госден уехал из страны, получив пост в Канаде, Британское королевское общество испугалось, что вслед за ним начнется эпидемия утечки мозгов. А в это время во Франции, в Сорбонне, невзирая на протесты, была присуждена степень доктора астрологии бывшей «мисс Франция», штатному астрологу телевизионного еженедельника. По иронии судьбы, защита ее диссертации имела место перед блестящей аудиторией. И где? В университете Рене Декарта.
Политическое сальто-морталеНенависть к науке в прошлом – как в США, так и в Европе – традиционно исходила с правого крыла, иногда от деятелей фашистского толка, в том числе нацистов. Даже теперь многие американские ученые говорят о «гражданской войне против науки», упрекая партию республиканцев и в особенности Джорджа Буша и Белый дом в политическом манипулировании или искажении научных данных, касающихся глобального потепления, контроля над рождаемостью, кислотных дождей и исследований клеток. Левые, напротив, как правило, науку поддерживали. В частности, марксизм всегда претендовал на звание «научного» социализма.
Сегодня эта политика сделала странное сальто-мортале; антинаучным знаменем яростнее всего размахивают левые элементы. Их чаще всего можно встретить на филологических факультетах, на отделениях гендерных исследований американских и европейских университетов. В то время как одни левые в Америке горячо выступают против религиозных прав по таким эмоционально заряженным общественным проблемам, как аборты или государственное финансирование церковных школ, другие левые смыкаются с правыми в партизанских действиях против науки.
Мы вовсе не утверждаем, что все ученые бескорыстны и безупречны, что в научной среде никогда не происходит мошенничеств, что в лабораториях никогда не проводятся безответственные или опасные эксперименты, а также о том, что к благам, добытым благодаря науке, имеют доступ равно и богатые, и бедные. Конечно, здесь много проблем, и они требуют своего решения, но у партизанской войны против науки иные, более широкие цели.
Она была развязана именно в тот момент, когда революционные научные открытия стали происходить все чаще и чаще, захватывая все новые и новые области. Благодаря одной только дешифровке генома человека радикально расширилась база познания мира, а накопление знаний значительно ускорилось. Но вот что говорит по этому поводу биогеограф Филипп Стотт из Лондонского университета: «Мы стоим на высокой вершине, и перед нами расстилается огромная неизведанная страна. Беда в том, что далеко не все желают ее исследовать». Вместо этого, пишет он, «люди отчаянно стремятся не выпускать науку о новом из колыбели, ограничить ее распространение».
Патриархальность и хиромантияМногие критики науки не признаются в желании ее уничтожить и не оспаривают того, что составляет ее сущность, – методологии. Они лишь сетуют на то, что только три процента исследований в области фармацевтики, например, направлены на поиск лекарств против болезней, распространенных среди бедноты. Или на то, что на поиск лекарств против мужских болезней тратится больше средств, чем на лекарства для лечения женских заболеваний. Или на негуманное обращение с животными при исследованиях в таких далеко не жизненно важных областях, как косметическая продукция. Или на то, что слишком большая часть научного сообщества занята созданием нового оружия. Все эти обвинения абсолютно обоснованны. Если эта критика будет учтена, это пойдет только на пользу науке.
Критики также вполне справедливо сетуют на то, что, несмотря на свой имидж, наука не является, да и не может являться полностью бескорыстной. Некоторые феминистки упрекают ее за то, что она по своей природе андроцентрична и маскулинизирована. Гуманитарии предъявляют ей счет за позитивистский, количественный подход и отрицание интуиции. Идут дебаты на тему о том, нельзя ли создать альтернативную, феминистскую науку, не основанную на сциентистских методах.
Свои требования выдвигают и поп-спиритуалисты Нью-эйдж и прочие приверженцы оккультных учений. Пройдитесь по любому торговому кварталу, и непременно увидите магазин, предлагающий широкий ассортимент книг Нью-эйдж, курения и амулеты. Любому, кто захочет открыть такой магазин, надо просто зайти в Интернет: тут же обнаружится 1200 оптовых фирм, предлагающих 4000 разновидностей товаров, относящихся к колдовству и магии. Один онлайновый распространитель предлагает 900 постеров по 40 категориям Нью-эйдж: астрологии, чакрам, божествам, колдовству, хиромантии, картам Таро, шаманизму, ангелам, йоге, китам, дельфинам, цыганам, египтянам, дзен-буддизму и многому другому.
Вся наша культура настолько погрязла в паранормальном, оккультном и иррациональном, что журнал «Нью-Йорк» посвящает свою обложку «оккультному Нью-Йорку» и «сверхъестественным суперзвездам большого города». На обложке изображена ладонь, испещренная словами «ясновидящие… медиумы… телепаты… мистики… шаманы».
Нью-эйдж охватывает множество видов практики и верований, но, вообще говоря, шизофренически относится и к науке, и к религии.
Согласно формулировке, данной Вутером Ханеграаффом в его магистерской работе «Религия Нью-эйдж и западная культура», Нью-эйдж – это система убеждений, которая «не отрицает ни религию и духовность, ни науку и рациональность», претендуя на соединение того и другого в «высшем синтезе». Однако бесконечное взывание к «существам высшего уровня» и представление реальности как о нематериальной проекции наших верований оказывается путаницей язычества, шаманства, «жизни после жизни» и обещаний блаженства; нам предполагается поверить в некие научно непроверяемые и нефальсифицируемые утверждения.