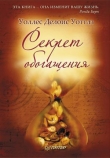Текст книги "Революционное богатство"
Автор книги: Элвин Тоффлер
Соавторы: Хейди Тоффлер
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 42 страниц)
Поток новых технологий принесет с собой бесконечное разнообразие параденег. Таким образом, вскоре кредитные карты могут предоставить нам выбор уровня применимости. Арабский малазийский банк в Куала-Лумпуре предлагает клиентам-мусульманам карту, которая не действует в массажных салонах и ночных клубах.
Активисты политических движений могут, например, миллионным тиражом выпускать «карты бойкота», которые действуют где угодно, но ими нельзя расплатиться за определенные марки товаров, скажем, за кроссовки «Найк», бензин компании «Шелл», одежду марки «Гэп» и т. д. Жены или мужья могут запрограммировать ограничения на карточке супруга или же родители могут снабдить детей карточками, с помощью которых нельзя будет купить конфеты, алкоголь, сигареты или фаст-фуд.
Люди с чрезмерным весом, желающие избегать быстрого питания, но не выдерживающие соблазна, могут помочь себе, заблокировав свою карту для расчетов с «Пицца-хат» или «Тейко Белл» и прочими подобными заведениями. Примите решение, не носите с собой больше доллара наличными и позвольте своей карте укрепить вашу решимость.
Еще более новые технологии делают устаревшими сами карты. В Южной Корее сотовые телефоны уже превратились в эквивалент электронного кошелька. С помощью чипа соответствующего банка в вашем телефонном аппарате можно снимать деньги с вашего счета, расплачиваясь за покупку. Такие телефоны уже широко используются в крупных торговых центрах, ресторанах, торговых автоматах, на железнодорожных станциях и в других местах.
В Европе ведущие банки, такие как UBS, «Барклайс», BNP «Парибас» и «Дойче банк», присоединились к системе «Виза», чтобы исследовать потенциал подобных технологий. Их горячая энтузиастка Лииса Канньяинен, вице-президент скандинавского банка «Нордеа», сказала: «Я не прогнозирую смерть наличности в будущем году, но очень надеюсь, что она случится очень скоро». Единственное, что следовало бы здесь добавить, это то, что одновременно эти технологии представляют смертельную угрозу и кредитным карточкам, и наличным.
Еще более широкое разнообразие в выборе способа оплаты обеспечат три новые взаимодействующие силы.
Во-первых, это новые технологии проверки идентичности пользователя. В обиход входят надежные способы идентификации. В Японии, например, самый крупный эмитент кредитных карт – JCB – внедрил систему, которая идентифицирует личность по уникальному паттерну кровеносных сосудов пальцев. Банки и другие организации, выпускающие кредитные карты, пользуясь результатами исследований, подстегнутых борьбой с терроризмом, прибегают и к другим биометрическим методам, в том числе сканированию радужной оболочки глаза и опознанию по голосу или лицу.
Во-вторых, возникают новые беспроводные технологии, слишком многочисленные и быстро развивающиеся, чтобы детально рассматривать их здесь.
В-третьих, имеет место радикальный прогресс миниатюризации.
Основываясь на инновациях во всех трех указанных направлениях, многие компании, включая «Сони», «Филипс», «Сан Майкросистемс» и Ай-би-эм, работают над созданием альтернатив привычным пластиковым карточкам. Вот что говорит Джон Гейдж из корпорации «Сан»: «Кредитные карточки – всего лишь физический вариант идентифицирующего человека документа, так что всякий другой способ идентифицировать личность может использоваться в качестве платежного документа».
Сочетание всех перечисленных технологий с «принципом Гевджа» позволяет предоставить, к примеру, возможность имплантации крошечного чипа, активируя который, можно будет делать любые покупки.
Этот чип сообщит продавцу, что мы являемся именно теми, за кого себя выдаем, сообщит номер банковского счета и распорядится о перечислении необходимой суммы банком.
Стремительная диверсификация способов расчета и возможностей взаимозаменяемости отражает шаг вперед передовой экономики от унифицированного общества индустриального прошлого.
Крупнейшие мировые компании пробуют и более радикальные возможности, в том числе новые виды валюты.
Например, «Сони» рассматривает планы создания собственной валюты для использования внутри компании. Это могло бы помочь китайскому филиалу «Сони» вести дела в Японии или где-то еще, не обменивая заработанные там деньги на иены. Главная цель – снижение валютного риска. В дальнейшем можно будет выпускать общую валюту с другими компаниями, такими как «Хонда» или «Кэнон».
Доллар может не остаться самым надежным прибежищем для валютных инвесторов навсегда, и, как ни кажется это маловероятным сегодня, может наступить день, когда мы предпочтем иметь в своем электронном кармане не доллары и евро, а электронные «гейтсы» или «морита» – или валюту, поддерживаемую «Форчун-500» или «Синьхуа-500».
Денежные потокиПомимо прочих функций, параденьги предназначены для того, чтобы ускорять или замедлять расчеты. Кредитные карты способствуют отложенному расчету (за определенный процент, конечно). Дебетные карты, напротив, ускоряют расчет, непосредственно при покупке переводя необходимую сумму со счета покупателя на банковский счет торгового предприятия.
Рождающаяся на наших глазах новая система богатства открывает дорогу радикальным переменам, особенно в том, как и когда мы получаем плату за труд.
В индустриальном прошлом работникам, как правило, платили в конце недели или месяца. В большинстве случаев так обстоит дело и сейчас. Это означает, что наниматели в течение недели или месяца пользуются деньгами, которые на самом деле принадлежат работникам. Это своего рода беспроцентный заем, который наниматели получают от своих сотрудников.
И наоборот, квитанции, которые получает потребитель от электрической или газовой компании, как правило, оплачиваются в конце месяца, после того как потребитель уже воспользовался услугой. В этом случае клиент получает выгоду от отсрочки расчета.
В крупных отраслях промышленности некоторые компании живут за счет различия сроков платежей – например, издательства, выпускающие журналы по подписке. Однако такой временной лаг, рассматриваемый некоторыми экономистами как неэффективный для экономики в целом, возможно, уходит из употребления.
Как только компании и клиенты окажутся соединены проводными или беспроводными средствами коммуникации, а счета мы станем оплачивать электронным способом, поставщики могут потребовать непрерывной оплаты – заключения контрактов, позволяющих скачивать плату за услуги с электронных банковских счетов буквально в момент их предоставления. Это позволит компаниям получать деньги быстрее, чтобы вкладывать их, и – теоретически – понижать тарифы.
Может случиться, что целые группы работников захотят получать зарплату электронным способом, минута в минуту, за работу, которую они производят, не дожидаясь установленного дня.
Немедленные выплаты – естественные спутники движения передовой наукоемкой экономики от прерывистого производства к непрерывному – 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Чем более немедленными станут взаиморасчеты, тем ближе они окажутся к прямым сделкам с наличностью.
Эти инновации в формах и способах пользования деньгами спровоцировали множество прогнозов о «смерти денег». Еще недавно они казались бредом, Но так ли обстоит дело сегодня?
Пепси-водкаВо время Великой депрессии 1930-х годов на экраны вышла французская комедия под названием «Миллион». Два крестьянина зашли в кафе выпить по стаканчику бордо. Получив от официанта счет, один из них достал из мешка курицу и отдал в качестве платы. Официант вернулся со сдачей и положил на стол пару яиц; тогда посетитель одно взял, а второе оставил на чай.
Эта сатира точно схватывает реалии жизни миллионов людей в странах, где деньги теряют свою ценность, как это недавно было в Юго-Восточной Азии, России и Аргентине.
Однако завтра нам, возможно, не придется дожидаться кризиса, чтобы перейти к безденежным сделкам. Бартер, долгое время считавшийся абсурдом в рыночной экономике, обретает новую жизнь.
Для обыкновенного человека слово «бартер» – это характеристика примитивных обществ или мелкого обмена между людьми в повседневной жизни. Юрист помогает соседу составить завещание, а тот в обмен учит его играть в теннис. Такие мелкие сделки – обычная, широко распространенная практика, которую часто называют «благодарностью», но на языке экономики это бартер.
И бартер может быть большим бизнесом.
В связи с различиями в определениях полагаться на мировую статистику в данном вопросе трудно. Но, согласно журналу «Форбс», «считается, что более 60 процентов из тех компаний, который попали в список „Форбс-500“, используют бартер. Даже такие тяжеловесы, как „Дженерал Электрик“, „Мариотт“ и „Карнивэл Круиз Лайнс“, обмениваются по бартеру товарами или услугами». Журнал «Форчун» сообщает, что две трети всех крупнейших мировых компаний регулярно используют бартер и даже имеют отделы, специально занимающиеся такими сделками.
В 2002 году в Аргентине «Тойота» и «Форд» согласились принять в качестве платы за поставленные автомобили зерно. Задолжавшая России за газ Украина частично расплачивалась самолетами Ту-160. Сама же Россия за поставку сиропа «кока-колы» на три миллиарда долларов расплатилась «Столичной» водкой. Другие правительства в бартерных сделках используют все – от шерсти альпаки до цинка.
Согласно Бернарду Литаеру, бывшему начальнику планового отдела бельгийского Центробанка, одному из создателей евро, на глобальном уровне международный корпоративный бартер, иначе известный как встречная (или компенсационная) торговля, «постоянно используется не менее чем в 200 странах мира, и объем этой торговли составляет от 800 миллиардов до 1Д триллиона долларов в год», причем этот оборот быстро растет.
Одной из причин тому является бурное изменение экономических условий. Как говорит Литаер, основные валюты сегодня «демонстрируют изменчивость в четыре раза более высокую, чем в 1971 году».
Высокая изменчивость означает, что все большее число стран периодически испытывает дефицит иностранных валют. Бартер обеспечивает им способ торговать в условиях, когда другие страны не хотят принимать их национальную валюту. Бартер – это также способ снизить риск в условиях резких колебаний курсов валют. Соглашаясь принимать вместо денег товары или услуги, мы существенно сокращаем риск проиграть при изменении валютного курса.
До сих пор главное возражение против бартера заключалось в том, что трудно достичь консенсуса сторон, или, как говорят экономисты, «совпадения потребностей».
Однако развитие Интернета радикальным образом устраняет эти препятствия, предоставляя возможность почти моментально найти потенциальных торговых партнеров и расширить диапазон предметов обмена.
Доступность данных, глобальная коммуникация помогают найти партнеров не только для двусторонней сделки, но и привлечь к ней множество участников. Таким образом, в ближайшем будущем бартерные сделки будут гораздо более сложными и масштабными.
Насколько масштабными? Достаточно ли масштабными, чтобы заменить деньги при жизни нашего поколения?
«Нет никаких препятствий для обмена продуктами и услугами между потребителями и производителями напрямую, то есть для существования масштабной бартерной экономики», – к такому выводу пришел бывший заместитель управляющего Банка Англии Мервин Кинг.
Итак, мы имеем: 1) распространение параденег, 2) рост бартера, 3) увеличение неосязаемости, 4) развитие сложных глобальных финансовых сетей и 5) появление радикально новых технологий; при этом 6) мировая экономика сотрясается благодаря неуправляемым биржевым спекуляциям и 7) переживает период сейсмических колебаний в геополитике. В результате традиционные для индустриальной эпохи деньги могут и не исчезнуть совсем, но станут объектом коллекционирования.
Протребитель платит?Сегодня, когда все эти силы вступают во взаимодействие, можно наблюдать и небольшие по масштабу эксперименты с альтернативными валютами, зачастую с элементами бартера, главным образом на местном уровне.
Программа, впервые разработанная в городе Итака, штат Нью-Йорк, а теперь копируемая в десятках других общин, позволяет потребителям и продавцам использовать при приобретении товаров и услуг – от оплаты аренды домов до счетов от врачей и покупки театральных билетов – фишки или расписки, а не настоящую валюту.
Другая система, разработанная Эдгаром Каном и описанная в его книге «Времядоллары», дает людям возможность пользоваться взаимными кредитами услуг, например, обменивая уход за ребенком на приобретение покупок для пожилых соседей.
Каждая из этих систем по-своему изыскивает способы и придает квазимонетарную ценность вкладу в экономику протребителей. Учитывая широчайшие новые возможности, которые открывает электронный обмен информацией, можно распространить эти эксперименты и использование альтернативных валют на определенные сферы протребительской деятельности, описанной в предыдущих главах.
На другом конце спектра проект «Терра» требует введения наднациональной валюты, основанной не на цене золота или изменчивом обменном курсе, а на корзине международного товарообмена.
Мы стоим не только перед необходимостью решения вопросов, связанных с судьбой денег, но, как мы уже видели, с будущим собственности, капитала и рынков – и их взаимодействия.
Это включает в себя сдвиг с оплачиваемого труда к «портфелям труда» и самозанятости; от ремесленного протребительства к высокотехнологичному протреблению; от производства, основанного на получении прибыли, к открытому взносу в банк программ, медицинских открытий, а также от стоимости, заключенной в машинах и сырье, к стоимости, основанной на идеях, образах, символах и моделях в головах миллиардов людей. Это означает другое, альтернативное использование времени, пространства и знания – этих глубинных основ богатства.
В силу всех этих причин в связи с тем, что Третья волна перемен вытесняет промышленное производство и распространяется все дальше за пределы места своего возникновения – США, капитализм испытывает кризис понятий. Встает вопрос: останется ли он капитализмом, когда завершится это революционное переосмысление?
Если устаревают наши традиционные представления о капитализме, то, как мы увидим, меняются и наши привычные представления о том, как победить глобальную бедность.
Часть девятая БЕДНОСТЬ
Глава 41
СТАРОЕ БУДУЩЕЕ БЕДНОСТИ
Революционное богатство несет с собой и новое будущее бедности.
Поскольку ни один прогноз относительно будущего не сбывается со стопроцентной гарантией, можно лишь предположить, что Третья волна, наступающая вместе с наукоемкой экономикой, дает нам хороший шанс раз и навсегда сломать хребет глобальной бедности.
Было бы утопией предполагать возможность тотального уничтожения материальной бедности на всей планете. У бедности много причин – от тупой экономической политики и плохо функционирующих политических учреждений до изменения климата, эпидемий и войн. Однако нет ничего утопичного в том, чтобы признать, что сегодня мы имеем – или очень скоро будем иметь – чрезвычайно могущественные новые инструменты для борьбы с бедностью.
Бедность – это всеобщий враг. Все мировые правительства утверждают, что пытаются побороть ее. Тысячи неправительственных организаций собирают деньги, чтобы кормить голодных детей, очищать источники питьевой воды и обеспечивать медицинской помощью сельских жителей.
ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Продовольственная и сельскохозяйственная организация и другие международные агентства принимают многочисленные благонамеренные резолюции, посвященные борьбе с бедностью.
Говоря о ней, используют самые сильные эпитеты – от «разбивающей сердце» до «постыдной», «трагической», «позорной», «скандальной», «поразительной», «шокирующей», «невыразимой» и «непростительной».
Тысячи семинаров и конференций были посвящены этой проблеме. Армии экспертов с самыми лучшими намерениями вылетали в отдаленные регионы, чтобы наладить каналы помощи, и обороты «индустрии помощи» достигли многомиллиардного уровня.
В период 1950–2000 годов свыше триллиона долларов ушло из богатого мира в бедный в форме «помощи» или «содействия развитию». Некоторые из этих долларов спасли кому-то жизнь и улучшили условия существования: в 1960-х годах была осуществлена программа уничтожения оспы, в 1980-х – иммунизация детей, проведены кампании против трахомы, проказы, полиомиелита. Тем не менее, поданным Всемирного банка, около 2,8 миллиарда людей – почти половина населения Земли – все еще продолжают жить на два или меньше двух долларов в день; из них около 1,1 миллиарда существуют в условиях крайней или абсолютной нищеты на меньше чем 1 доллар в сутки.
Однако вот что поразительно. Несмотря на провал полувековых попыток стереть бедность с лица земли, приведенные выше цифры, если взглянуть на них с другой стороны, свидетельствуют о невероятном успехе.
Речь не о том, чтобы умалить трагедию бедности XXI века. Тем не менее путешественник во времени, который переместился бы из XVII века в наше время, был бы поражен не тем, как бедны люди, а каким огромным и невероятно богатым стало человечество.
Прибыв из мира, где население в 500000000 человек страдало то от голода, то от моровой язвы, этот путешественник был бы поражен тем, что сегодня на Земле могут существовать более шести миллиардов человек, включая более 3,5 миллиарда тех, чей доход выше двухдолларовой черты бедности.
У границыДо промышленной революции ужасающая бедность была приметой не только Африки, Азии или Латинской Америки. По словам историка Фернана Броделя, во французской провинции Бовэзи в XVII веке ежегодно умирали более трети детей. Только 60 процентов детей доживали до 15-летнего возраста.
Бродель описывает Европу, опустошавшуюся чумой и голодом. Бедняки наводняли города, нищенствуя и воруя, чтобы не умереть от голода. Детей, жен, больных и стариков оставляли в деревнях, обрекая их на верную смерть.
Лауреат Нобелевской премии историк-экономист Роберт Фогель указывает на то, что «энергетическая ценность типичной диеты во Франции в начале XVIII века равнялась таковой в Руанде 1965 года – самой недоедающей на тот год стране».
И это касается не только Франции. На протяжении 10000 лет только незначительная часть населения планеты была обеспечена на уровне, превышающем минимальный, необходимый для выживания, и самые богатые в мире страны были только вдвое богаче самых бедных.
Если так было повсюду, при всем разнообразии народов, культур, вероисповеданий и методов обработки земли, можно заключить, что в определенный момент крестьянское сельское хозяйство достигло предела производительности.
Бедность стратегийТолько после того как индустриальная система богатства начала вытеснять аграрную, значительное число народонаселения стало выбираться из крайней нужды.
Это обстоятельство заставило экономистов и политиков прибегать к стандартному рецепту, который и теперь все еще называется «развитием» или «модернизацией» и представляет собой стратегию перевода рабочей силы и экономики от низкопродуктивного, дающего низкую прибавочную стоимость сельского хозяйства, к более производительному промышленному производству с более высокой прибавочной стоимостью и поддерживающими его услугами.
С начала 1950-х годов и далее эта стратегия Второй волны в бесчисленных вариантах пропагандировалась экспертами США, Европы и бывшего Советского Союза, ООН, а также неправительственными организациями. Идея заключалась в том, что каждая страна должна производить у себя промышленную революцию.
И действительно, реальной альтернативы этому пути не было.
После 1960-х годов некоторые критики выступили против этой стратегии, предложив сосредоточиться не на фабриках и урбанизации, а на маломасштабных «адаптированных» или «альтернативных» технологиях, использующих местные ресурсы.
С тех пор это движение ширилось, способствовало развитию микрофинансирования и созданию малого бизнеса в бедных странах, кооперировалось с наукой и становилось более сложным.
Оно породило много замечательных инноваций, но главной его целью было способствовать прекращению или хотя бы замедлению дальнейшей индустриализации и закреплению крестьянского населения на Земле. Более того, следуя лозунгу «малое прекрасно», многие воинствующие приверженцы этого движения и посейчас романтизируют крестьянский быт и деревенскую жизнь. Они демонизируют все, кроме самых примитивных машин, и не проводят почти никакого различия между индустриальными и наукоемкими технологиями.
Утверждая, что и те, и другие технологии служат только богатым, критики игнорируют блага, которые эти технологии принесли миллионам бедных. Еще важнее то, что они не понимают того факта, что технологии Третьей волны опосредованным образом избавили от нищеты огромное число людей и впервые за три с лишним столетия открыли новые и действенные способы борьбы с бедностью самых бедных.