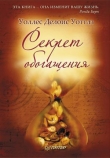Текст книги "Революционное богатство"
Автор книги: Элвин Тоффлер
Соавторы: Хейди Тоффлер
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 42 страниц)
Были предприняты многочисленные попытки объяснить, почему «японское чудо» в 1990-х годах со скрежетом затормозило. Это была очень странная остановка.
Прогуляйтесь по токийскому району Омоте Сандо, где фланируют иностранцы и местные юные модники, останавливаясь, чтобы выпить большую чашку кофе с молоком, соевыми бобами и ванилью, и вы не обнаружите признаков беспокойства. Вот что пишет в своей книге «Невидимый континент» Кениши Омае: «Куда подевались нищие?.. Куда исчезли двухзначные цифры индекса безработицы?» Цены на газированную воду в бутылках взвиваются вверх; билеты на круизные суда полностью раскупаются; толпы молодых японок покупают «столько продукции таких марок, как „Гермес“, „Прада“, „Гуччи“, „Луи Вюиттон“ и им подобных, что Япония выходит на первое место по объемам приобретения товаров самых дорогих брэндов».
Даже сегодня японская экономика ощущает последствия падения в 1990–2000 годах цен на рынке недвижимости на 60 процентов. В Токио цены упали тогда почти на 80 процентов.
Не только ситуация на рынке недвижимости объясняет тот факт, что в 2003 году в японских банках количество невостребованных кредитов возросло, по некоторым оценкам, до 400 миллиардов долларов. Более того: в 2003 году объем производства снизился на 10 процентов по сравнению с 1991 годом, и, согласно докладу Совета по международным отношениям, доля Японии в мировом производстве и экспорте «сократилась впервые за последние сто лет».
Что же случилось? Почему вдруг «сверхдержава» остановилась в росте? (Не может ли те же ошибки совершить Китай? Во всяком случае, ситуация на рынке недвижимости там, похоже, повторяет японский опыт.) Так или иначе, ни ситуация с недвижимостью, ни замороженные банковские кредиты в полной мере не объясняют того, что случилось с Японией. Бомба замедленного действия, взорвавшая японскую экономику, была заложена на уровне глубинной основы времени.
Скачок вбокМы уже говорили о том, что ранее в целях радикального улучшения производственной базы и резкого повышения качества экспортируемых товаров и в первую очередь заполнения мировых рынков совершенно новой продукцией Япония использовала новейшую информационную технологию. Одновременно с этими новшествами она также вводила инновационный эффективный менеджмент, обеспечивающий, в частности, поставки «точно вовремя». Мир еще не видел ничего подобного стремительной истории успеха Японии.
Даже сегодня, после длительного застоя последних лет, Япония остается мировым лидером во многих отраслях науки и техники. Экономичные автомобильные двигатели и использование альтернативных источников энергии, создание промышленных роботов и роботов-«гуманоидов», исследования по получению кровезаменителей, цифровая электроника, игровые устройства и еще многое другое – все это области, в которых Япония сохраняет одно из первых мест. В 2004 году правительство инвестировало 900 миллионов долларов – больше, чем вся Европа – в разработки в сфере нанотехнологий. Японские ученые и инженеры привыкли расширять границы знания.
Однако, как неоднократно подчеркивалось на страницах этой книги, одни только наука и технология еще не обеспечивают передовой экономики, а успешно развивающаяся, интенсивно использующая знания экономика не может базироваться только на промышленном производстве. Ей необходим также прогрессивный сервисный сектор. Однако Япония, ускоряя производство и способствуя ускорению в связанных с ним мировых цепочках поставок, гораздо медленнее внедряла компьютеры, информационные технологии, новые модели бизнеса и менеджмента в сервисном секторе. В период с 1995-го по 2003 год Японии пришлось импортировать в эту сферу на 456 миллиардов долларов больше, чем она экспортировала.
Короче говоря, ее однобокое развитие привело экономику к такой степени десинхронизации, что это ощущается по сей день: производство и сервисное обслуживание и сейчас находятся в состоянии разбалансированности.
По словам журнала «Экономист», «трудно назвать хотя бы одну непроизводственную сферу, в которой Япония занимала бы ведущие позиции. Дорогостоящие транспортные перевозки внутри страны тормозят доставку продукции и развитие туризма. Отсутствие конкуренции в энергетике и телекоммуникациях помогает сохранению высоких цен. Заметно отстают такие области, как юридическая служба и бухгалтерское дело. Медицинское обслуживание, важнейшая отрасль для страны с быстро стареющим населением, находится на постыдно низком по международным стандартам уровне».
Чтобы привести индустрию сервиса в соответствие с уровнем промышленного производства, требуется скачок к более умным, наукоемким операциям и новым формам организации. Упор на промышленность имеет и другой эффект.
Для Японии особенно важен экспорт, поскольку она является зависимой от импорта страной, которой не хватает собственных продуктов питания и источников сырья и энергии. Доход от экспорта помогает ей расплачиваться за импорт. Однако Япония имеет опасный крен. В результате, как говорится в цитировавшемся выше докладе Совета по международным отношениям, Япония «представляет собой гибрид сверхэффективных экспортных отраслей промышленности и сверхнеэффективных секторов внутренней экономики».
Такая позиция в сегодняшнем изменившемся мире внушает серьезные опасения. Пока Япония творила свое «чудо» на экспорте, Южная Корея, Тайвань, Малайзия и другие азиатские страны были слабо конкурентоспособными на мировых рынках. Китай вообще можно было не брать в расчет. Сегодня конкуренция на экспортных рынках чрезвычайно высока; в сущности, они переполнены игроками.
Следовательно, при всей его значимости экспорт более не может считаться главной стратегической дорогой в будущее Японии. Японии надлежит достроить внутреннюю экономику до уровня экспортного сектора. Сегодня нельзя держаться за то, что приносило успех вчера.
Гибкие нацииДля того чтобы адаптироваться к меняющимся условиям, ускоряющаяся экономика должна приобрести организационную гибкость. Это относится ко всем странам, стремящимся к созданию основанной на знании экономики, но особенно важно для Японии, чьи жесткие правила производства сделали гибкость почти невозможной.
До тех пор, пока остаточные явления индустриального века не преодолены, Япония будет отставать в гонке за будущее. Но если обратиться к критике деиндустриализации со стороны представителей Второй волны, или к чрезмерному влиянию старых сельскохозяйственных регионов в политике, или к бюрократическому сопротивлению реструктуризации, то мы увидим то же скрытое контрреволюционное сопротивление завтрашней экономике Третьей волны, что и в других странах.
Попытки изменить японские правила индустриального века упорно тормозятся теми, чьи деньги в них вложены, будь то седовласые главы вчерашних корпоративных гигантов, ветераны-бюрократы министерства финансов или преподаватели, четверть века читающие один и тот же курс. Незаметная и вежливая – в японском стиле, – но тем не менее жесткая партизанская война ведется против завтрашнего дня: имеет место тот самый конфликт волн, о котором говорилось выше.
И все же, несмотря на этот конфликт, имеют место определенные перемены. Например, распадается знаменитая японская система пожизненного найма. По правилам этой системы, крупнейшие корпорации ежегодно принимают на работу сотрудников прямо со школьной скамьи с тем, чтобы они оставались у них на службе вплоть до пенсии. Это гарантировало спокойное существование индивиду, но радикально сужало его возможности. Наниматели редко принимают на работу сотрудника, который переходит к ним из соперничающей фирмы, имея в виду, что он уволился из-за определенного служебного несоответствия. Лучше оставаться на прежнем месте. Одно время трудовое законодательство запрещало квалифицированным работникам увольняться без согласия босса. Такая система воспитывала негибкое отношение.
Такие же закрытые отношения существовали и на уровне компаний. Так, если на Западе производители обычно свободны в выборе поставщиков сырья, компонентов или обслуживания со стороны партнеров, то японские фирмы зачастую были жестко прикреплены к «кейрецу» – семейству финансово взаимосвязанных, взаимно поддерживающих друг друга фирм, группирующихся вокруг крупной компании или ведущего банка.
Система «кейрецу» обеспечивала крупным фирмам более значительную власть над мелкими поставщиками сырья, чем на Западе, как правило, обязывая свои дочерние предприятия осуществлять закупки в рамках семьи, несмотря на наличие более дешевых или превосходящих по качеству товаров в других местах. «Кейрецу» тоже ограничивала гибкость.
Теперь в этой, области Япония сделала доселе невообразимый прогресс. Согласно данным Японской внешнеторговой организации, за пять лет процент контрактов, заключенных внутри членов одной и той же «кейрецу», снизился с 70 до 20 процентов, но даже здесь превалирует нерешительность. Так, «Мицубиси», упразднив свою «кейрецу» в 2002 году, вновь восстановила ее в 2004-м.
Японские управленцы и чиновники не желают расстаться и с другим устаревшим наследием индустриального века. Считается, что больше (почти всегда) означает лучше. Это пережиток экономической теории масштабности в массовом производстве.
Эта концепция, однако, не учитывает неэкономичности размера в чистом виде: например, правая рука не знает – или не желает знать, – что делает левая. Не учитывает она и различия между традиционными отраслями производства и новыми, где нематериальный продукт, созданный маленькой фирмой, может быть воспроизведен и распространен на мировом рынке практически без затрат.
Однако еще более важным является отсутствие гибкости, сопровождающее гигантизм. Маленькое суденышко развернется быстрее, чем броненосец, а в условиях сегодняшнего ускорения это чрезвычайно существенно для выживания.
По меньшей мере один усвоенный из опыта Третьей волны урок заключается в том, что именно малый бизнес может, как убедительно доказала Силиконовая долина, изменить мир. Однако как всякий маленький новорожденный организм, малые компании, и особенно технически инновационные, нуждаются в дружественном окружении. Это означает возвращение к культуре, в которой неудача рассматривается не как конец карьеры, а как полезный опыт обучения – как это было в случае, хотя, возможно, апокрифическом, с Томасом Уотсоном, бывшим председателем Ай-би-эм.
На вопрос, собирается ли он уволить сотрудника, из-за которого компания потеряла несколько миллионов долларов, Уотсон, говорят, ответил: «Уволить? Ни в коем случае. Я же оплатил его обучение!»
Новички нуждаются в оборотном капитале, найти который в Японии нелегко. Культура дружественного окружения предполагает демократическое финансирование – то есть финансирование, которое поступает по многим различным конкурирующим каналам. В Японии, кроме семьи, главным источником финансирования малого бизнеса выступали банки. Однако подобные ссуды выдаются при условии значительного обеспечения. В отсутствие этого фактора, а также в силу других традиционных правил и культурных норм попытки Японии создать нечто вроде Силиконовой долины никогда не оказывались достаточно успешными. Когда седовласые джентльмены из престижной деловой организации «Кейданрен» наконец решились одобрить «Новый цифровой курс», из этого ничего не вышло.
Определенное оживление наметилось в индустрии телекоммуникаций благодаря широкому использованию сотовых телефонов и других современных технологий молодыми японцами. Но в какой мере распространится это на предпринимательство? В Соединенных Штатах в этой сфере занят один из каждых десяти работающих. В Японии это соотношение равно одному к ста.
Как отметили Генри С. Роуэн и А. Мария Тойода в докладе для Азиатско-Тихоокеанского исследовательского центра Стэнфордского университета, японские фирмы не испытывают недостатка в идеях. Япония была мировым лидером по росту числа патентов с 1992-го по 1999 год (США занимали второе место) и была среди первых в патентовании инноваций в информационных технологиях… Но наличие внушительного капитала, образованный персонал и технологическая база не привели к увеличению доли Японии на мировом рынке в поставках высокоценных новых продуктов.
Индустриальные общества ставят бюрократические препоны предприятиям. Одно время японское законодательство запрещало учреждение совместных производств университетов и компаний. Разрушение этих жестких границ является чрезвычайно важным для развития наукоемкой экономики. Силиконовая долина в Соединенных Штатах никогда не возникла бы, если бы не были перейдены границы между университетами и бизнесом, если бы Стэнфордский университет, Калифорнийский технологический институт, Массачусетский технологический институт не объединили бы свои усилия с венчурным капиталом, чтобы начать новое высокотехнологичное производство.
Согласно данным «Никкейуикли», в период с 1980-го по 2000 год в США с подачи университетов было создано 2624 новых предприятия: за тот же период в Японии их было создано всего 240.
Однако в 2004 году Япония наконец пробила «железный занавес», отделявший новаторов-ученых от бизнес-сообщества, приняв законодательные акты, поощряющие новые предприятия, рождающиеся в университетских стенах. Результатом этого, по прогнозам Токийского университета, будет возникновение 200 новых предприятий – в течение не двух десятков лет, а ежегодно.
Отложенные решенияЧтобы создать позитивную дружественную культуру для гибкой наукоемкой экономики, Японии придется также пересмотреть социальные традиции, которые препятствуют гибкости, в том числе способ принятия решений.
Много было написано о распространенном в Японии групповом принятии решений, особенно о том, что после достижения консенсуса идея быстро находит свою реализацию, поскольку все участники прониклись ею и понимают, что должно быть сделано.
Оборотной стороной этого метода является длительный срок, необходимый для принятия решения, и трудности необходимых его изменений в случае появления новой информации или изменившихся условий. Мы однажды наблюдали это на практике во время телевизионной съемки, когда в съемочную группу входили японцы, канадцы и американцы. Японская команда была высокопрофессиональной, и за время многомесячной съемки у нее установились теплые отношения с коллегами с Запада. Каждая сторона получила возможность поучиться у другой.
Вечером накануне съемок на очередном объекте японская команда засиживалась за полночь, обсуждая каждый аспект задачи – кто что в точности будет делать, когда и где. К утру японцы были полностью готовы.
В противоположность им американцы и канадцы предпочитали проводить это время в болтовне, потягивая пиво, и рано отправлялись спать.
Однако Уолли Лонгал, режиссер из Канады, вставал рано утром и шел осматривать площадку. Однажды он обнаружил место, которое, на его взгляд, было более удачным для съемок, чем то, которое выбрали раньше. Когда он предложил японской команде переместиться на другую площадку, то встретился со стеной упорного отказа – хотя никто из японцев не видел места, которое предлагал канадец.
Причина этого на первый взгляд слепого сопротивления была ясна. Японцы потратили много времени и сил, чтобы принять решение. Перемещение на другую площадку – что, по всей видимости, на самом деле было вполне оправданно – было для них неприемлемо. Однако в сегодняшней развивающейся быстрыми темпами экономике, в современном обществе способность оперативно менять планы, быстро принимать решения являются необходимым механизмом выживания.
Под воздействием интенсивных перемен можно ожидать, что вскоре мы увидим в Японии отказ от системы группового принятия решений и появление нового поколения, которому будет свойственен все увеличивающийся индивидуализм.
Хватит рождественских пироговЧтобы успешно развивать свою экономику в эпоху быстрых, зачастую противоречивых, сложных перемен, Япония должна ослабить свою жесткую структурную организацию, причем не только в отношении профессий и рабочих мест, но и на более глубинном уровне семейной жизни и отношений полов.
Старые представления о семье и браке – и их отношениях с экономикой – уходят в прошлое. Согласно Белой книге, выпущенной администрацией кабинета министров, в 1972 году 80 процентов японцев и японок были согласны в том, что работать должны только мужчины. Женам отводилась роль домохозяек. К 2002 году 42 процента мужчин и 51 процент женщин уже не соглашались с таким разделением труда.
Ныне молодые женщины позже вступают в брак, и незамужние не подвергаются осуждению. 27 процентов в возрастной группе 30–34 лет никогда не вступали в брак – то есть число таких людей удвоилось всего лишь за десять лет. Энергичные и целеустремленные незамужние японки отказываются от ярлыка «рождественского пирога» – уничижительного термина, которым их называли в недавние времена, приравнивая к остаткам недоеденного блюда, отправленным в мусорное ведро после праздника.
Те, кто вступает в брак, рожают меньше детей: сегодня рождаемость составляет 1,29 ребенка на супружескую пару, достигнув самого низкого уровня за 60 лет. Большой процент женщин работают: в 2003 году их стало на 13 процентов больше, чем в 1985-м. Однако до равноправия с мужчинами еще предстоит проделать долгий путь.
Так, например, при том, что карьерные возможности для женщин наиболее благоприятны в сфере информационных технологий и в компаниях, связанных с Интернетом, «Джапан таймс» сообщает, что в Японии на женщин приходится только 9,9 процента должностей в управленческом аппарате, в то время как в США – 45,9 процента и более 30 процентов в Великобритании, Франции, Германии и Швеции. Кроме того, заработная плата японок составляет только 46 процентов от зарплаты мужчин.
Тем временем правительство в стремлении повысить уровень рождаемости призвало бизнес предоставлять отпуск по уходу за ребенком для отцов, надеясь на то, что они помогут женам выхаживать новорожденных и их связи с детьми укрепятся. Однако очень немногие мужчины воспользовались этой возможностью, поэтому в городе Ота решили, что требуются более решительные и креативные (точнее, прокреативные – способствующие обзаведению потомством) меры.
В 2004 году там приняли постановление о ежегодном 40-дневном отпуске для всех работающих мужчин после рождения в семье ребенка, обязав их предоставлять письменный отчет о том, что они извлекают из этого опыта. Как заявил сотрудник городской управы, идея заключалась в том, чтобы «вовлечь мужчин в процесс воспитания детей» и разрушить представление о том, что это занятие является исключительно женским.
Опыт города Ота свидетельствует о том, что иной раз даже городская ратуша способна предпринять нечто разумное и прогрессивное. Возможно, на такое решение чиновников толкнуло отчаяние от низкой рождаемости. Вопрос в том, насколько велико это отчаяние?
Вовсе не обязательно всем женщинам превращаться в наемных работниц. Воспитание детей в домашних условиях, ведение домашнего хозяйства – основные протребительские функции, которые, как мы видели, создают экономическую стоимость и поддерживают монетарную экономику. Однако традиционное разделение труда, основанное на половой принадлежности, – это еще одна структурная преграда, стоящая на пути прогресса японской экономики.
В сегодняшней всемирной гонке по созданию основанной на знании монетарной экономики Япония как бывший лидер использует только половину интеллектуальных возможностей, которыми она располагает, а это не очень разумно.
Серебряная волнаСтруктурная жесткость устаревшей индустриальной эпохи не позволяет реализоваться огромному потенциалу не только женщин, но и пожилых японцев.
Япония – не единственная страна, стоящая перед угрозой возможного коллапса программы социального обеспечения, созданной в условиях индустриальной эпохи. Это в полной мере относится к странам Европы и Соединенным Штатам, но Япония подвергается наибольшему риску. Однако именно Япония может проложить дорогу в поисках наиболее адекватных решений, соответствующих передовой экономике.
В 1920-х годах Япония установила единый пенсионный возраст для всех категорий граждан – 55 лет. В те времена большинство людей были заняты в сфере физического труда, и продолжительность жизни среднего пенсионера после выхода на пенсию составлял менее десяти лет. В 2000 году планка пенсионного возраста была поднята до 65 лет.
При средней продолжительности жизни в 81,9 года Япония, по словам Джулиана Чаппла из университета Киото Сангио, «быстро становится страной с самым старым народонаселением». Типичные пожилые японцы – самые здоровые в мире, они отличаются более или менее добрым здравием вплоть до 75 лет (у американцев эта цифра достигает всего 69 лет).
В результате назревает масштабный кризис, который тяжким бременем ляжет на плечи молодых поколений и сделает Японию гораздо менее населенной и более бедной.
В целях решения этих грозных проблем было выдвинуто немало идей, которые, в свою очередь, порождают новые вопросы. Кто, к примеру, сказал, что решением проблемы стареющего общества является увеличение рождаемости? Кто сказал, что уменьшение числа народонаселения ведет к обеднению нации? Что на этот счет говорит пример Сингапура или Швейцарии? Кто может с уверенностью утверждать, сколько денег требуется для обеспечения приличной пенсии, скажем, в 2050 году?
Можно вполне обоснованно предположить, что в течение ближайших двадцати лет или около того будут найдены эффективные способы лечения по крайней мере части заболеваний вроде болезни Альцгеймера, диабета, остеопороза и ревматоидного артрита, которые особенно распространены среди людей преклонного возраста. Во всяком случае, найдется способ уменьшить распространение этих заболеваний. Внимание к статистике социального страхования, а не будущему здравоохранения отражает бюрократический подход, разделяющий интересы министерства финансов и министерства здравоохранения.
Кроме того, вполне вероятно, что увеличение расходов на содержание пожилых может сопровождаться уменьшением расходов на другие популяционные группы. Например, падение уровня рождаемости предполагает снижение количества начальных и средних школ, уменьшение затрат на педиатрическую помощь. И в Японии, и в других странах требуются более радикальные, более изощренные и целостные подходы крещению проблем. Японии придется изобрести множество новых способов, чтобы справиться с трудностями, вызванными так называемой «серебряной волной».
Как, к примеру, может повлиять на экономические проблемы, связанные со старением, аутсорсинг соответствующих услуг? Согласно данным, приведенным техасским профессором Дэвидом Уорнером, сегодня около 2000000 американцев, вышедших на пенсию, живут за пределами Соединенных Штатов. Они рассеяны по всему свету, причем 600000 поселились в Мексике, где дом с тремя спальнями неподалеку от Гвадалахары можно арендовать всего за 700 долларов в месяц.
1000000 британских пенсионеров тоже проживают за границей, причем, согласно докладу «Альянс&Лейчестер Интернэшнл», к 2002 году их станет 5000000. В том же докладе утверждаете я, что к 2012 году бедные страны будут соперничать между собой за пенсионеров из стран богатых.
Говорят, что японцы неохотно переселяются за рубеж, опасаясь одиночества и культурной изоляции. Но вот Акира Никей и его супруга в 2003 году переселились из Хоккайдо на севере Японии в малазийский Пенанг, где климат гораздо теплее. Они сообщают, что их новое жилье с тремя спальнями обходится в 500 долларов в месяц – вместо 1200 на Хоккайдо. К тому же, добавляет господин Никей, их прежняя квартира в Хоккайдо «не имела бассейна, теннисного корта, гимнастического зала и охранника».
Предприниматели в сфере недвижимости обсуждают строительство крупных городов для пенсионеров в странах с дешевой инфраструктурой, где бы японцы не чувствовали себя одинокими. Как может сказаться на экономике в целом тот факт, что значительная часть населения, поощряемого японским правительством, которое вызвалось финансировать в этих поселениях медицинское обслуживание на уровне принятых в Японии стандартов, переместится за рубеж? Пакет услуг может, кроме того, включать в себя определенные медицинские услуги для местного населения в сотрудничестве с министерством здравоохранения принимающей страны. Некоторую часть затрат могут взять на себя правительственные и вспомогательные фонды.