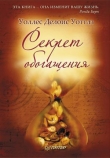Текст книги "Революционное богатство"
Автор книги: Элвин Тоффлер
Соавторы: Хейди Тоффлер
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 42 страниц)
Уход от массовых рынков обусловливается сегодня переменами в СМИ и рекламе – инструментах, без которых капиталистические рынки, какими мы их знаем, едва ли могут существовать.
Доминировавшие вчера СМИ уступают место менее массовым медиа, ориентированным на мелкие микрорынки. Этот процесс начался в 1961 году и получил быстрое распространение, как мы это и предсказывали. К 2004 году было уже невозможно не заметить сообщения в «Файнэншл таймс» об «аудитории из одного человека» и «конце массового рынка».
Компании, которые не сумели совершить переход к новым рыночным порядкам, жалуются на «фрагментацию». Те, кто смог приспособиться к новой среде, восхваляют своим клиентам все более широкий выбор, который они предлагают.
Скорость, с которой отдельные рынки и рынок вообще взлетают вверх или обрушиваются, беспрецедентна. Метаболизм капитализма столь стремителен, что возникает вопрос о том, что же будет, когда он вырвется за свои обычные пределы.
Возьмем, к примеру, скорость маркетизации и демаркетизации.
Рынок не может существовать без того, чем он может торговать. Таким образом, рынки по определению нуждаются в поступлении товаров для продажи. Товаром могут быть единицы тепловой энергии, часы работы, пара перчаток, DVD, автомобиль или билет на «Тоску». Сегодня число и разнообразие покупаемых товаров во всем мире измеряется астрономическими числами и увеличивается ежеминутно. Их совокупная стоимость не поддается исчислению.
Главной чертой конкурентного капитализма применительно к товарам является стремление выставить на продажу как можно больше вещей, услуг, опыта, данных, информации, знания, рабочих часов, которые могут быть проданы.
Развитие рыночного капитализма, гиперконкуренция, убыстрение инноваций и увеличение народонаселения – все это способствует развитию «товарности». Иначе говоря, на продажу выставляется все больше «чего-то».
Но и все большее число товаров выводится с рынка – например, устаревшие модели и запасные части к ним. Когда «Тойота» выбросила на рынок несколько дополнительных миллионов машин модели «камри», «Даймлер Крайслер» закрыл линию «плимута», и эти автомобили исчезли с рынка.
На каждом рынке в каждый данный момент одновременно идут два процесса – маркетизация и демаркетизация. Пока мало обращают внимания на то, с какой скоростью происходит то и другое. Темпы этих процессов отличаются в разных отраслях промышленности и разных странах, как будто они отличаются разной скоростью метаболизма.
Что произойдет, если эти скорости станут несовместимыми? И наоборот, что случится, если оба этих процесса синхронно замедлятся или ускорятся? Существует ли максимальный или оптимальный темп функционирования рынка? И как эти темпы в одной стране влияют на темпы в другой? Знает ли это кто-нибудь?
По секретуЗнание всегда было фактором создания богатства, но ни в одной прежней системе богатства оно не играло такой доминирующей роли. Сегодня мы наблюдаем бурный рост объема, разнообразия и сложности знания, необходимого для конструирования, производства и доставки ценностей на каждый рынок, и сам рынок данных, информации и знания увеличивается экспоненциально.
Потребители поглощают неисчислимое количество информации, неточной информации и дезинформации по любому предмету, от бизнеса и финансов до новостей и развлечений, здоровья, религии, секса и спорта. Компании поглощают непрекращающиеся потоки данных о своих клиентах, конкурентах и поставщиках. Ученые и исследователи собирают открытия и формулы со всего света.
Знание всегда трудно было определить, но наше понимание его включает в себя не только напечатанные тексты или компьютерные данные, но и сказанное шепотом по секрету, визуальные образы, биржевые котировки и прочие неосязаемости. Никто сегодня не знает точно размеров сектора знания, не говоря о том, что следует из него исключить или в него включить. Никогда еще прежде из рук в руки не переходило столько денег в обмен на знания, данные и информацию – или же на устаревшие знания.
Рыночный сектор знания не только увеличивается. Он меняется в соответствии с изменениями на глубинном уровне системы богатства.
Никогда еще сбор, организация и распространение знания от самого простейшего до самого абстрактного и утонченного не происходили с такой скоростью в обществе и на рынке. Этот прочесс идет даже быстрее, чем ускоряющиеся процессы в любом другом секторе экономики. Время сжалось до наносекунд. Распространение знания преодолевает любые границы, расширяя пространственный охват знания во всех его формах.
Еще более важными являются перемены в машем знании о знании и способах его организации, сопровождаемые разрушением прежде существовавших междисциплинарных границ.
В предшествующих системах богатства доступ к экономически ценному знанию был жестко ограничен. Сегодня оно безостановочно распространяется с сотен миллионов мониторов компьютеров в офисах, на кухнях и общежитиях от Манхэттена до Мумбаи.
В аграрных обществах на протяжении тысячелетий крестьянам нужно было знать, как обрабатывать землю, как предвидеть ухудшение погоды, как хранить урожай. Все это было знанием местного значения, передававшимся из уст в уста и практически не изменявшимся.
В индустриальных экономиках рабочие и управленцы нуждались в знании, поступающем из более многочисленных источников и касающемся гораздо большего числа вещей, но экономически ценное знание, скажем, о металлургии требовало относительно нечастого обновления.
Сегодня знание становится устаревшим почти в момент его производства. Диапазон предмета постоянно расширяется. Источники знания умножаются, и оно рождается во всех уголках планеты.
Все это взаимосвязанные, взаимообусловливающие изменения, которые трансформируют отношения не только между продуктами, но и между целыми секторами рынка, однако даже кумулятивный эффект всего этого меркнет перед лицом возникновения абсолютно нового, дотоле невозможного рынка.
Виртуальный двойникКаждый традиционный сектор рынка – будь то земля, труд, капитал, вещи, услуги, опыт или знание – имеет сегодня своего виртуального двойника. В результате огромный глобальный кибермаркет добавляет второй слой каждому традиционному рынку. Ничего подобного история не знала.
На рубеже последнего столетия разочарование в торговле через Интернет на какое-то время сделало непопулярным термин «е-коммерция». Заголовки газет кричали: «Бум закончился», «Безумию положен конец», «Время Интернета истекло».
Но подобно тому, как ребенок в Айдахо ожил через час после того, как его объявили умершим, скептики слишком рано похоронили е-коммерцию. В 2003 году потребители во всем мире приобрели через е-рынки товаров на сумму около 250000000000 – товаров, существование которых еще двадцать лет назад невозможно было себе представить, то есть через Сеть было потрачено примерно по 50 долларов в год на каждого жителя Земли.
Однако даже эта цифра не отражает всей реальной картины, если онлайновая розничная торговля в США в 2003 году составила сумму в 55000000000 долларов, причем сюда не вошли такие затраты, как оплата финансовых услуг, путешествий, развлечений и услуг агентств, устраивающих свидания.
Кроме того, эти цифры не отражают реальный объем, мощность и потенциал онлайновых рынков или прямых сделок, заключенных через Интернет.
Тринадцать авиалиний – от «Ол Ниппон» до КЛМ и «Люфтганзы», «Нью Зиланд», «Норсвест» создали аэробиржу, виртуальный эквивалент средневековой ярмарки, чтобы рекламировать свой товар и заключать сделки. Сегодня 33 члена этой «ярмарки» осуществляют свою деятельность в 30 странах. Аналогичные электронные биржи существуют во многих отраслях промышленности, включая автомобильную, химическую, оборонную, здравоохранение, ресторанный бизнес, все виды ремонта и производство запчастей.
В 2003 году товарооборот е-коммерции составил 1,4 триллиона. Это уже не 50 долларов на человека – скорее 230! И эта цифра будет расти.
Глобальный сдвиг к наукоемкой системе богатства нельзя измерять только в терминах биржевых цен и распространения технологий. Это гораздо более фундаментальное явление, и оно представляет собой угрозу тому капитализму, который был известен до сих пор.
Как Третья волна, наукоемкая система богатства распространяется в Азии и других частях света, где тоже происходят революционные перемены в основе собственности, формировании капитала, рынках и – как мы увидим дальше – в самих деньгах.
Глава 40
УПРАВЛЕНИЕ ЗАВТРАШНИМИ ДЕНЬГАМИ
«Экономика будущего будет совсем не похожей на нашу. В XXIV веке денег не будет».
Так говорил капитан Жан-Люк Пикар из научно-фантастического фильма «Стартрек: первый контакт». К тому времени, к которому отнесены события фильма, возможно, не будет и самого капитализма, причем его уход, вероятно, состоится задолго до 2300 года.
Мы вступаем в странный новый мир революционного богатства, а защитники и противники капитализма продолжают выдвигать друг против друга обвинения прошлых веков. Если перемен в природе собственности, капитала и рынков недостаточно, чтобы освободить их умы от наследия прошлого, то, может быть, это сделает взгляд, брошенный на будущее денег.
Подобно другим ключевым элементам капитализма, деньги переживают самую стремительную и глубокую революцию за многие века, революцию, которая создаст совершенно новые формы, новые способы выплат и платежей и деловые возможности обходиться вообще без денег.
Скрытый налогИзобретение денег было одним из величайших событий в истории человечества: оно составляет основу всех капиталистических экономик.
Несмотря на то что использование денег не всегда бывало удачным, они открыли путь грандиозному прогрессу благосостояния, но пользование деньгами, или, точнее, денежная система, дорого обходится обществу – и каждому из нас.
Это скрытое обременение, как правило, незаметно, ибо обычно вложено в цену, которую мы платим за товары, услуги и прочие рыночные ценности. Пойдите в кинотеатр или на стадион: часть платы за билет – это плата человеку, который берет с вас деньги и выдает билет. То же самое можно сказать, когда вы имеете дело с 3500000 кассирами, сидящими за кассовыми аппаратами расчетных центров супермаркетов, универмагов и железнодорожных станций США, не считая таких же кассиров за пределами Америки.
В филиалах империй фаст-фуда, таких как «Макдоналдс», «Бургер Кинг» и других, кто-то принимает ваш заказ и ваши деньги. Правда, прием заказа и передача его в кухню технически отличается от расчета у кассы. Только часть зарплаты официанта начисляется за сбор денег. Но получение денег составляет часть обязанностей и многих других работников – миллионов и миллионов барменов, парикмахеров и продавцов. Все эти затраты тоже перекладываются на потребителя.
Это, однако, только наиболее видимая часть расходов по обслуживанию мировой денежной системы. Кто-то должен отслеживать все совершаемые сделки. А это тоже стоит денег. Добавьте сюда по крайней мере часть из зарплаты, выплачиваемой бухгалтерам и счетоводам, которых в мире насчитывается 2500000 человек. Кто-то должен печатать, хранить и перевозить наличность, защищать ее от воров и фальшивомонетчиков, проверять документацию и так далее. Все это тоже стоит денег.
Возложенные на потребителя, эти затраты представляют собой скрытый налог, который мы платим за удобство пользования деньгами.
Здесь возникает целый ряд важных вопросов. Что, если мы сможем каким-то образом снизить этот налог или даже совсем от него избавиться? Возможно ли это? Да и вообще, нужны ли там деньги в наукоемкой системе богатства?
Блик на чипеС тех пор как в XVIII веке брокеры стали собираться в кофейне Джонатана, положив начало Лондонской фондовой бирже, денежная система в каждой стране Запада обзавелась индустрией финансовых услуг, обслуживающей заемщиков и вкладчиков. Эта индустрия базировалась на самой передовой для соответствующего периода системе хранения данных и коммуникации. Однако даже в конце 1950-х годов эта система нуждалась в картотеках, Почтовых услугах, телефоне с наборным диском и телетайпе.
Подъем наукоемкой экономики сопровождался не только быстрым распространением постоянно меняющихся данных, информации и знания, но и стремительным ростом среднего класса, развитием пенсионных фондов и страхового обеспечения, увеличением числа потребителей финансовых услуг и потребностью в совершенно новой финансовой инфраструктуре.
К 2002 году финансовые службы имели персонал, составлявший 5,5 процента всей рабочей силы США. Иначе говоря, один человек из каждых 20 американцев был занят в банковском, страховом, пенсионном, ипотечном деле, в инвестиционных фондах и т. д.
Все эти служащие управляют денежным потоком через денежную систему, обеспечивая ликвидность, накопление и размещение инвестиций, предоставляя и обслуживая кредиты, поддерживая вторичные рынки ценных бумаг, предупреждая и снижая риски.
В Великобритании, где в лондонском Сити находятся самые крупные торговцы евробондами, деривативами и страховыми обязательствами, более 1000000 человек занимаются финансами. Концентрация финансовых услуг наблюдается также в Цюрихе, Франкфурте (который иногда называют Банкфуртом), Токио, Гонконге, Сингапуре. Новые региональные финансовые центры возникают от Шанхая до Дубая. Все эти и Другие учреждения связываются в единую сеть мощными компьютерами, концентрирующими и распределяющими деньги, вклады и кредиты – не говоря уже о спекулятивных сделках.
Только в 2001 году финансовые компании США, где финансовая сеть является наиболее густой и самой передовой, потратили на IT 195 миллиардов долларов – больше, чем какая-либо другая отрасль промышленности, и больше, чем в тот год составлял совокупный валовой продукт таких высокоразвитых стран, как Сингапур или Финляндия. Тем не менее спрос на еще более быструю и непосредственно доступную информацию и знание постоянно растет.
Последствия сдвига от финансовой инфраструктуры индустриального века к почти мгновенной, почти глобальной цифровой форме пока еще плохо осмыслены как пользователями, так и клиентами, и менее всего политиками и народонаселением.
Сигнал к закрытиюТолько очень незначительная доля сумм, ежедневно обращающихся на мировых фондовых биржах, направляется в компании соответственно их нуждам и долгосрочным проектам. Происходит вот что: компьютеры одновременно сканируют тысячи фирм, чтобы выявить малейшие колебания индексов, и осуществляют инвестирование не на месяцы или годы, а в минуты и даже секунды. В результате мы имеем дело не с инвестициями, а с математически просчитанным сверхскоростным электронным покером.
Не секрет, что в числе этих рынков выдвинулся один, выросший так быстро и агрессивно, что «Файнэншл таймс» описывает его как «неузнаваемо изменившийся за последние десять лет». Речь идет о глобальном валютном рынке, разбухшем до такой степени, что ежедневно там продается и покупается 1,2 триллиона долларов – это больше чем в 30 раз превышает весь объем валют на ежедневных торгах Ньюйоркской фондовой биржи. На этом рынке, отмечает «Файнэншл таймс», нередко менее чем за секунду заключаются многомиллиардные сделки.
Однако практически не уделяется внимания еще одному вызывающему серьезную тревогу моменту: мы вновь наблюдаем перемены на уровне глубинной основы времени и еще один случай десинхронизации.
Теоретически стоимость национальной валюты в большой мере отражает мощь данной экономики. Однако десинхронизация между высокоскоростным оборотом валюты и медленным темпом функционирования «реальной» экономики увеличилась настолько, что, по крайней мере в некоторых странах, эта ситуация изменилась на противоположную.
Вот почему, как уже отмечалось выше, не слабые экономики обрушили азиатские финансовые рынки в 1997–1998 годах, а слабые валютные рынки обрушивали одну экономику за другой.
Аналогичным образом моментальные валютные рынки стирают в пыль не только реальные экономики, но и финансовые регуляторы. Результатом отсутствия синхронности является система, многими рассматриваемая как угроза не только отдельным странам, но и глобальной экономике в целом. Чрезвычайно медлительные местные власти, опирающиеся на различные и зачастую противоречащие друг другу правила, не способны регулировать сверхбыстрые глобальные сети.
Экономики и экономисты все еще не приспособились к огромным суммам «денег», которые существуют только как мелькающие единицы и нули, оборачивающиеся в цифровых торговых сетях с минимальным участием людей. Эффект этого носит абстрактный, кажущийся безличным характер. Тем не менее этот феномен как в капле воды отражает революционный сдвиг от старой денежной инфраструктуры к нарождающейся новой.
Недавно знаменитый фотограф Роберт Вайнгартен решил сделать серию фотографий мировых бирж. Предположив, что в один прекрасный день их заменят электронные рынки, он хотел запечатлеть их сумерки в серии под названием «Сигнал к закрытию». Он предполагал заснять старающихся перекричать друг друга безумствующих трейдеров, лихорадочно спешащих сообщить по телефону о совершении сделок, молниеносно меняющиеся цифры на световых табло. Он также запечатлел опустевшие после закрытия помещения, заброшенные и ненужные.
Поскольку Вайнгартен калифорниец, первым пунктом в его списке была Тихоокеанская фондовая биржа в Сан-Франциско, но когда он явился туда, то обнаружил, что биржевой зал находится на реконструкции. Торги там уже осуществлялись электронной системой аукционов под названием «Archipelago», двадцатикратно увеличившей их объемы. Трейдеров и брокеров там уже не было.
Здание биржи уже перестраивалось под фитнес-центр.
Дикие деньгиНа поверхностный взгляд сегодняшняя денежная революция, которая еще только начинается, кажется хаотичной. Однако, вглядевшись пристальней, мы увидим в ней скрытый мотив. Это тот же самый паттерн демассификации и диверсификации, который мы наблюдали в производстве, СМИ, структуре семьи, то есть во всех проявлениях нарождающейся новой цивилизации.
Происходящие (и те, что грядут) перемены столь глубоки, что бросают вызов самому понятию денег.
На вопрос «Что такое деньги?» центральные банки дают свой ответ. Определение Федеральной резервной системы США связывает реальную валюту с деньгами на наших текущих счетах и чеках, называя это деньгами «М1». Если добавить к «М1» деньги на наших долгосрочных счетах и деньги паевых фондов, получим «М2». Добавим сюда корзину неизвестных публике счетов – это будет «М3».
В повседневной жизни эти различия не существуют. Основной денежной единицей в Америке является «всемогущий» доллар. Мало кто из тех, кто им ежедневно пользуется, знает, что до эпохи индустриализации поддерживаемый правительством доллар был только одним из 8000 «диких» валют, выпускавшихся штатами, банками, отдельными компаниями, торговцами и владельцами шахт.
Стандартизация денежной системы, проведенная правительством США в 1863 году параллельно со стандартизацией продуктов, цен и потребительских товаров, являлась частью процесса индустриализации. То же самое происходило и в других странах.
Японская иена стала единой национальной валютой только в 1871 году, когда революция Мейдзи направила страну на путь индустриальной модернизации. Точно так же и немецкая марка стала национальной валютой только в 1873 году, когда Германия пыталась опередить Великобританию и занять место лидера промышленных держав.
Китай долгое время страдал от монетарной неразберихи – военачальники, провинции, иностранные анклавы выпускали свою валюту вплоть до декабря 1948 года, когда пришедшие к власти коммунисты ввели единый юань ренминби. И, наконец, объединенная Европа совсем недавно ввела стандартный евро.
Эта запоздалая стандартизация, как и многое другое в Евросоюзе, началась как раз тогда, когда наукоемкая система богатства стала двигать передовую экономику в противоположном направлении: единым национальным валютам брошен вызов со стороны головокружительного разнообразия альтернатив.
ПараденьгиВ 1958 году – через два года после того, как «белых воротничков» и работников сферы обслуживания впервые численно стало больше в Америке, чем «синих воротничков», – появился прототип первой национальной кредитной карты. Это было начало грандиозного прыжка Третьей волны от привычных денег к тому, что сегодня иногда представляется «параденьгами» – множеством замен, обладающих всеми свойствами официальных валют, но ими не являющихся.
Деньги – это всеобщий эквивалент; с их помощью можно в принципе купить все. Они легко передаются от владельца к владельцу. Эти универсальные качества делают деньги удобным средством обмена.
Однако происходит странная вещь. Сегодня, когда американцы пользуются 840000000 кредитных карт, они расплачиваются с пластиковых карт триллионом долларов в год – больше, чем наличными. А мы, похоже, изобретаем дополнительные замены денег.
Мы, к примеру, пользуемся так называемыми бесплатными авиабилетами, если налетаем достаточное количество миль. Первоначально заработанные таким образом очки обеспечивали только бесплатное место на другой рейс. Их нельзя было обналичить или передать другому клиенту, то есть они не были похожими на деньги.
Затем авиалинии разрешили передавать заработанные вами очки членам семьи, друзьям – кому пожелаете. Далее эти «авиационные» очки стали засчитываться отелями и агентствами аренды автомобилей, и этот круг постоянно расширялся, постепенно включая в себя все виды товаров – членство в фитнес-клубах, билеты на хоккей, барбекю, телевизоры, цветы и садовые шланги. Таким образом, возможность передавать и обналичивать очки, заработанные часто путешествующим самолетом клиентом, сделала их больше похожими на деньги.
Такого рода очки в полной мере становятся реальными деньгами, когда их уже можно сбыть любому «торговцу километрами», который работает на «сером рынке» вопреки протестам авиалиний.
Правда, имея в виду финансовую ненадежность авиакомпаний, можно сомневаться в обмениваемости очков на услуги и товары, но эти неосязаемые очки путешественника вскоре могут стоить дороже, чем валюта, выпускаемая каким-нибудь слабым правительством, все еще имеющим в своем распоряжении авиатранспорт.
Конечно, подобные премиальные программы с большей или меньшей степенью ликвидности учреждаются не только авиакомпаниями. Их предлагает кто угодно – от сети отелей «Интерконтинентал» и «Хилтон» до универмагов «Ниман-Маркус» и «Теско», от аптечной сети CVS и ресторанов «Чарт-хаус» до мотоциклетной компании «Кавасаки».
В бурлящем, постоянно меняющемся мире рынка они тоже выполняют некоторые функции старых добрых денег. Все это только часть более масштабных перемен – прихода «гибкой ликвидности» в форме программируемых денег. Однако вашему 13-летнему ребенку это может не понравиться.