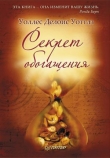Текст книги "Революционное богатство"
Автор книги: Элвин Тоффлер
Соавторы: Хейди Тоффлер
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 42 страниц)
Что могло бы быть – и что могло бы еще дать надежду разочаровавшейся мусульманской молодежи, – содержится в высказывании экономиста Римы Халаф Хунайди, бывшей заместительницы премьер-министра Иордании, а ныне директора регионального бюро Программы развития ООН для арабских стран:
«Знание во все большей степени определяет грань между бедностью и богатством, между возможностями и бессилием и между самореализацией и фрустрацией. Страна, которая в состоянии привлечь и распространить знание, способна быстро поднять свой уровень развития, обеспечить рост и процветание своих граждан и занять достойное место на мировой арене XXI века».
Далее следует 12-страничное краткое изложение объемистого доклада 2003 года о «построении информационного общества» в арабском мире, подготовленного более чем 30 мусульманскими учеными и политическими аналитиками при поддержке Арабского фонда экономического и социального развития и Программы развития ООН. В нем выражается надежда на возрождение арабского мира на основе предложенных госпожой Хунайди пяти основ:
• свобода мнений, взглядов и собраний;
• качественное образование, доступное всем;
• внедрение в арабское общество науки – решительный курс на информационную революцию;
• скорейший переход к производству, основанному на знаниях и информационных технологиях.
В кратком отчете указывается, что значительная часть экономической деятельности арабского мира в основном сосредоточена на производстве предметов первой необходимости, как, например, сельскохозяйственной продукции; земледелие по большей части сохраняет традиционный характер, в то время как доля основных товаров, производимых по передовым и высоким технологиям, неуклонно снижается.
«Кроме того, на 1000 человек, проживающих в регионе, приходится всего 18 компьютеров по сравнению с мировым показателем в 78,3 %» и, что еще хуже, только 1,6 % населения имеют доступ в Интернет.
Не менее красноречива и статистика по научным разработкам. Число научно-технических работников в арабском мире на один миллион человек составляет приблизительно одну треть мирового уровня.
Составляя 5 % мирового населения, арабские страны выпускают лишь 1,1 % книг. «На 1000 арабских граждан приходится 53 газеты по сравнению с 285 в развитых странах».
Как подчеркивают авторы доклада, главным тормозом является то, что ислам (по крайней мере в арабском мире) стремится отгородиться от идей, знаний и передовой мысли остального мира.
Советник авторов доклада профессор общественного права Каирского университета Ахмад Камаль Абульмадж подчеркивает, что принадлежность к исламу не означает «изоляцию от остального человечества, погружение в себя в замкнутом пространстве без дверей».
Прослеживая историю культурного взаимодействия арабов с остальным миром, авторы заявляют: «Открытость, взаимный обмен, ассимиляция, абсорбция, пересмотр взглядов, критика и анализ несомненно стимулируют творческое, основанное на знаниях развитие арабского общества».
Исламисты же проецируют на будущее вчерашнее видение мира. В терминах таких фундаментальных основ, как время, пространство и знание, исламские террористы не несут внешнему миру ничего, кроме истребления, а своему – несчастья.
Мы уделили здесь много внимания исламу и Ближнему Востоку, а также тем возможностям, которые они упускают, в силу их важности для современности, однако Африка и Латинская Америка тоже должны смотреть в будущее. В них кипят страсти по поводу землевладения, бедности в городах, агробизнеса, коренных племен, этнических проблем и окружающей среды, усугубляемые расизмом и наркотерроризмом. США были настолько поглощены Ближним Востоком, что уделяли слишком мало внимания вулканическим силам этих регионов.
Хрупкость властиНедалекое будущее чревато неизбежным кризисом на всех игровых досках, задействованных в этой нелинейной, все более сложной, запутанной, ускоряющейся метаигре. Это означает, что даже самая разумная внутренняя стратегия США или Китая, как и любого другого государства, может стать неэффективной или ничего не значащей, если не будут приниматься во внимание новые игры, которые ведут НПО, религии и прочие участники этой метаигры.
Многие неудачи США в Ираке могут быть отнесены на счет неспособности Вашингтона предвидеть воздействие массовых антивоенных выступлений по всему миру, организованных НПО, и недооценки религиозных и племенных конфликтов после свержения Саддама Хусейна.
Как и все страны, США будут по-прежнему исходить из своих экономических интересов (или интересов влиятельных элит). Спрашивается: как долго Америка будет (и сможет ли) оставаться господствующей экономической державой по мере развертывания этой метаигры?
Всякое господство временно. Жарко дышит в затылок Китай. Вашингтон разделен на два лагеря: одни смирились с мыслью, что через несколько десятилетий Китай выдвинется на первое место по экономическим показателям; вторые считают, что Америка должна любой ценой сохранить свое ведущее положение.
Однако такое разделение упрощает проблему. Гораздо более важен вопрос: в какой мере хрупкое богатство Америки зависит от экономического владычества? Как показал опыт плана Маршалла, возможна ситуация, когда доля США в мировом ВВП снижается, а благосостояние их граждан растет. Так ли это сегодня? И если да, то как этого достичь?
Если США, как их в том обвиняют, – империалистическая держава, ненасытно обогащающаяся за счет других, то в какой степени их рост и процветание являются результатом «имперской политики»? Кто может сказать? Настоящие империалисты в прошлом теряли деньги. С другой стороны, какая часть богатства Америки есть результат труда, творчества и быстро накапливающихся знаний производителей и протребителей?
Если протребительство и производительность, как это неизбежно случится, начнут в полной мере учитываться, то как это скажется на экономических показателях США, да и других стран? Какие для этого потребуются новые формы денежного обмена, новые системы платежей и новые финансовые институты?
Станут ли США богаче, продолжая внедрять передовые технологии, методы управления и средства массовой информации в другие страны, или начнется движение в обратном направлении? Сможет ли аутсорсинг из США в Индию и другие страны высокотехнологичных производств позволить им обогнать Америку? Смогут ли США, даже если пожелают, это предотвратить? Происходящий ныне процесс хищения интеллектуальной собственности Китаем и другими странами говорит об обратном. Революционное богатство более не находится в исключительном владении США, оно стало явлением глобального масштаба.
Каким образом современная ситуация – деление мира на три системы богатства – изменится, если Азия займет более ведущее положение, чем Америка? И станут ли беднейшие регионы действительно жить лучше?
Мировое господство не сводится только к богатству. Это также и безопасность, ценности, права человека, культурная и духовная независимость и влияние. Как будет выглядеть мир и его экономика, если лидером станет Китай, или Европа во главе с Францией или Германией, или воспрявшие Индия, Россия или какая-то другая страна?
Многие политические обозреватели выступают сегодня за новый мировой «баланс силы». Но будет ли так называемый многополярный мир, разделенный на соперничающие союзы и региональные блоки, экономически более эффективным и более миролюбивым, чем однополярный, где доминирует одна страна или регион? Исторические примеры заставляют ученых расходиться во мнениях в этом вопросе. Но даже если бы все было не так, возможно ли использование опыта прошлого применительно к нелинейной метаигре будущего?
Баланс предполагает равновесие, но о каком равновесии в мировой экономике может идти речь? Из теории сложности мы знаем, что равновесие не более естественно, чем дисбаланс и хаос. Разве годится для XXI века дипломатия баланса сил, которая годилась для князя Меттерниха в XIX веке?
Во времена Меттерниха это понятие относилось к государствам. Политическое же равновесие будущего (если таковое вообще может быть достигнуто на длительный промежуток времени) предполагает уравновешивание влияния не наций и государств, а корпораций, НПО и религий.
Видный австрийский дипломат жил на заре появления новых технологий и промышленной революции в Европе. Темпы модернизации были просто черепашьими по сравнению с сегодняшними. У людей и структур было время приспособиться. Для революционного богатства все иначе.
США не в состоянии управлять мощными изменениями в экономической, политической, культурной и религиозной жизни в современном мире. В лучшем случае, трансформируя свою собственную экономику и внутренние структуры, они могут попытаться поставить барьер на пути внешних угроз и смягчить опасности, угрожающие нам всем.
Нанотехнология сегодняТеория заговоров живописует, как коварные американские капиталисты вынашивают планы мирового господства и контроля над экономикой планеты. В действительности же у США нет ничего даже отдаленного напоминающего логичную долговременную стратегию по отношению к миру, впервые разделенному на три различные системы богатства. Такой стратегии нет ни у кого.
Сосредоточение внимания на сегодняшнем моменте является отражением культуры нетерпеливых американцев – детей поколения «здесь и сейчас», как они были названы в рекламе пепси. Когда компания «Пепси-Кола» впервые ввела этот термин, «сейчас» длилось дольше, чем в настоящее время. Для современного, выполняющего на бегу множество разных дел поколения само понятие «сейчас» обрело нанохарактер.
И США, и Голливуд, и медиа прославляют героев, которые стреляют «с бедра», а не тех, которые все продумывают и планируют. Сцены преследования выглядят на экране куда более захватывающе, чем думающие люди.
Когда американские политики говорят (да и то редко) о проблемах далекого будущего, как правило, обсуждаются отдельные учреждения или узкоспециальные программы, а не системный подход. Если они заглядывают в то время, когда срок их полномочий истечет, то оппозиция называет их непрактичными, далекими от реальности мечтателями. Как выразился один высокопоставленный вашингтонский чиновник (которого как раз волнуют большие проблемы отдаленного будущего), «Конгресс полагает, что бюджет на один-два года – это и есть стратегия».
Один советник Белого дома по вопросам национальной безопасности даже сказал, что у него нет времени на стратегию и что стратегия – это всего лишь ярлык, который приклеивается на уже совершенные действия.
Установка на «здесь и сейчас» характерна и для бизнеса. Гуру менеджмента заверяют воротил бизнеса, что при таком быстром развитии событий компаниям можно не беспокоиться о стратегии. По их мнению, нужна не стратегия, а быстрота реакции; если компании и страны проявляют достаточную приспособляемость, гибкость и быстроту, им не нужна никакая стратегия.
Быстрота, конечно, жизненно необходима, но быстрота без стратегии служит лишь ответом на внешние воздействия. Она подчиняет человека, компанию или страну чьей-то чужой стратегии – либо отдает на волю случая.
Стратегии, как и люди, которые их разрабатывают, всегда небезупречны: они должны быть гибкими и оперативно переформулироваться. Успешные стратегии должны учитывать не только темпы сегодняшних перемен, но и степень их завтрашнего ускорения.
Впрочем, легче сказать, чем сделать. Подменяя стратегию быстротой, мы уподобляемся человеку, который со всех ног мчится в ближайший аэропорт и позволяет толкающейся, неуправляемой толпе нести его к какому угодно выходу на посадку. Такой подход годится, если все равно, куда ехать – в Техас, Токио или Тегеран, а багаж вообще окажется в Тимбукту.
Но нам-то не все равно и не должно быть все равно, потому что будущее за теми, кому не все равно, будь то в Америке или где-то еще.
Глава 50
ЭПИЛОГ: ПРОЛОГ УЖЕ В ПРОШЛОМ
Пессимизм – это простейший способ притвориться мудрым. Быть пессимистом есть от чего, но вечный пессимизм подменяет собой размышления.
«Ни один пессимист не раскрыл тайны звезд, не плавал в неведомые страны и не дал нового утешения человеческой душе», – писала Хелен Келлер, замечательная слепоглухая писательница, которая побывала в 39 странах, написала 11 книг и два сценария к оскароносным фильмам, боролась за права слепых и умерла в 87 лет.
С еще большей прямотой высказался Дуайт Эйзенхауэр, который командовал высадкой союзников в Нормандии во время Второй мировой войны и позже стал 34-м президентом США: «Пессимизм не помог выиграть ни одной битвы».
Такое впечатление, что с течением времени список потенциальных опасностей XXI века становится бесконечным. Война между Китаем и США; глобальная экономическая катастрофа наподобие депрессии 1930-х годов, когда миллионы окажутся выброшены на улицу и будет перечеркнут достигнутый за десятилетия экономический прогресс; террористические атаки с применением ядерного оружия, вируса сибирской язвы, хлорина; кибератаки на важнейшие коммерческие и правительственные компьютерные системы; катастрофическая нехватка воды от Мехико и Ирана до Южной Африки; вооруженные конфликты между соперничающими НПО; новые болезни на наноуровне; распространение методов контроля сознания; конец частной жизни; растущий религиозный фанатизм и насилие; клонирование человека или всё вместе в различных комбинациях – и это не считая землетрясений, цунами, бесконтрольной вырубки лесов и глобального потепления.
Все это вызывает повод для беспокойства, однако многие пессимисты просто отдают дань моде, как это было в XIX веке, когда наступление промышленной революции так напугало ее противников.
Страх и гнев в отношении модернизации породил романтический пессимизм, ярко выраженный в поэзии лорда Байрона и Генриха Гейне, в музыке Рихарда Вагнера и философии Шопенгауэра. Следует упомянуть и философа-анархиста Макса Штирнера, который перевел на немецкий язык Адама Смита и, как никто другой, разбирался в вопросах пессимизма. Мать Штирнера сошла с ума. Первая жена умерла, родив мертвого ребенка. Он вложил капитал своей второй жены в какое-то дело и разорился; при этом он потерял и жену.
Ностальгическая командаНаблюдая за наступлением новой цивилизации на старую, хочется их сравнить. Те, кто благоденствовал в прошлом и получал дивиденды, составляют ностальгическую команду, превознося и романтизируя вчерашний день и противопоставляя его зарождающемуся, неоформившемуся завтра.
Миллионы людей на Западе болезненно переживают расставание с привычным укладом жизни и внезапные перемены и распад индустриальной экономики.
Этих людей (особенно молодежь), которые обеспокоены потерей работы и конкуренцией со стороны азиатов, бомбардируют катастрофическими картинами будущего в кинофильмах, телесериалах, компьютерных играх и онлайновых сообщениях. Масс-медиа создают «героев-звезд» – уличную шпану, безбашенных музыкантов и обкуренных спортсменов, преподнося их в качестве примера для подражания. Клерикалы твердят, что конец близок. Некогда прогрессивное экологическое движение распространяет апокалиптические идеи. Его призывы сводятся к одному: «Просто скажи нет!»
Однако впереди нас ожидают большие сюрпризы, не укладывающиеся в рамки «хорошо или плохо». Самым большим сюрпризом может оказаться то, что описанные на этих страницах система революционного богатства и цивилизация, несмотря ни на что, откроют огромные возможности для миллиардов людей прожить лучшие, более здоровые, долгие – и полезные для общества жизни.
Как уже подчеркивалось, зарождающаяся система богатства не может быть понята в рамках традиционной экономики. Чтобы увидеть хоть проблеск будущего, необходимо рассмотреть те глубинные основы, на которых основывался процесс создания богатства с древнейших времен и до наших дней – и будет основываться завтра.
Имеются в виду типы работ, разделение труда, система обмена, энергоснабжение, структура семьи и типичное окружение. Однако глубинные основы (наименее изученные, но в наибольшей степени относящиеся к нашему будущему) – это время, пространство и знание. Каждое понятие заслуживает целой библиотеки.
Несомненно, что повседневная фрагментарная экономика, о которой так много говорят в Эконоленде, представляет собой лишь крохотную часть экономической реальности. Учитывая ограниченность объема книги, наша попытка расширить общепринятый взгляд на создание богатства позволяет нарисовать только далеко не полную картину.
Мы показали, почему сегодня миллионам людей отчаянно не хватает времени как на работе, так и дома; мы перенасыщаем наш дневной график, а компании воруют наше время, навязывая неоплачиваемую «третью» работу. Мы видели, как меняются темпы появления товаров в продаже и их исчезновения и как, синхронизируя один вид деятельности, мы неизбежно десинхронизируем другие, цена чего нам неизвестна. Мы революционизируем временной компонент богатства.
Параллельно происходят существенные перемены в пространственном распределении богатства и производящих его предприятий и технологий. Мы видели, почему, даже если бы все антиглобалисты собрали свои рюкзаки и отправились по домам, можно ожидать замедления экономической интеграции при одновременном ускоренном развитии других параметров глобальной интеграции. Это еще один пример десинхронизации, когда временные и пространственные изменения налагаются друг на друга.
Только когда все эти перемены рассматриваются на фоне революции в системе знаний, мы получаем возможность оценить все преобразующее значение происходящих сегодня событий. Эти процессы не влияют на одну только экономику, предприниматели не могут просто внедрить «систему основанного на знании управления» и двигаться дальше.
Сегодняшние перемены влияют на процесс принятия решений, основаны ли они на верных или неверных посылках. Мы живем в эпоху, когда наши проверенные временем критерии определения истинного и ложного сами оказываются под сомнением.
Серьезным нападкам подвергается та отрасль знаний, которая в наибольшей мере необходима для экономического прогресса, – наука.
Наука находится в большей опасности, чем большинство из нас себе представляет. Этот кризис выходит за рамки сиюминутных проблем, как, например, уменьшение финансирования фундаментальных исследований. Наука развивается благодаря культуре, которую она обслуживает, а эта культура становится все более враждебной, о чем свидетельствуют атаки креационистов на теорию эволюции (атаки, как считалось, закончившиеся после суда над Скопсом в 1925 г.) и движение в пользу так называемой теории разумного замысла.
Наука ныне страдает от пыльной бури субъективизма, подкрепляемого уходящим в прошлое постмодернизмом и пышно расцветающим спиритуализмом современного движения Нью-эйдж. Престиж науки подрывается также и коррупцией в рядах ученых, связанных с фармацевтическими и другими компаниями; изображениями в средствах массовой информации ученых как исчадий зла; страхом перед прорывами в биологии, которые угрожают пересмотром самого понятия «человечество».
Сама научная методология подвергается нападкам со стороны «менеджеров правды», которые при принятии решений отталкиваются от иных критериев – от мистического озарения до политического или религиозного авторитета. Борьба вокруг вопроса об истине является частью процесса изменения нашего отношения к такой глубинной основе, как знание.
Путь протребителя?На фоне революционных перемен в нашем использовании времени, пространства и знания разворачивается еще один неожиданный исторический феномен – возрождение протребительства.
Известно, что в древние времена, задолго до появления денег, наши предки сами обеспечивали себя одеждой, едой и жилищем. Они производили то, в чем нуждались как потребители. Известно также, что на протяжении тысячелетий люди стали протреблять все меньше и меньше и все больше зависеть от денег и рынка. Те, кто задумывался над этим, считали, что протребительство будет и дальше снижаться, как и число людей, создающих неоплачиваемые внерыночные ценности.
Но происходит прямо противоположное. Уменьшаясь в свойственных Первой волне формах, протребление быстро растет в новых формах Третьей волны. Протребители создают больше экономических ценностей и в большей мере подкармливают бесплатными обедами монетарную экономику. Протребительство увеличивает производительность в денежном секторе и, как видно на примере Сети и «Линукса», бросает вызов самым могущественным правительствам и корпорациям мира.
Протребительство может даже в конце концов изменить подход к проблеме безработицы. Со времен Великой депрессии 1930-х годов и возникновения кейнсианской экономики проблема безработицы в основном решалась путем вливания государственных средств в денежную экономику, чтобы стимулировать потребительский спрос и тем самым создать рабочие места. При этом руководствовались логикой, что при наличии миллиона безработных создание одного миллиона рабочих мест решит проблему.
В наукоемком обществе это ложная посылка. Во-первых, в США, да и в других странах, не знают, сколько у них безработных и вообще что входит в это понятие, так как многие сочетают «работу» с собственным производством и/или создают неоплачиваемые ценности путем протребления.
Более важным является другое: создание даже пяти миллионов рабочих мест не решит проблему, если один миллион безработных не обладает специфическими знаниями и квалификацией, необходимыми на новом рынке труда. Таким образом, проблема безработицы становится скорее качественной, чем количественной. То же происходит и с переподготовкой, поскольку к тому времени, когда человек овладеет новыми умениями, требования экономики могут уже снова измениться. Короче говоря, безработица в наукоемких экономиках отличается от безработицы «конвейерных» экономик: она носит структурный характер.
Обстоятельство, которое часто упускается из внимания, заключается в том, что и безработные имеют работу: они, как и все мы, создают неоплачиваемые ценности. В этом кроется еще одна причина пересмотра всего спектра взаимодействия между денежными и неденежными секторами системы богатства – этих двух полушарий экономики, основанной на интеллекте.
Новые, более эффективные технологии приведут к увеличению производительности протребления. Как это можно использовать для стимулирования денежной экономики? Есть ли лучшие способы обмена ценностями между этими двумя частями системы богатства? Являются ли «Линукс» и Всемирная паутина единственными моделями? Можно ли как-то вознаградить невознагражденных за их вклад, допустим, с помощью компьютерных бартерных схем со многими участниками либо некоей «паравалютой»?