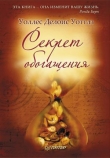Текст книги "Революционное богатство"
Автор книги: Элвин Тоффлер
Соавторы: Хейди Тоффлер
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 42 страниц)
Америка не сможет удержаться в своей пионерской роли в мировой революции богатства, не сохранит свою позицию ведущей мировой державы и не уменьшит разрыв между богатыми и бедными без замены – а вовсе не трансформации – системы образования со свойственным ей фабричным подходом.
В перспективе волновой конфликт в сфере образования – существующая система обходится в 400 миллиардов долларов в год, не считая того, сколько стоят обществу неудачи этой системы и косвенные потери бизнеса из-за плохой подготовки работников – будет только обостряться; персональные и политические страсти еще больше накалятся.
Вероятно, самую большую цену за волновой конфликт в Америке предстоит заплатить почти пятидесяти миллионам детей, которых сейчас принудительно зачисляют в школы, пытающиеся подготовить их – не слишком успешно – для работы, которой в будущем не будет. Это можно назвать воровством будущего.
Образование касается не только того, к какой работе оно готовит. Школы, за немногими исключениями, не готовят своих учеников к роли протребителя. Система образования в целом не помогает молодежи справиться с растущей сложностью и новыми возможностями в сексе, семейной жизни, этических вопросах и других сферах нарождающегося общества. Меньше всего преуспела школа в ознакомлении учеников с тем огромным удовольствием, которое дает сам процесс познания нового.
Безымянная коалицияКак ни невероятно это сегодня звучит, система массового образования была вполне прогрессивной в доиндустриальную эпоху, когда только небольшой процент детей посещал школу и грамотность и умение считать были почти недоступны для бедноты. Даже после начала индустриализации сменилось несколько поколений, прежде чем дети начали ходить в школу, а не поступать на фабрики, где требовалась дешевая рабочая сила, в самом раннем возрасте.
Сегодня миллионы детей обучаются в школах, действующих по фабричному принципу, потому что именно там желает их видеть какая-то безымянная коалиция.
Чтобы понять, что это за коалиция, надо оглянуться в прошлое, в конец 1800-х годов. В то время, когда многие родители не хотели посылать детей в школу, потому что их труд нужен был в поле или на фабрике, все больше голосов раздавалось в пользу бесплатного обучения. Однако только когда представители бизнеса нашли, что для повышения производительности требуются образованные работники, а школа может способствовать «индустриальной дисциплине» молодых рабочих, возникла и обрела власть коалиция в защиту образования.
Как писал в своей книге «Образование в Америке» Лоренс А. Кремин, «индустриальная дисциплина подразумевала такие Ценности, как… внутренняя собранность, упорный труд, точность, исполнительность, трезвость, подчинение и скромность». Школа обучала «не только через содержание учебников, но через саму свою организацию – разделение на группы, возрастная градация и объективная безличность ничем не отличались от фабричной системы».
Кроме того, наплыв миллионов иммигрантов привел в цеха американских фабрик и заводов дешевую рабочую силу из разных стран и разных культур, говорившую на разных языках. Чтобы продуктивно работать, им нужно было ассимилироваться, раствориться в доминирующей американской культуре того времени, и с 1875-го по 1925 год одной из главных функций школы была американизация иностранцев.
Короче говоря, бизнес для строительства экономики массового производства индустриального века зависел от армии унифицированной молодежи.
По мере развития индустриализации в XX веке интересы рабочих стали защищать крупные профсоюзы. Профсоюзы, как правило, решительно поддерживали государственное образование – не только потому, что их члены хотели лучшей жизни для своих детей, но потому, что и сами профсоюзы имели в этом свой неявный интерес. Чем меньше рабочей силы, тем меньше конкуренция за рабочие места и выше зарплата. Профсоюзы не только вели борьбу против детского труда, но и пытались удлинить срок обязательного обучения, удерживая таким образом миллионы молодых людей от вступления на рынок труда на все более долгие периоды времени.
Большую роль сыграло образование профсоюзов учителей, которые были особенно заинтересованы в расширении сети массового обучения в индустриальную эпоху.
Кроме родителей, промышленников и самих рабочих, в поддержке образования было заинтересовано и правительство. Правительственные учреждения понимали экономические выгоды этой системы, но к тому же имели менее очевидные причины поддерживать ее. Обязательное образование уводило с улиц миллионы подростков с избытком тестостерона, улучшало порядок и снижало уровень преступности, а как следствие – сокращало расходы на содержание полиции и тюрем.
В результате на протяжении всей индустриальной эры существовала нерушимая коалиция, сохранявшая фабричную модель школьного образования, точно отвечавшую матрице массового производства, масс-медиа, массовой культуры, массового спорта, массовых развлечений и массовой политики.
По словам сэра Кена Робинсона, главного консультанта президента знаменитого фонда Гетти в Лос-Анджелесе и автора книги «Выйти за пределы разума: как стать творческим человеком», «аппарат общественного образования был подогнан под нужды и идеологию индустриального века… основан на старом представлении о подготовке рабочей силы. Ключевыми словами этой системы являются линейность, конформизм и стандартизация…».
Силы, готовящие переменыСегодня на горизонте маячит новый конфликт волн – и не только в Соединенных Штатах. Близящийся конфликт противопоставит две силы – защитников существующих фабрик образования и растущее движение в пользу его изменения, отстаивающее четыре ключевых элемента.
Учителя. Существующая система низводит процесс обучения до механического инструктирования по учебнику и стандартизованного тестирования, лишая творческого развития как учителя, так и ученика. Сегодня школы заполнены миллионами страдающих от педагогического выгорания учителей, обреченных до пенсии выступать в качестве пассивных защитников status quo.
А между тем в этих же школах есть десятки, а может быть, и сотни тысяч героических, скудно оплачиваемых подвижников, борющихся против этой системы изнутри. Несмотря на ограничения, которые на них накладывают, некоторым из них удается добиться замечательных результатов, реализуя идеи, способствующие обновлению образования в духе времени. Не получая почти никакой поддержки извне, они остаются авангардом, готовым присоединиться к движению за радикальные перемены.
Родители. В родительской среде тоже наблюдаются безошибочные симптомы недовольства деятельностью упомянутой коалиции. Многие поддерживают небольшое, но постоянно увеличивающееся число образцовых, специализированных школ и других экспериментальных учреждений внутри существующей системы образования. Другие нанимают частных учителей или посылают своих детей на послешкольные программы типа «юку» в Японии. «Частное обучение, – сообщает Национальное общественное радио, – становится столь распространенным, что, по мнению многих, меняет лицо американского образования». География этого движения необъятна. То же радио сообщает: «Учителя из Индии обучают американских детей математике по Интернету».
Другие родители, полностью отказавшись от старой системы, обучают детей дома, причем не только по религиозным причинам. Всемирная паутина предлагает им более миллиона программ и описаний методик домашнего обучения.
Чем больше отстает система образования от требований наукоемкой экономики, тем вероятнее, что родительский протест приобретет более решительные формы. Рассерженные и вооруженные Интернетом родители-активисты, по всей вероятности, выйдут за пределы местных школьных ассоциаций и образуют первичные, а затем национальные и даже глобальные движения с требованием ввести совершенно новые методы обучения, коренным образом изменить его содержание и структуру.
Ученики. В прошедшие века учащиеся никогда не обладали властью, чтобы их мнение что-то значило в движении за массовое обучение. Сегодня они могут помочь его низвергнуть. Они уже начали анархическую войну против действующей системы. Их бунт принимает две формы: одна – за пределами классных комнат, другая внутри.
Дети всегда бунтовали против школы, но в прошлом у них не было возможности пользоваться сотовыми телефонами, компьютерами, наркотиком «экстази», порносайтами или Интернетом. Им не приходилось, по мере того как они вырастали, сталкиваться с экономикой, которая нуждалась бы в их мозгах, а не мускулах. Сегодня многие, если не большинство школьников в глубине души чувствуют, что современные школы готовят их не к завтрашнему, а к вчерашнему дню.
Первая, хорошо знакомая форма протеста выражается в том, что все большее число учеников не оканчивают школу – а мы это оплачиваем. В шокирующем манифесте, озаглавленном «Оставить школу: обрести образование», два профессора-педагога, Джон Уайлс из университета Северной Флориды и Джон Лундт из университета Монтаны, подсчитали, что 30 процентов учащихся 9—12 классов в Америке бросают школу – после того, как их обучение уже обошлось в сумму 50000—70000 долларов на каждого – при том, что учителя получают мизерную зарплату. Выйдя из стен школы, многие вливаются в ряды того класса, который сто лет назад называли люмпен-пролетариатом, состоящим из бродяг, преступников, наркоторговцев, душевнобольных или перманентно безработных.
Вторую форму протеста можно наблюдать в школьных стенах. Критикуя базовые основы школы фабричного типа, Уайлс и Лундт задаются вопросом, должно ли образование оставаться обязательным. Так же, несомненно, думают и многие учителя, вынужденные выполнять роль тюремщиков, ежедневно встречаясь с бунтующими против всякого подобия дисциплины учениками.
Учителя бессильны против волны насилия, которая льется из средств массовой информации. Они бессильны перед насаждением культа звезд, в том числе спортивных, которые употребляют наркотики, изменяют своим женам, напиваются, избивают людей и избегают наказания по обвинению в изнасиловании. Ни учителя, ни родители не имеют защиты против педофилов, рыскающих по Интернету в поисках малолетних жертв. Некоторые школы настолько погрязли в насилии, направленном как против учеников, так и против учителей, что безопасность там могут обеспечить только полицейские патрули.
Молодежь всегда подвергалась воспитанию и «воспитывала» себя сама. Сегодня, однако, это делается с сомнительной помощью средств массовой коммуникации. Под учебниками прячут игры и сотовые телефоны, SMS летают по классу, пока учитель объясняет урок.
Создается впечатление, что в то время, как учителя стерегут учеников в классных комнатах, уши, глаза и мысли подростков бродят в киберпространстве. С самого раннего возраста они знают, что никакой учитель и никакая школа не предоставят им ни малейшей доли информации или знания – и, разумеется, удовольствия, – какие предлагает им Интернет. Они прекрасно осведомлены о том, что в одной вселенной они узники, а в другой – свободные люди.
Бизнес. Пока школа продолжала поколение за поколением снабжать фабрики рабочей силой, подготовленной к производству, коалиция, поддерживающая этот порядок, оставалась нерушимой. Однако с середины XX века, по мере того как начала распространяться новая система богатства, возникала необходимость в новых навыках и умениях, которые существующие школы в массе своей привить не могли. Разрыв между спросом и предложением катастрофически ширился, и к 1990-м годам деловая пресса была полна статей, посвященных этой проблеме. В 2005 году итог подвел Билл Гейтс:
Американские средние школы устарели. Говоря «устарели», я не имею в виду, что они обветшали, обеднели, что они недостаточно финансируются… Я имею в виду то, что наши средние школы – даже если они работают в точности так, как задумывалось, – не могут научить детей тому, что им сегодня нужно… Речь идет не об отдельных случайных ошибках; речь идет о системе в целом.
Этот призыв к замене, а не просто к реформированию системы значим не только потому, что подтверждает сказанное другими критиками системы, но потому, что он обозначил очевидный разрыв наукоемкого бизнеса с упомянутой коалицией, которая помогала удерживать школу фабричного типа в прежнем состоянии.
Сегодня интересы бизнеса Второй и Третьей волн расходятся. Впервые за столетие или больше возникает ситуация, когда рассерженные родители, недовольные учителя, не обеспеченные нужным контингентом работников бизнесмены, педагоги-новаторы, репетиторы из Интернета, создатели электронных игр и сами дети готовы образовать новую коалицию, обладающую возможностью не только реформировать, но полностью заменить конвейерное обучение.
Следующий шагЭнергосистема, транспортная инфраструктура и школы – это не только институции, в которых сохраняющиеся интересы индустриального века тормозят прогресс.
Одни защитники вчерашнего способа производства до сих пор заседают в советах директоров крупных корпораций. Другие являются партийными активистами. Третьи, которых чаще всего можно обнаружить в университетских клубах, заняты созданием идеологических ценностей для других. В скрытом или явном виде конфликт волн обнаруживается почти в каждом американском учреждении, которые становятся все более шаткими, десинхронизованными и дисфункциональными.
В этом заключается урок для всего прочего мира, для всех стран, которые переходят к наукоемким экономикам. Беспрецедентный переход от физического к умственному труду, от дымных цехов к программному обеспечению – это не только проблема технологии. Высокоскоростной технологический прогресс последних десятилетий и все более поразительные вещи, которые открывают сегодня ученые, – это не самое трудное в революционном процессе, пронизывающем все сферы современной жизни.
Если организационные перемены не сумеют идти в ногу со временем, десинхронизация взорвет американскую лабораторию и оставит будущее на милость… Китая? Европы? Ислама?
Это побуждает нас присмотреться к тому, что происходит вне Америки.
Глава 48
ВНЕ АМЕРИКИ
Если бы в различных странах мира был проведен опрос, оказалось бы, что огромное число людей считает, будто богатства Америки украдены у бедных во всем мире. Это убеждение часто скрывается за антиамериканскими и антиглобалистскими лозунгами. Та же сомнительная посылка лежит в основе громадного количества современных квазинаучных трудов и статей, утверждающих, что Соединенные Штаты – это новый Рим и образец классического империализма или, как предпочитают называть США китайцы, новый гегемон.
Проблема с этими аналогиями заключается в том, что они не соответствуют модели США XXI века. Если Америка – это богатый и могущественный гегемон, то почему в 2004 году почти 40 % государственных облигаций США находилось в руках иностранцев? Разве так было во времена мирового господства Рима или Британии?
Почему США не отправили поселенцев в зависимые страны, как это делал Рим, испанцы, англичане, французы, немцы и итальянцы в Африке? Как японцы в Азии? Разве можно найти в Америке университет наподобие Кембриджа или Оксфорда, который бы готовил элиту колониальных администраторов для управления отдаленными регионами? И разве услышишь среди американцев требование военного захвата какой-либо страны?
США действительно могущественная держава, и это чувствуется во всем мире. Однако зачастую Америка – и весь мир – изображается и воспринимается неадекватно. Критики мыслят категориями аграрного и индустриального прошлого. По мере роста интенсивности распространения знаний мировая игра приобрела другие правила и других игроков. То же можно сказать и о будущем богатства.
Игра по старым правиламВ индустриальном прошлом Британия со своей империей, «где никогда не заходило солнце», могла купить хлопок по низким ценам в одной из своих отсталых аграрных колоний, скажем, в Египте. Она могла отправить хлопок на фабрики в Лидсе или Ланкастере, превратить его в одежду, а затем продать эти товары с увеличившейся добавочной стоимостью египтянам по искусственно завышенным ценам. Образовавшаяся «сверхприбыль» возвращалась в Англию, помогая финансировать новые фабрики. Могучий британский флот, армия и администраторы защищали колониальные рынки от беспорядков внутри и от конкуренции извне.
Это, разумеется, упрощенное описание процесса, но главным в имперской игре было стремление удерживать передовые современные технологии, например, текстильные фабрики в Лидсе либо Ланкастере.
В настоящее время передовые экономики все больше зависят от знаний, и фабрики не столь уж важны. Знания, на которые они опираются, значат все больше. Однако знания не статичны, о чем свидетельствует рост присвоения чужой интеллектуальной собственности во всем мире. Америка, пытаясь защитить авторское право, проигрывает все чаще и чаще.
Кроме того, не вся имеющая цену информация носит технологический характер. Так, экономист и публицист Ален Минк, бывший председатель наблюдательного совета французской ежедневной газеты «Монд», опровергает мнение о том, что США – это Рим или Великобритания прошлого. Эта страна, утверждает он, не империя, а первая «мировая держава». Задачей ее университетов в отличие от Оксфорда и Кембриджа является не подготовка национальной элиты, а передача знаний для формирования «будущих мировых лидеров».
Накануне ужесточения иммиграционного контроля в США после 11 сентября Минк указывал, что за последние 50 лет число иностранных студентов в США увеличилось в 17 раз. Он вполне мог бы добавить, что всевозрастающий процент из них возвращается домой, вооруженный последними научно-техническими знаниями в таких передовых областях, как масштабная сетевая интеграция, нанотехнология и генетика, что уж точно не было присуще империализму и неоколониализму прошлого.
«Бескорыстный поступок»Вторая мировая война положила начало концу классического колониализма индустриальной эпохи.
Война закончилась в 1945 году, и к нашему времени о ней почти не вспоминают, однако, если оглянуться назад, становится ясно, что ничто даже отдаленно не может сравниться с ней по разрушительной силе – и по экономическим сдвигам, к которым она привела.
Потери двух десятков стран, включая США, за шесть лет Второй мировой войны составили как минимум 50000000 человек. Воспринимая это число, невольно делаешь глубокий вдох. По силе это может сравниться с 170 цунами наподобие того, что опустошило Юго-Восточную Азию в 2004 году, поражавшими мир на протяжении шести лет – по одному каждые две недели.
Только Россия (тогда – Советский Союз) потеряла 21000000 человек, проигравшая Германия – более 5000000 человек. Была уничтожена промышленность большинства западноевропейских стран. В конце войны большая часть Европы страдала от голода и разрухи. На другом конце мира Япония, прежде чем капитулировать, потеряла почти 2500000 человек. Ключевые отрасли – угольная, железорудная, сталелитейная промышленность, производство удобрений – также были разрушены.
Везде промышленная революция была словно отброшена назад. Массовые военные действия разрушили средства массового производства.
В отличие от других основных воевавших наций США потеряли менее 300000 солдат и офицеров. Мирное население практически не пострадало. Инфраструктура не была разрушена бомбардировками. Таким образом, к концу войны США оставались единственной индустриальной державой с полностью работающей экономикой при отсутствии сколько-нибудь серьезной конкуренции.
Спустя три года после прекращения военных действий Соединенные Штаты – сегодня так называемая «имперская держава» – сделали одну странную вещь.
Вместо того чтобы потребовать от Германии репараций и вывезти оттуда сохранившееся оборудование, железнодорожные вагоны и станки (как это сделала Россия) и радоваться преимуществам слабой конкуренции, Соединенные Штаты ввели в действие план Маршалла. В рамках этого плана в течение коротких четырех лет США вложили в Европу 13 миллиардов долларов, в том числе 1,5 миллиарда в Западную Германию, на восстановление производственных мощностей, укрепление национальных валют и развитие торговли.
В рамках других программ помощи Япония получила от США 1,9 миллиарда долларов – 59 % на продовольствие и 27 % в виде промышленных поставок и средств транспорта.
Выдающийся британский руководитель военного времени Уинстон Черчилль назвал план Маршалла «самым бескорыстным поступком в истории». Однако программы поддержки союзников и в равной мере бывших противников были отнюдь не благотворительными. Они являлись частью долговременной экономической стратегии, которая успешно сработала.
План Маршалла обеспечил американским товарам рынки сбыта, предотвратил реставрацию нацизма в Германии и, самое главное, спас Западную Европу и Японию от ледяных объятий Советского Союза и дал им возможность свободно развиваться. План Маршалла был, по сути, одним из самых удачных вложений капитала в истории человечества.
Если же говорить об империализме, после окончания войны Москва добилась военно-политического контроля над всеми восточноевропейскими странами, введя туда свои войска и насаждая коммунистический режим. Подобная участь грозила и западноевропейским странам, где поддерживаемые Советами компартии, особенно во Франции и Италии, пользовались широкой поддержкой народных масс.
Советы создали огромный регион – от Владивостока до Берлина – с планируемой из центра экономикой, неконвертируемой валютой и прочими барьерами, которые отгородили 10 % населения земного шара от мировой экономики.
В 1949 году коммунистический блок пополнился Китаем, и еще 22 % населения мира были отрезаны от глобальной экономики. К середине 50-х годов с наступлением революции богатства целая треть населения Земли оказалась за пределами остальной планеты в смысле торговли и финансов.
В те же годы Африка, Латинская Америка и юг Азии страдали от крайней степени обнищания; в некоторых регионах шел мучительный, часто сопровождаемый насилием процесс деколонизации, связанный с уходом европейских хозяев.
В начале 1950-х США с их шестью процентами мирового населения производили около 30 % мирового ВВП и половину продукции обрабатывающей промышленности, практически не имея конкуренции.