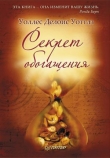Текст книги "Революционное богатство"
Автор книги: Элвин Тоффлер
Соавторы: Хейди Тоффлер
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 42 страниц)
В прошлом экономическое развитие и снижение бедности зависели главным образом от внутренних условий данной страны, таких как наличие капитала, сырьевых ресурсов, состояние окружающей среды и склонность населения к бережливости, деятельной жизни, его энергетика и трудовые навыки и т. д.
С середины 1950-х годов все это стало иметь все меньшее и меньшее значение. По мере того как мировая экономика становилась все более интегрированной, а торговля, люди, капитал и особенно знания стали все свободнее пересекать границы, повысилась важность внешних факторов.
Это, в свою очередь, повлекло за собой последствия второго порядка, которые часто не замечаются или игнорируются. Будущее бедности нельзя понять до тех пор, пока эти многочисленные факторы не будут в должной степени учтены.
Вот хороший пример – потрясающая цепная реакция, способствовавшая экономическому подъему Азии, благодаря которому, в свою очередь, за 20 лет более полумиллиарда азиатов поднялись выше черты бедности в два доллара.
Все началось в середине 1950-х, когда в США началось развитие наукоемкой системы богатства.
По другую сторону Тихого океана индустриальная экономика Японии, стертая в пыль Второй мировой войной, пребывала в жалком состоянии. Ее оборонная промышленность была уничтожена, а политическая жизнь крайне нестабильна.
В этот поворотный момент США перед лицом укрепляющегося, оснащенного ядерным оружием Советского Союза заключили с Японией соглашение, включавшее три параметра. В военной части Япония становилась союзником США против угрозы со стороны коммунистического СССР; США негласно обязывались политически поддерживать консервативную либерально-демократическую партию Японии; а экономически США широко распахивали двери японскому экспорту.
Проблема с последним пунктом заключалась в том, что Японии практически нечего было продавать из того, что могло бы заинтересовать американцев. Японские товары представляли собой на мировом уровне смехотворное зрелище. В конце 1970-х на английской сцене шла пьеса, где актер Роберт Морли вызывал смех зрителей, упомянув «настоящее японское дерьмо». Однако к тому времени японский экспорт больше уже не был «дерьмом».
Чтобы разрешить «дерьмовую» проблему, Япония воспользовалась двумя крупными американскими инновациями. Первая заключалась в установлении статистических методов контроля качества, в 1950—1960-х годах внедренных по всей стране Джозефом М. Джураном и У. Эдвардсом Демингом. Совершенствование сборочных линий стало национальной одержимостью. (За свой вклад оба этих господина были удостоены императором ордена Священного сокровища.)
В последующие два десятилетия высокое качество еще не стало ключевым словом в американском автомобилестроении. Даже сегодня японские «тойоты», «хонды» и «ниссаны» превышают по качеству автомобили, сходящие со сборочных линий заводов Детройта и Европы.
Второй инновацией был промышленный робот. Тут история повторилась. В 1956 году инженер Джозеф Ф. Энгельбергер и предприниматель Джордж Девол встретились как-то за коктейлями и разговорились о научно-фантастической книге Айзека Азимова «Я, робот».
Они вдвоем создали компанию под названием «Унимейшн» (от «универсальная автоматизация») и пять лет спустя представили миру первую работающую модель промышленного робота. «Дженерал Моторс» приобрела его для своего завода под Трентоном, штат Нью-Джерси, но другие американские компании не проявили энтузиазма по отношению к новой технике управляемой компьютерами.
«Мне было трудно найти общий язык с американскими промышленниками, – сказал впоследствии Энгельбергер. – Зато японцы буквально ухватились за это изобретение. Вот почему роботехника превратилась в семимиллиардную индустрию, господство в которой принадлежит Японии».
Согласно данным Японской ассоциации производителей автомобилей, в 1965 году «новые технологии… стали главным приоритетом». К 1970 году внедрение цифровой технологии, главным образом импортированной из США, «в короткое время привело к компьютеризации всего производственного процесса», причем роботы «постепенно ликвидировали потребность в участии человека при производстве опасных работ…».
К концу 1970-х годов, по словам Джона Куковски и Уильяма Р. Болтона, составивших отчет для Японского оценочного центра, «Япония была мировым лидером в роботизации конвейерного производства, а в 1992 году она располагала 69 процентами всех промышленных роботов в мире, в то время как в Европе их было только 15 процентов, а в США – 12».
Вооруженная этими и другими наукоемкими инструментами Япония менее чем за десятилетие начала удивлять мир не только высококачественными товарами, но и такой продукцией, которой мир еще не видывал.
Вскоре такие названия, как «Сони», «Фуджицу», «Хитачи», «Тошиба», «Мицубиси», стали известны всему миру. В 1957 году «Тойота» экспортировала в США ровно 288 автомашин. В 1975 – м она опередила европейских конкурентов и стала бестселлером среди зарубежных брэндов в США. В 2002 году американцы купили 1700000 японских автомобилей, в том числе многие, произведенные на американских заводах, которыми управляли японцы.
Комбинация американского технологического знания, американского стремления покупать японскую продукцию, японской находчивости и сообразительности плюс недооцениваемой изобретательности впрыснула мощную дозу адреналина в экономику Японии.
Пока ее предприятия выпускали такие потребительские товары, как видеомагнитофоны, телевизоры, видеокамеры и стереоприемники, Япония агрессивно вторглась на американский рынок полупроводниковых микросхем и компьютерных комплектующих, двигая вперед наукоемкое производство.
К 1979 году Япония была основным конкурентом Ай-би-эм в производстве компьютеров, и книга под названием «Япония как номер один» привлекла к себе внимание по обе стороны Тихого океана. В ней успех японских корпораций приписывался прежде всего жажде знаний и акценту на подготовке рабочей силы, которая включала в себя привлечение иностранных консультантов и массовую стажировку кадров в самых престижных мировых центрах наукоемкой технологии.
Первый секрет японского успеха – «ученье, ученье, ученье». Второй – творческое коммерческое применение нового знания. Третий – скорость.
Таким образом, к началу 1980-х годов японская технология производства микросхем развивалась так стремительно, что Вашингтон ввел ограничения на импорт японских полупроводников.
Автомобили, бытовая электроника, компьютеры, чипы, копировальные машины… казалось бы, ничто из этого не было важным для жизни крестьян. Или же для борьбы с бедностью.
Однако это не так.
Эффект избыткаЧудо японского высокотехнологичного производства привело к притоку в страну такого обилия денег и так высоко подняло иену, что японские компании начали активно инвестировать в производственные мощности Тайваня, Южной Кореи, а затем и Малайзии, Индонезии и Филиппин, помогая ускорить процесс развития в регионе, который вскоре получил название Новых Индустриальных Стран.
Другими словами, Япония начала размещать свое низкотехнологичное, малоценное производство в соседних странах с дешевой рабочей силой, оставляя себе наукоемкие операции.
Япония была не единственной страной, которая отрыла путь потоку прямых инвестиций в Азию. Однако к 1980-м годам именно Япония, согласно данным исследования, проведенного библиотекой Конгресса США, «вытеснила США как основного поставщика инвестиций и экономической помощи в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В период 1980–2000 годов Япония вложила более 123 миллиардов долларов в экономику своих азиатских соседей.
Трудно точно определить, сколько новых предприятий и рабочих мест в этих азиатских странах обязаны своим возникновением инвестициям Японии, Америки и Европы. Следующим шагом явились финансовые вливания Южной Кореи и Тайваня в своих более бедных соседей, приведя в движение цепную реакцию развития, распространившуюся из США в Японию и затем в другие страны.
Результатом; стал поток миллиардов долларов, влившийся в аграрные экономики региона, где располагались самые бедные страны мира.
В каждой из стран, куда поступали эти деньги, мы наблюдаем в действии один и тот же классический процесс – перемещение рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность. В 1970 году в Южной Корее в сельском хозяйстве был занят 51 процент рабочей силы. К 2000 году эта цифра упала до 9 процентов, а занятость в промышленности выросла до 22 процентов.
За тот же период на Тайване число сельскохозяйственных рабочих снизилось с 37 процентов до 7 процентов, а число промышленных рабочих увеличилось до 35 процентов. В Малайзии количество сельхозработников сократилось с 50 процентов до 16, а число индустриальных рабочих увеличилось до 27 процентов. Подобные перемены, хотя и не столь масштабные, произошли в Таиланде, Индонезии и на Филиппинах.
В каждом случае речь шла не только о перемещении денег. Вместе с деньгами в бедные страны приходило то, что экономист Уильям Истерли, бывший сотрудник Всемирного банка, назвал утечкой, – распространение знания, причем не только о технологиях, но и о финансах, рынках и маркетинге, о правилах импорта и экспорта и вообще о бизнесе.
Совокупный эффект массовой передачи мастерства и ноу-хау, соответствующих индустриальной эпохе, состоял в том, что огромное число беднейших людей вырвались из тисков жесточайшей бедности. Конечно, людям с полными желудками переезд в городские трущобы вряд ли покажется прогрессом. Но для большинства миллионов азиатов, изгнанных с земли засухами, голодом и болезнями, возврат туда был бы гораздо худшим вариантом. Они хорошо это понимали.
Процесс, в ходе которого страны, вступающие в экономику знания, переводили часть своего производства в бедные, в основном аграрные страны от Азии до Латинской Америки, возымел важные последствия.
Для принимающих стран это означало увеличение средней продолжительности жизни, снижение детской смертности, уменьшение темпов прироста населения, что является ключевым фактором в уменьшении бедности. В период 1960–1999 годов производство питания надушу населения в мире выросло почти на 25 процентов, а число людей, потребляющих менее 2100 калорий вдень (порог недоедания), сократилось на 75 процентов.
Не случайно примерно за тот же период население Восточной Азии, начав с очень низких показателей, в 400 раз увеличило реальный среднедушевой доход.
Успехи, достигнутые этими и другими бедными странами и не только в Азии, но также в Латинской Америке и повсюду, не являются результатом милосердия мира богатых. Внешние вливания капитала, сопровождаемого потоком соответствующего знания, не были бы столь эффективными без ума, энергии, упорной работы, идей, предпринимательства и борьбы лидеров и простых людей в самих бедных странах.
В целом мы наблюдаем замечательный пример кооперации экономик, который в силу непредвиденных и ненамеренных действий дал реальный эффект, и не только в Азии.
Однако возникает важный вопрос: в какой мере был бы достигнут этот прогресс в преодолении бедности, имевший место в последние десятилетия, не будь изобретен компьютер и не появись на мировой арене система революционного богатства?
Этим витающим в воздухе вопросом дело не ограничивается. Ничто из того, что мы видели, не объясняет в полной мере бурный подъем Азии, как и того, что произойдет в дальнейшем, когда на мировую сцену ворвутся Китай и Индия.
Азия не может ждатьМного было написано о диккенсовских ужасах раннего индустриального общества, и многое из этого применимо к жизни сегодняшних бедняков, в том числе тех, кто перебрался в перенаселенные города богатого мира. «Левые» часто критиковали промышленный капитализм с экономической точки зрения, предлагая внедрять плановую экономику и налаживать социальную защищенность, чтобы обезопасить общество от «бумов и кризисов». Критиковали также катастрофические последствия промышленного производства для окружающей среды. «Правые» критиковали капитализм с культурных и религиозных позиций, романтизируя прошлое и нападая на индустриальную модернизацию. Нередко, как во времена луддитов, технология становилась козлом отпущения.
Сегодня многие подобные аргументы выдвигаются против наукоемкой системы богатства и сопутствующей ей цивилизации. Зачастую эти возражения формулируются буквально в тех же выражениях, как будто ничего не изменилось за прошедшие полвека – период, отмеченный самыми стремительными и глубокими глобальными сдвигами в истории бедности.
До сих пор мы наблюдали линейные перемены. Первая волна, затем Вторая волна в точности соответствовали традиционному представлению о том, что путь из бедности должен проходиться странами последовательно. Но сегодня перемены происходят гораздо быстрее. Чтобы адаптироваться к ним, компании должны заменить последовательные шаги в принятии решений и производстве новыми способами, основанными на синхронности. Не нужно ждать, когда завершится одна часть работы, чтобы приступить к следующей. Необходимо производить их одновременно и быстро объединять.
Именно так поступают сегодня Китай и Индия. Они не желают дожидаться завершения индустриализации Второй волны, чтобы начать развитие в духе Третьей волны.
Результатом является стратегия параллельного развития, причем некоторые стадии этого процесса эти страны могут и пропустить.
То, что мы наблюдаем в этих странах, сельское население которых формирует основной контингент глобальной бедноты, есть не что иное, как величайший эксперимент по снижению бедности с начала времен.
Глава 42
ДВУХКОЛЕЙНАЯ ДОРОГА В ЗАВТРА
Через четыре года после того, как Дэн Сяопин принялся освобождать Китай от железных объятий антикапитализма, в октябре 1983 года в Пекине прошла конференция политических лидеров под руководством премьера-реформатора Чжао Цзыяна, который созвал ее для обсуждения концепции Третьей волны в том виде, в каком она была представлена в нашей одноименной книге.
Некоторые из участников конференции, опасаясь хоть на шаг выйти за пределы марксистской теории, говорят, обратились через голову Чжао к тогдашнему генеральному секретарю коммунистической партии Xy Яобану, чтобы узнать его мнение относительно высказанных на конференции предложений. Будучи в определенном смысле либералом, Xy ответил им такими словами: «Слишком много людей в партии боятся новых идей».
С тех пор верховные вожди Китая – и миллионы их последователей – горячо поддерживают идею о том, что Китай должен сосредоточивать свои усилия не только на индустриализации. Одновременно и как можно быстрее следует строить наукоемкую экономику, стараясь там, где возможно, пропускать традиционные стадии индустриализации.
Вот почему Китай запускает в космос астронавта, вот почему он стремится стать «биотехнологической сверхдержавой», вот почему всего за несколько лет в стране стало насчитываться 270000000 владельцев сотовых телефонов и 80000000 пользователей Интернета.
Вот почему Китай пытается установить собственные технические стандарты для DVD-плейеров, микросхем и компьютеров, причем не только в протекционистских целях, но для того, чтобы в будущем воздействовать на технологический прогресс в глобальном масштабе – как в XIX веке это делала Британия, а в XX – США.
Вот почему Пекинский центр генных исследований поразил весь мир, в рекордно короткий срок расшифровав генетический код риса. Вот почему, в то время как Белый дом под управлением Джорджа Буша замедлил медицинские исследования, жестко ограничив бюджетные ассигнования на исследования стволовых клеток, Китай агрессивно вторгается в эту область нового знания.
Вот почему, согласно обозревателю «Нью-Йорк таймс» Томасу Фридману, китайский город Далян превращается скорее в научный центр, чем в производственную базу. «Нет, – пишет он, – здесь не только делают теннисные туфли. Обратитесь за информацией на этот счет в „Дженерал Электрик“, „Майкрософт“, „Делл“, „Хьюлетт Паккард“, „Сони“ и „Аксенчер“, которые обеспечивают технической поддержкой азиатские компании и открывают научно-конструкторские центры программирования».
Вот почему Китай ежегодно выпускает 465000 инженеров и ученых и предпринимает постоянные усилия, чтобы возвратить домой тысячи китайских ученых, работающих в США.
И вот почему сотни мультинациональных компаний устремились в Китай, чтобы открыть там свои исследовательские и конструкторские лаборатории – число новых ежегодно составляет около 200. Как говорит руководитель Пекинской лаборатории компании «Майкрософт» Гарри Шам, «нигде во всей вселенной не найдется такой концентрации интеллектуальной мощи».
«Двухколейная» стратегия Китая – предоставление дешевой рабочей силы и одновременное строительство научного сектора – осуществляется в условиях ослабления централизованного планирования, делегирования полномочий регионам и органам местного самоуправления, расширения рыночной активности и, главное, увеличения экспорта.
Эти перемены сопровождаются массовой безработицей, социальным расслоением и недовольством граждан, и все эти явления имеют тенденцию к обострению. Китайские лидеры вполне обоснованно ставят во главу повестки дня стабильность.
Как мы увидим ниже, властям приходится испытывать серьезное беспокойство по поводу СПИДа, атипичной пневмонии и других болезней, а кроме того – народных бунтов, причем не на управляемом локальном уровне, а на общенациональном; финансовой паники; экологических кризисов; вышедших из-под контроля цен на энергоносители и угрозы дефицита топливных средств, а также и углубления пропасти между поколениями, не говоря уже о нестабильности в отношениях с Тайванем. Хуже того, кризисы могут возникать одновременно; только очень наивный человек верит в то, что революционные перемены развиваются линейно.
Однако китайские лидеры отдают себе отчет в своей исторической миссии – покончить с массовой бедностью, которая была свойственна Китаю на протяжении последних 5000 лет. По данным Всемирного банка, после 1979 года доходы 400000000 китайцев – больше, чем все население Южной Америки – оказались выше черты бедности.
Как часть этого достижения следует отметить и такой факт: число людей, страдающих от наибольшей нищеты, не имея не только достаточной еды, но даже одежды, сократилось с 200000000 в 1984 году до 29000000 сегодня.
Как говорит известная поговорка, стакан может быть наполовину пустым, но надо иметь в виду, что до последнего времени у многих из этих людей вообще не было стакана. Как и будущего.
Стратегия «двухколейного пути» используется не только в Китае, Еще одна обширная территория бедности – Индия.
Индия просыпаетсяНевысокий мужчина с дружелюбным лицом и копной длинных серебряных волос поднялся на сцену, прикрепил микрофон к своему серому френчу, как у Неру, и начал свою речь таким тихим и мягким голосом, что слушателям, несмотря на установленные в зале громкоговорители, пришлось напрячься, чтобы услышать его. Это было в 2003 году на конференции в Нью-Дели под названием «Индия: гигант или карлик?».
Имя Абдула Калама, сына обедневшего кораблестроителя, за пределами Индии известно мало. Калам – мусульманин в индуистской по преимуществу стране, бывший руководитель индийской программы запуска искусственных спутников, ракетостроения и ядерных исследований. И еще он президент Индии.
Калам не управляет страной – это делают политики. Но он – обожаемый символ успеха в борьбе с бедностью и достижения межконфессиональной гармонии. Еще он соавтор книги «Индия 2020: взгляд в новое тысячелетие».
Во время нашей с ним беседы в его президентском дворце Калам сказал, что приоритетным проектом для него является связь. Не между технологиями, а между деревнями, маленькими, отдаленными друг от друга селениями. Калам разработал программу замедления урбанизации через слияние деревень – территориально, экономически, электронно, то есть в смысле приобщения их к знанию.
В противовес мнению, будто передовые технологии никак не помогают бедным, именно наукоемкая экономика и связанные с ней технологии пробудили Индию от полувековой постколониальной спячки, помогли расстаться с бедностью более чем 100000000 индийцам; по уровню развития Индия, по некоторым оценкам, отстает от Китая всего на 10–15 лет.
Это отставание, как считают некоторые эксперты, может быть преодолено благодаря трем преимуществам, которыми обладает Индия. Первое – широкое распространение английского языка, которое облегчает установление контактов и налаживание связей с англоязычным миром. Второе – Индия менее зависима от экспорта, чем Китай, и, таким образом, менее уязвима для валютных и прочих рисков. Третье – это менее авторитарное, относительно открытое общество, более восприимчивое к инновациям.