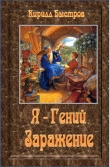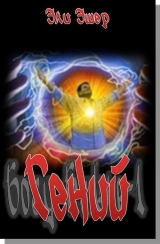
Текст книги "Гений (СИ)"
Автор книги: Эли Эшер
Жанры:
Классическое фэнтези
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 31 страниц)
– Я знаю, Алеша, – кивнула Аля, наливая мне в чашку золотистый напиток, – Но ведь все равно жалко. Пойми, я – не Гита, я не умею пожать плечами и сказать «ну, умрет».
– К слову, о Йогите, – ответил я, решив развеять мрачное настроение чуток чем-то более деловым, – Она тут упомянула, что мы принадлежим к другому поколению, нежели она с Михой. Это о чем?
– Ну, да, Алеша, мы из поколения Гора, они из поколения Сета, – подтвердила Аля, как нечто само собой разумеющееся.
– А в чем разница? Созидание и разрушение, как Кришна и Шива? У нас конфликтов с ними в результате не может быть?
– Какие конфликты, Алеша? – удивилась Аля, – Гор и Сет братья, просто у них разные вещи лучше получаются. Представь себе двух братьев, работающих в поле. У Гора все растет и цветет, даже то, чему не стоило бы расти. Потом приходит Сет и начинает полоть сорняки. А когда урожай собран, и следующий цикл начинается, опять нужен Гор, чтобы засеять и вырастить. И так опять и опять. Время Гора, время Сета, время Гора, время Сета, время придумывать и фантазировать, время концентрироваться на реализации уже придуманного.
– А сейчас какое время?
– Сейчас профессор за главного, а Гор неизвестно где, но придет. Но это не только у нас, Алеша, если посмотреть человеческую историю, у них то же самое. Просто у них циклы короче и разного размаха, в зависимости от того, на какой цикл у нас наложатся.
– Так что получается, – спросил я, – Если мы из поколения Гора, значит, мы не своим делом занимаемся?
– Не совсем, Алеша, – ответила Аля, – Оба поколения должны уметь делать и то, и другое. Если Гор поле, заросшее сорняками, не вспашет, то никакая прополка потом не поможет, просто зерно не прорастет.
– А зачем поколению Сета что-то растить?
– Поколению Сета обязательно надо уметь растить, – обьяснила Аля, – Потому что ему, как минимум, надо вырастить поколение Гора.
* P24 Алексель
Остаток времени до обеда мы провели за разговором и еще парой коктейлей. Я ввел подопечного в курс реалий этого мира, его географии, а тот в основном просто наслаждался морем и солнцем.
– Ну, успехов! – начал закругляться я, – Мне уже пора. Будут серьезные проблемы – зовите, помогу. Но старайтесь справиться сами. Сами понимаете, это все-таки ваша домашняя работа.
– Конечно. А как вас позвать?
– По имени, – пожал плечами я, – Ах, да, я ж не представился… Извините. Полное имя Алексель.
– Алекс?
– Так тоже сработает. Удачи! – улыбнулся я и растворился из мира P24.
* Алексель
А чаепитие в избушке номер 13 продолжалось. За большими стеклами избушки разгулялась непогода, дождь стегал волнами по земле, крыше и стеклам окон, небольшие елочки, растущие перед пляжем, гнулись и дрожали под ветром, а океан прикрыла серая дымка дождя. Что создавало особо домашнюю уютную атмосферу внутри самой избушки, с искуственным освещением, раскрашивающим все внутри в теплые тона, и камином, завораживающим игрой пламени и излучающим тепло.
– К слову, а кто еще вокруг из поколения Гора? – поинтересовался я.
– Андрей Яковлевич, ты с ним встречался, – ответила Аля, – Есть молодых несколько, включая ту самую Стеллочку. А что?
– Ой, а я ж Андрею обещал встретиться, – спохватился я, – Да замотался и забыл. Неудобно. Дай-ка прямо сейчас свяжусь… Не возражаешь?
– Нет, конечно, зови, – ответила Аля, поморщившись.
– Какие проблемы?
– Нет, что ты, Алеша, конечно зови, если надо для дела! – твердо ответила она тоном, который среднего мужчину заставил бы с одной стороны подчиниться, с другой – потом лет десять чувствовать себя последней скотиной. Ну, вот и первая семейная сцена, когда до семьи еще семь верст, и все лесом… а то и болотом. Я пожал плечами, и решил это все проигнорировать.
– Андрей? – привычно обратился я, взглянув на потолок.
– Леш, ты? Привет! Ты что делаешь?
– Чай пью с Алиной. Не хочешь присоединиться к компании, если время есть? Она какой-то сумасшедше вкусный сегодня сделала, – ответил я.
– Для чая и хорошей компании время у меня всегда есть. Только покажи, куда идти.
Я передал картинку гостиной, и толстяк с черной бородой, который мог бы изображать Деда Мороза без грима, если бы не цвет волос, материализовался прямо в комнате. Выпущенная поверх брюк черная футболка сообщала «Я хорош в постели, я могу спать целый день!» Мартик подняв голову посмотрел на вошедшего настолько одобрительно, насколько позволяла кошачья физиономия, за что удостоился добродушного чесания за ухом. После чего Андрей плюхнулся на диван рядом с котярой и спросил:
– Ну, как там твоя подопечная? Справились?
– Да, спасибо. Ожила, все срослось.
– Ну, и хорошо, – кивнул он, – Чем сейчас занят?
– Да так, потихоньку-полегоньку. Вон, с Айниэль познакомился…
– А! Эти идолопоклонники! – усмехнулся Андрей.
– Андрей Яковлевич, чай – встряла Аля каким-то отстраненным голосом, подавая ему чашку.
– Спасибо, Алина, – кивнул он принимая напиток и делая глоток, – Хорошо вышел! Кстати, сколько раз повторять, просто Андрей!
– Но вы же старший! – уверенно, как истину в последней инстанции, не требующей дальшейшего обьяснения, изрекла Аля.
– А почему идолопоклонники? – спросил я, – Я, в общем, тоже небольшой любитель того, что они делают, но интересно, при чем тут идолы?
– Ну, а как их еще назвать, – пожал плечами Андрей, – Идол – это что? Первоначально, это модель бога, которую путают с самим богом. Более широко, это модель реальности, которую путают с самой реальностью. Скажем, карта плоская, но вещь удобная, хоть и не отражает форму Земли. Все пользуются и получается. Но если придумавшего глобус на костер тащат или утверждают, что Земля плоская и на слонах стоит, то это уже полный маразм. То есть, моделью пользоваться можно и нужно, но нужно еще понимать пределы ее применимости. А идолопоклонники ее не понимают.
Вот и с Айниэль то же самое. Рынок вообще-то хорошая штука, удобная. Человечество за всю историю ничего кроме рынка с деньгами и не придумало для сообществ больше, чем несколько сот человек. Но они-то ратуют за рынок без ограничений и контроля общества, полностью игнорируя весь исторический опыт. Человечество на эти грабли еще в Древнем Риме наступало, а им хоть кол на голове теши, все талдычат «свободный рынок», «свободный рынок»… Идиоты зомбированные!
– А почему зомбированные?
– Ну, не в смысле оживших мертвецов, конечно. Сам знаешь, это ж мемовирус такой, демон человеческого сознания. А если он присосался к эмоциональным центрам сознания так, что человек готов с друзьями и близкими ссориться, ради этого, то это я уже называю зомбированностью. То есть, человек ведет уже себя не как человек, а как запрограммированный меморобот, у которого даже базовые инстинкты и человеческие чувства оказались неспособными сопротивляться и подконтрольны этой программе.
– А, понятно, – согласился я, – Да, приходилось с таким сталкиваться.
– Дык! А можно еще чаю? – повернулся он к Але с пустой чашкой, которая тут же долила золотистого напитка.
– И таких полно! – продолжил он, – Ну, понятно, что религиозные деятели этим балуются, но атеисты-то? В смысле, экстремальные атеисты, которым надо весь мир в свою веру обратить. А ведь тоже полно.
– Да, приходилось мне сталкиваться… Одна дамочка при мне гордо заявила, что отсутствие Бога научно доказано.
– Во-во, и я о чем говорю. И не малейшего понятия, что гипотезой Бога наука вообще не занимается, это ненаучная гипотеза. Не в смысле, что неправильная, а в смысле, что наука такими вообще не занимается. Наука ведь о чем? О проверяемых теориях, о повторяемых фактах. Вся религия построена на вере в чудеса, то есть в принципе непроверяемая теория о неповторяемых фактах, если их так вообще можно назвать. Во-вторых, гипотезы эти, чтобы быть научными, должны быть способны на три вещи: последовательно обьяснять, предсказывать, и управлять. Начнем с последовательного обьяснения. Запри сто ученых в ста комнатах и спроси их, сколько будет дважды два, и все сто ответят одно и то же, что четыре. Запри сто богословов и священников, задай им один и тот же вопрос по теме, и получишь сто разных ответов. Единственный случай в истории, когда они дали один и тот же ответ – Септуагинта – легендарен, исторически вызывает большие сомнения, а сам ответ утерян в глубоком прошлом. Так что, даже простейшей способностью научной теории гипотеза Бога не обладает. Про способность предсказывать и говорить не буду, все ведущие религии мира это прямо запрещают…
– Погоди, Андрей, – вмешался я, – Мне вроде говорили, что мы атеизм одобряем, нет?
– Так то нормальный атеизм, который «а», а не который «анти». Нормальный атеизм что говорит? Что гипотеза Бога не нужна, по крайней мере, для практической жизни. Вот и все. То есть, чтоб никаких линий партии в физике или биологии. Поэтому нормальный атеист не богоборец, бог ему просто по фигу, у него своих дел хватает. А эти же просто какой-то джихад ведут… И замечу в скобках, гипотеза Бога, может, и не нужна, а вот без религии в той или иной форме ни одно долгоживущее общество на Земле не обходилось. Бывало, чтоб вместо бога вставляли какую философскую или этическую систему, как в буддизме, конфуцианстве или коммунизме, да и то не всегда нормально работало. Нужна религия, что уж поделать? Нужна, чтобы этические нормы в обществе поддерживать.
– Как-то кривовато они их поддерживают…
– Дык, а думаешь легко сделать религию или этическую систему, в которой все нормально работало бы? – возразил Андрей, – Сам попробуй сделать!
– Это как?
– Да, прямо, – пожал плечами он, – У нас как раз серия I для таких экспериментов. Давай, я тебе сейчас I7 отформатирую, ныряй в него и проповедуй, сколько влезет. Раскрутим как следует, как раз в недельку-другую года три влезет. Сам все и увидишь.
И не откладывая дела в долгий ящик, Андрей прикрыл глаза ненадолго, явно занявшись чем-то в Гайе.
– Придется подождать немного, пока демиург закончит, – заявил он, открыв глаза, – В общем, сам попробуешь – увидишь, как это не просто. Такое со слов трудно понять, надо на своем опыте. Но суть все равно в том, что религия – это прежде всего система поддержания этики, промежуточного слоя между законом и полной свободой. Не все можно в законы записать. Запрети алкоголь – разведешь мафию. А вот если этика общества будет по-настоящему пьянство осуждать, то хоть на каждом углу продавай, пьяниц будет немного. Только надо, чтобы по-настоящему осуждала. Для этого религия и нужна. Уж бога в нее воткнуть или строительство коммунизма – дело десятое, но нужна.
– Вроде бы Докинз вполне убедительно показывает, что и без религии можно быть хорошим человеком?
– Ну, да, можно, только для стабильного общества нужно чтобы большинство были такими. А по Докинзу для этого каждому пролетарию надо образование дать, как самому Докинзу, чтоб этот пролетарий после трех литров пива, отполированных водкой или виски, еще помнил про «Не убий!», прежде чем проснется утром и пойдет на работу чистить туалеты. Ну, и какое общество будет эффективнее и стабильнее, из докторов наук, чистящих туалеты, или там, где каждый знает свое дело, а на этические дилеммы у него есть ответы, подкрепленные простым аргументом – «потому что Бог так велел»?
– А как же мечты о временах, когда все будут умные и образованные?
– А ты можешь привести пример, когда уровень образования общества определялся мечтами, а не уровнем технологий и производства? Грамоте стали поголовно учить только тогда, когда стало нужно, чтобы каждый крестьянин мог закорючку поставить и знаки вроде «Не курить» и «Не влезай, убьет» прочитать. Причем заметь, в первую очередь в городах, поскольку рабочим это было важнее. Так же и со счетом. Потом производства стали сложнее, появилось всеобщее среднее образование. Все очень просто – если есть работа только для грамотных, все будут грамотные. Достигнет технология уровня, когда для чистки туалетов потребуется докторская, тогда и можно будет говорить о всеобщем атеизме, а за ради одного атеизма никто учиться не будет.
Люди вообще учиться не любят. Причем по хорошей причине. Они ж в ледниковый период эволюционировали, когда сахара и крахмалов было мало – не растут растения под снегом. А мозг исключительно глюкозу жрет, и вообще, энергетически очень дорогой орган, может до трети энергии потребляемой организмом использвать в активном режиме. Вот поэтому человек инстинктивно включает его редко, только когда без него уж никак нельзя. Поэтому, если есть сложная точная модель и простая неточная, но достаточная модель, вроде «Бог так велел!», большинство всегда выберет простую. Ну, как любой нормальный человек пользуется картой и не волнуется, что она плоская, а не круглая, как Земля. Вот потому вера в Бога у людей и лезет изо всех дырок. Это просто эволюционно выгодно.
– Вообще-то у Алеши есть другая гипотеза, почему идея антропоморфного бога или богов практически во всех обществах существует, – вставила Аля и повернулась ко мне, – О том, что человеку естественно воспринимать свое собственное отражение во Вселенной, как сверхестественную силу. Помнишь, ты ее мне рассказывал?
Я не помнил. Точнее, теория у меня и правда была, но чтоб я рассказывал Але – не помнил. Мартик поднял голову и внимательно посмотрел на Алю через плечо. Похоже, он тоже не помнил.
– Ну-ка, ну-ка, давай, выкладывай! – с энтузиазмом потребовал Андрей.
– Ну, как, вселенная это большая сложная система, человек тоже, – начал я, – Когда одна сложная система воздействует на другую, то реакция второй всегда содержит черты исходного воздействия, своего рода отражение, как в зеркале. Скажем, идешь по песчаному пляжу и оставляешь следы. След – это не человек, но в голове вызывает ассоциацию с человеком. Потом идешь по тому же пляжу, видишь свой собственный след, и удивляешься, кто тут прошел? Или там в темноте поднялся и видишь в конце комнаты или коридора силуэт, как будто кто-то чужой стоит, а там всего лишь зеркало и твое же собственное отражение. Так и вся Вселенная, она, может, и паршивое зеркало, но все-таки зеркало. И вот идет человек по жизни, и во всем вокруг ему его собственное отражение мерещится. Как тут не заподозрить, что за всем стоит кто-то человекоподобный, да еще и жутко похожий на тебя самого?
– Но ведь отражение такое никакой силы не должно иметь, – возразил Андрей, – Откуда тогда вера в силу богов?
– Это как сказать. Отражается ведь не в тупом зеркале, а во всей вселенной, у которой и ресурсы и сила всей вселенной. Скажем, на грабли наступишь – тоже в некотором смысле отражение твоих собственных действий, а сила вполне заметна. А если взаимодействовать не с граблями, а чем-нибудь посложнее и помощнее?
– Ну, какую-нибудь Альфу Центавру таким отражением не погасишь…
– А кому она нужна, Альфа Центавра, и зачем ее гасить? Люди живут в первую очередь в обществе себе подобных, а отражение в других людях силу как раз имеет, и немалую. Начиная хотя бы с таких простых вещей, как репутация и отношения, которые по сути тоже все то же отражение твоих собственных действий. Так что, по человеческим меркам бог получается очень даже могущественный, особенно в том, что имеет значение.
– Ну, Альфа Центавра, может, никому и не нужна, но религии начали формироваться в земледельческих обществах, которым погода была очень существенна. А такой «бог» дождь вызвать не сможет.
– Во-первых, он и не вызывал. Поскольку отношения с богами в религиях всегда построены на чудесах, то никаких гарантий эффективности не требуется. Не пришел дождь, значит народ согрешил, всего делов. Необязательно, чтоб ощущение бога отовсюду перло, достаточно, чтобы хоть где-то чувствовалось. А достаточно сложные общества, чтобы в социальной сфере бог мерещился, уже на заре человечества были, хоть тот же Египет. А если еще жрецы чуть помогут, и будут соглашаться возносить молитву преимущественно тогда, когда по их приметам и так дождь скоро пойдет, то совсем убедительно будет. А, во-вторых, мне, кстати, где-то – приходилось погоду себе заказывать.
– Ну, это ты узлами Гайи в атмосфере интуитивно манипулировал. А у смертных такой возможности нет, уровень доступа не тот, – отмахнулся Андрей, сграбастал чайник и налил себе следующую чашку сам, – А в остальном, да, вроде все сходится. И с моим обьяснением стыкуется хорошо. Я-то показал, почему люди ищут простых обьяснений, а ты – почему находят таковое именно в форме человекоподобного бога. Это даже обьясняет почему поначалу богов изображали звероподобными. Социального взаимодействия было мало, а с лесом и животными – много. Вот животные и отразились. А усложнилось общесто, стали люди доминировать в окружающей среде, вот и боги очеловечились. Все логично.
Алина тем временем, аккуратно усевшись в кресле с прямой спиной, активно изображала интерес, но в разговор не вмешивалась. Мартик вел себя куда откровеннее, отвернувшись ко всем даже не столько спиной, сколько задницей, и со вкусом дрых, наблюдая во сне ясно что-то более интересное для него, чем наш разговор.
– А ты что, теорией религий и массовой психологией занимаешься, – поинтересовался я.
– Не, что ты! – махнул рукой он, – Мой конек – универсальная эволюция, в основном, в приложении к людям и обществу. Ну, как тот же пример о грамотности. Есть работа для грамотных – есть грамотные, есть много работы для неграмотных – тут же начинается критика школьной системы и плачи ярославен, что учить читать – это насилие над детьми. Типичный естественный отбор.
Или те же религии – это ж, по сути, мемовирусы в классическом эволюционном окружении – размножающиеся и мутирующие информационные сущности с ограниченным общим ресурсом – человеческими мозгами. Сумел такой вирус-религия заразить одного человека, тут же пытается, управляя им, заразить другие. И ведут себя так же, как и биологические вирусы. Попадет какой новый, где вокруг полно кандидатов в носители, и тогда из его мутаций преуспевают те, которым плевать на носителя, лишь бы новых нагнал. То есть, пусть зараженный хоть помрет, но если в процессе десять новых заразит, то у вируса окажется десять носителей вместо одного. Так и распространяется, как чума. А как заразит всех вокруг, тут потеря носителя – чистый минус, поскольку новых прозелитов взять неоткуда. Поэтому агрессивные мутации начинают вымирать вместе с носителями, а более мягкие занимают их место. У биологических вирусов это кончается тем, что от чумы остаются осенние простуды, а мемовирусы часто мутируют вообще в симбиотические формы, которые укрепляют общество, способствуют росту населения.
– Здорово, – обрадовался я, – Я ведь тоже этим всем увлекаюсь. А еще у меня любимый конек – теория корпоративных паразитов. Рассказать?
– Конечно, – кивнул Андрей, – Впервый слышу о такой.
– Дык, сам придумал. Смотри, – начал я, – любая организация, будь то фирма, госаппарат, армия, политическая партия, с одной стороны, имеет обьявленные цели. Там, «догнать и перегнать», «сделать много денег для владельцев акций» или, там, «патефон в каждую семью». С другой стороны, внутри них типичная эволюционная среда – ограниченный ресурс – фонд зарплат и премиальных, участники – работники, конкурирующие за этот ресурс, причем критерий выживания в этой среде не обязательно совпадает с декларированными целями организации.
– Конкуренция есть, – согласился Андрей, – но для эволюционной среды нужна еще наследственность и мутации.
– Ага, так они тоже там. Во-первых, люди сами меняются, подстраиваются, вот тебе и первый источник наследственности и мутаций. Понятно, что человек похож на себя вчера и меняется не сильно день ото дня. Вдобавок к этому, новых сотрудников обычно нанимают по «клубной системе», когда уже имеющиеся участники среды должны принять и одобрить новичков, что тоже обеспечивает своего рода наследственность, поскольку люди имеют тендецию выбирать похожих на себя. Скажем, менеджеру совсем не нужен подчиненный, который по поводу каждого решения будет спорить до хрипоты, ему нужен тот, кто в основном будет соглашаться и делать работу. То есть по сути «такой же как я, но знает, как писать код».
– Да, это может сработать. И правда, некоторое подобие наследственности и мутаций, – опять согласился Андрей, – Ну, хорошо, уговорил, внутри фирм – эволюционная среда с конкуренцией за ограниченный ресурс. И что дальше?
– А дальше классическая проблема управления эволюционной средой – твои цели, как ее владельца, одни, а критерий выживания внутри другой. Представь, у тебя лужайка перед домом, удобрил, посеял красивую траву, посадил тюльпаны в цветнике с краю, а тут ветер нанес семян одуванчиков, а кроты и белки начали жрать луковицы тюльпанов. Почему? Да потому что критерий выживания на этой лужайке не имеет никакого отношения к твому идеалу подстриженной зеленой травки и красивых цветов. Сорняки выживают лучше, а белкам и кротам твоя красота по фигу, а вот питательные луковицы – очень даже по делу, даже если и горчат немного. Так и в любой фирме, люди будут вынуждены приспосабливаться к критериям выживания в ней, а вовсе не к ее великой цели. И чем ближе их удастся совместить, тем эффективнее будет фирма в достижении своих целей, а если нет – то она быстро засорится паразитами, которые будут уметь в ней выживать без особого вклада в зарабатывание фирмой денег, или там что у этой организации в целях. Попросту говоря, вместо того чтобы растить цветы, будут жрать импортные луковицы. Это в общих чертах. Как звучит?
– Звучит интересно, – задумчиво ответил Андрей, задумался и, допив чай, отставил чашку на столик, – Слушай, давай в лабораторию и там серьезно на эту тему поговорим.
– К Укантропупычу? – уточнил я.
– Зачем? – удивился он, – У меня своя есть. В лабораторию к Сету я только для погружений хожу, что тоже нередко, но говорить лучше у меня. Атмосфера там более подходящая. Алина, не возражаешь, если я твоего уведу до вечера? А то похоже, что хорошая идея, черт его знает, может очень интересно получиться.
– Разумеется, Андрей Яковлевич, – с видом пай-девочки тут же согласилась Аля, которая явно уже начала скучать, – Вы же знаете, что я вообще считаю, что делом надо заниматься на работе, а не дома!
– Ну, давай показывай, куда перемещаться, – добавил я, задумавшись над этим «твоего», и почему у нее надо спрашивать разрешения… Но долго размышлять над этим не пришлось, поскольку Андрей показал картинку, и мы прыгнули к входу в его лабораторию.
* * *
Но долго размышлять над этим не пришлось, поскольку Андрей показал картинку, мы прыгнули к входу в его лабораторию и оказались на гранитной набережной тихого канала, наполенного серой водой. За нашими спинами пятиэтажное желтое здание в стиле неоклассицизма с элементами барокко было зажато между серобурозеленоватым пятиэтажным домом в стиле неоренессанса и другим, салатного цвета домом, в стиле чистого классицизма. Такую картину легко было представить в любом европейском городе, где работали итальянские архитекторы 17–18 веков, включая, разумеется, такие города как Рим или Венеция. Небо было, правда, отнюдь не итальянское и, скорее, навевало мысли о Питере или Сиэттле, отражаясь двумя тысячами оттенков серого в свинцово-серой воде канала.
– Красиво, правда? – спросил Андрей.
– Угу, – откликнулся я, скользя взглядом по набережным из красного гранита и каменному же мосту в чугунными перекрытиями и узорной решеткой ограждения, – Слушай, а чего вы с Алиной не поделили?
– А-а, это? – отмахнулся он, – Да просто дистанцию держит.
– А зачем?
– Понимаешь, я если к женщине обращаюсь на ты, это всегда звучит, как будто я за ней ухаживаю, даже когда ни сном, ни духом. На меня даже бывало мужики обижались, не то, что женщины, хотя сам понимаешь, у меня и в мыслях ничего такого не было. Просто стиль общения такой. А Алина таких вольностей с собой не позволяет.
– А правда ни сном, ни духом?
– Ты чо? Я что рехнулся? Уж проще к Нефриде подкатываться!
– А профессор не обидится?
– Лучше уж с Сетом иметь дело, чем с твоей! Кстати, респект твоей отваге.
– Не такая уж она и моя, – возразил я, пытаясь решить, как на такой диалог реагировать, но Андрей радикально решил эту проблему.
– А куда ты денешься? Или ты об отваге? – махнул он рукой, – А, ладно, недаром шутят, что русские в ресторане говорят о работе, а на работе о бабах. Давай лучше поближе к теме, ведь и правда что-то интересное нащупал. Пошли внутрь, что ли?
Я кивнул, и мы вошли в здание. Несколько гранитных ступенек вели вверх в широкий вестибюль. Сразу за ним начиналась квадратная шахта лестницы со стороной метров десять и вьющейся спиралью вверх, по ее периметру, на следующие этажи каменной лестницы. Мы поднялись на второй этаж, зашли в дверь налево в длинный коридор, и тут же нырнули в кабинет справа.
Мягкий ковер с высоким ворсом лежал на наборном паркете с узорами и укрывал середину большой комнаты, частично прижатый солидным огромным письменным столом с высоким креслом. С другой стороны стояли два мягких коричневых кресла, диван и журнальный столик. Расписанные стены с барельефами колонн поддерживали белый потолок с лепниной, а окна на противоположной стороне открывали вид на небольшой балкон с черной тонкой чугунной оградой и канал внизу.
Не дожидаясь приглашения, я плюхнулся в одно из кресел, Андрей сделал то же самое, откинувшись на мягкую кожаную спинку кресла, сложив руки на пухлом животе и вытянув ноги под стол.
– Итак, давай просуммируем, – начал он, – Теория твоя в том, что любая организация является, по сути, эволюционной средой, где критерий выживания часто не совпадает с целями организации. В результате, выживают не те, кто работают на цели организации, а просто те, что в ней выживают, причем по правилам выживания в ней. Ты их называешь корпоративными паразитами и утверждаешь, что они рано или поздно расплодятся и сожрут любую организацию, которая специально с ними не борется. С чем, на основании обширного исторического опыта, я готов согласиться. Теперь вопрос: а фигли ж толку? Что мне с этой теорией делать? В смысле, богам?
– Тебе – ничего, – согласился я, – Я ж эту теорию еще в реальности, среди смертных разрабатывал. Идея была повысить эффективность управления фирмами и всякими другими организациями. Хочешь у смертных повысить эффективность управления фирмами?
– Да у них и так уже вроде дальше некуда, и с сильным перебором, – проворчал он.
– Не понял, – поперхнулся я, – Во-первых, на эффективность это очень мало похоже, а во-вторых, как можно быть слишком эффективным?
– Ты пойми, одно дело – ехать на лошади, другое дело – ее загонять до смерти, – пояснил он, – В большинстве современных фирм людей не только используют куда больше 8 часов в день, да еще и в запредельных режимах.
– Ты знаешь, да, именно так, – согласился я, – И не могу сказать, что я от этого в восторге, но в чем тут системная проблема?
– Как в чем? – удивился он, – Вот смотри, человеческий мозг, он не рассчитан на постоянную интенсивную работу. Нейроны в максимальном режиме жрут глюкозу и кислород быстрее, чем кровь их может доставлять. Чтобы с этим справиться, нейроны облеплены глиальными клетками с дополнительными запасами глюкозы и кислорода, на случай интенсивной работы. Но и эти запасы не безграничны, в целом всего этого хватает часа на два реально интенсивной работы. Пока понятно?
– Не просто понятно, но даже хорошо известно, – кивнул я, – Именно так. А потом нужен перерыв, поскольку мозги отключаются, пока запас хоть немного не восстановится.
– Во-во, в норме они отключаются, – поддержал он, – Но если ударить по психике страхом или какой другой сильной эмоцией, в больших фирмах менеджмент обычно страхом оперирует, то человек будет продолжать подстегивать свой мозг. И что получится?
– Нейроны начнут умирать, от недостатка кислорода и голода, насколько я знаю.
– Вот именно, – ответил он, – То есть нормальный режим – два часа, перерыв, два часа, перерыв, а в тех фирмах, где людей ухитряются держать в напряжении восемь и более часов в день подряд, пусть даже и не каждый день, им просто жгут мозги. И вообще, получается, что кто-то спасает мозги, и его потом пинают за низкую производительность, а кто-то жжет и становится менеджером. С тем немногим, что у него в голове осталось. Плюс решения, которые в таких фирмах принимаются, создаются по сути в полубреду, на нейронах без достаточного количества кислорода и питания, что обьясняет многие гениальные корпоративные идеи, от которых весь мир то тошнит, то разбирает смех. Слыхал когда-нибудь про управление фирмой при помощи «corporate vision», ну, типа, «видение», или там «галлюцинация»?
– Ну, хорошо, а какое это отношение к делу имеет? – возразил я.
– Да, то, что если цель фирмы делать деньги, то запросто может оказаться, что так жечь наемных работников, а потом набирать новых, может быть выгоднее, чем относиться к ним бережно, – ответил он, – И тогда твое совпадение целей фирмы и выживания внутри ее ни к чему хорошему не приведет.
– Но ведь на такую фирму никто просто не пойдет.
– В России, Европе и Штатах, может, и не пойдут, да и то не уверен, а где-нибудь в Индонезии…
– Ну, может быть. Хотя вряд ли. Фирмы индустриального общества мозги вообще почти не используют, так что и жечь нечего – недаром восьмичасовой рабочий день именно с ними сформировался. А для бизнесов экономики знаний каждый новый человек очень дорого обходится, чтобы его на износ использовать. Так что, если паразитов изжить, эти к людям должны куда бережнее относиться. Это, скорее, паразиту выгодно подчиненных пережечь для своей карьеры внутри фирмы, и тут же сгоревших на работе заменить. Да и сами фирмы тоже в псевдоэволюционный процесс включены. Такие фирмы, управляемые зомби, должны терять рынок и выходить из бизнеса. Хотя ты прав, на живых людях экспериментировать – занятие сомнительное.
– А зачем на живых людях? – возразил он, – Если хочешь проверить теорию – сделай мир, засели демонами, и посмотри, что выйдет. Делов-то. Но даже если найдешь правильное применение, у тебя будет проблема с распространением твоей теории среди смертных.
– В смысле?
– Что в смысле? Сам подумай, применят твою теорию несколько раз, допустим, успешно применят. Опишут успехи в прессе. А дальше что?
– Ага, понял, – поперхнулся я, – Ну, да, станет теория модной, и ее начнут применять всякие идиоты…
– Вот именно, естественно с идиотскими результатами. Оно тебе надо? Или мне? Мы вообще стараемся со смертными знаниями не делиться, поскольку ничем хорошим это не кончается. Или просто не могут применить, или применяют так, что хоть стой, хоть падай. Вон, хоть когда расщепление атома утекло…