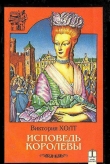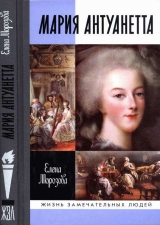
Текст книги "Мария Антуанетта"
Автор книги: Елена Морозова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
Королева все больше уходила в себя, а точнее в детей. Она вставала, в одиночестве завтракала, затем занималась сначала с Луи Шарлем, а потом с Марией Терезой. «Эта несчастная крошка – настоящее чудо. Если бы я могла стать счастливой, то стала бы ею только через детей. Лапочка (так называли дофина Полиньяк и королева. – Е. М.)очарователен, и я безумно люблю его. Он тоже меня любит, на свой манер. <…> Не буду говорить о здешних делах; мне кажется, что о них надо либо не говорить ничего, либо писать целые тома. <…> Недавно я подвернула ногу, и мне пришлось почти две недели провести у себя в комнате. Но когда ты не можешь находиться там, где тебе хотелось бы, можно хоть год оставаться на одном месте, не думая о том, чтобы поменять его», – писала Мария Антуанетта подруге Полиньяк. После занятий с детьми королева шла к мессе, в час семья в полном составе обедала, после обеда король и королева играли партию в бильярд, затем королева расспрашивала придворных дам о последних новостях, а в восемь к ужину из Люксембургского дворца приходили Месье и Мадам. В одиннадцать все отправлялись спать. Несколько раз принцесса де Ламбаль устраивала званые вечера, но королева скоро отказалась принимать в них участие. По словам Сен-При, она словно ждала кого-то, кто сумеет вытащить ее из «той ловушки, куда она попала», и в ожидании они вместе с королем затворились в Тюильри. Граф Мерси предостерегал королеву от затворничества, которое могут неправильно понять: «Думают, король изменил своим привычкам ездить на охоту и совершать прогулки только для того, чтобы подчеркнуть несправедливость своего пленения, известие о котором может вызвать возбуждение в провинциях, натравить их на столицу и развернуть против нее насилие. Не приписывая Вашему Величеству подобное мнение, тем не менее все говорят, что более всего своим затворничеством король обязан советам королевы. Самые благонамеренные люди полагают, что любая возможность выйти погулять в город или в саду Тюильри, предоставив возможность публике увидеть короля и королеву, а также какой-либо знак благорасположения с их стороны произвели бы впечатление самое благоприятное, свидетельствуя о спокойствии и доверии и устраняя любое подозрение в принуждении монарха», – писал Мерси королеве. Вряд ли королеве пришлось давать королю какие-то особые советы – 10 октября декретом Национального собрания король перестал быть «королем Франции и Наварры», а стал «королем французов». Королем-гражданином. Пережить этот удар такому ярому монархисту, как Людовик XVI, было нелегко. И королеве тоже. Единственная оставшаяся у нее надежда, зыбкая, почти нереальная, – это Ферзен. Ферзен, появлявшийся в Тюильри почти каждый день, так что гвардейцы перестали обращать на него внимание; с Лафайетом, которого шведский посол барон де Сталь считал единственно возможным спасителем Франции, Ферзен раскланивался как со старинным знакомцем. Но ни де Сталь, ни Ферзен ничего не могли сделать, кроме как вместе с Густавом III морально поддерживать королеву. В Национальном собрании начинались разногласия, и многие искренне надеялись, что через некоторое время все вернется в прежнее русло. «Брат мой, дружба и ласковая забота Вашего Величества меня особенно растрогали. <…> Несчастья, избежать коих самому прекрасному королевству, очевидно, не удастся, усугубляют наши повседневные горести. Остается надеяться, что пройдет время, и французы поймут, что они только тогда обретут счастье, когда восстановят порядок и правление их справедливого и доброго короля; рискну утверждать, что никто иной, кроме него, не смог бы настолько пожертвовать своими личными интересами ради спокойствия и счастья своего народа», – писала Мария Антуанетта шведскому королю. Переписка начала занимать важное место в распорядке ее дня: она писала королю Густаву, брату-императору, писала Артуа, писала Мерси, наведывавшемуся в Париж не чаще раза в две недели, писала Полиньяк. В этих письмах часто звучали горечь, отчаяние и страх; уверенная в несправедливом к ней отношении, она все же надеялась, что настанет время и справедливость восторжествует: «Однако злые люди действуют очень активно, и кажется, что их гораздо больше, чем добрых». Мадам Елизавета оценивала ситуацию еще более жестко: «…я считаю, что гражданская война уже началась, ибо, когда жители королевства разделились на две части и более слабая часть имеет шанс сохранить жизнь, только будучи обобранной до нитки, я не могу называть это иначе, нежели гражданской войной». «…Слова “свобода” и “деспотизм” прочно отпечатались у них в головах, однако они не осознают, в чем состоит разница между ними, и бросаются от любви к первой к ужасу перед вторым», – писала о жителях королевства Мария Антуанетта.
* * *
4 февраля 1790 года Людовик XVI, явившись по приглашению в Манеж, где теперь заседало Учредительное собрание, произнес короткую и на удивление вразумительную речь, призвав всех, кто, подобно ему, перенес немало страданий, утешиться надеждами на будущую конституцию, и пообещал защищать ее и воспитывать сына в уважении к ней и любви. В заключение он воззвал к миру и согласию. Речь встретили бурными аплодисментами: депутаты быстро сообразили, что король не только подал идею, но и фактически предложил текст новой присяги верности «нации, закону и королю». Королева, ожидавшая супруга вместе с дофином, отринула ставший привычным надменный вид и также произнесла небольшую речь: «Я разделяю все чувства короля. Всем сердцем, всей душой я поддерживаю его слова, продиктованные любовью к народу. Вот мой сын, я воспитываю его на примерах добродетелей лучшего из отцов; с младых ногтей я буду учить его уважать общественную свободу и соблюдать законы. Надеюсь, настанет день, когда он станет самой прочной их опорой». Полагают, речь была написана заранее одним из министров, однако толпа аплодировала королеве, в честь ее раздавались здравицы, и впервые за бесконечно долгое время Мария Антуанетта вновь почувствовала себя любимой народом. Даже реплика пылкого республиканца Камилла Демулена о «супруге монарха, которая не является королевой Франции, и ее должно называть всего лишь “Антуанеттой, женой короля французов”», не испортила ей настроения. «Это был первый счастливый день за последний год. <…> Ах, как сладостно вновь обрести надежду. Пусть она пока еще призрачна, однако я лелею ее в своем сердце, ибо она успокаивает мои тревоги за будущее детей», – писала она принцессе де Ламбаль; радость давно не посещала Марию Антуанетту… Уступки короля Собранию пришлись по нраву отнюдь не всем. «…Надеюсь, что он (демарш короля от 4 февраля. – Е. М.)не обескуражит наших союзников и они наконец сжалятся над нами», – размышляла сестра Людовика Елизавета. Чем дальше, тем отчетливее в письмах ее прослеживалась надежда на помощь заграницы и, в частности, брата Артуа, разжигавшего смуты на юге Франции.
«Не думайте, однако же, что вся нация участвовала в трагедии, которая играется ныне во Франции. Едва ли сотая часть действует, другие смотрят, судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре! Те, которым терять нечего, дерзки, как хищные волки; те, которые всего могут лишиться, робки, как зайцы; одни хотят все отнять, другие хотят спасти что-нибудь. Оборонительная война с наглым неприятелем редко бывает победоносной. История не кончилась, но по сие время французское дворянство и духовенство кажутся худыми защитниками трона», – писал в «Письмах русского путешественника» Н. Карамзин, весной 1790 года посетивший Париж. Во Франции происходили перемены, которые королю и королеве оставалось только принимать: их согласия никто не спрашивал. Отринув английский образец, Собрание утвердилось как однопалатное. Вместо полновесной монеты, которой становилось все меньше, стали выпускать бумажные ассигнаты; страну поделили на 83 департамента, упразднив традиционное деление на провинции; упразднили сословия, превратив всех в «граждан»; конфисковали имущество церкви, разогнали монастыри, для духовенства создали гражданскую конституцию… Те, кто заседал в Учредительном собрании («чудовища», по словам Мадам Елизаветы), не часто вспоминали о монархах; королевская семья превращалась в живой символ монархии, вокруг которого плелись интриги и заговоры. Казалось, никто, кроме короля и королевы, не стремился к компромиссам. В Собрании не было единства. За Лафайетом [24]24
Генерал Буйе сравнивал Лафайета с Дон Кихотом: благородному идальго вскружили голову рыцарские романы, а маркизу – воздух Америки.
[Закрыть]следовали сторонники конституции, в надежде на смену династии Орлеан-Эгалите увлекал своих приверженцев за левым, якобинским крылом; монархисты отчаянно боролись с либералами. Мадам Елизавета поддерживала брата Артуа, стремившегося развязать гражданскую войну, чтобы вернуться во Францию победителем и – кто знает! – быть может, даже взойти на трон. Секретарь королевы Ожар усиленно уговаривал ее уехать в Австрию к брату, чтобы не мешать Людовику здесь, а помогать ему из-за границы. Людовику со всех сторон предлагали бежать (в том числе и Ферзен). Прованс пытался ловить рыбку в мутной воде, оказавшись причастным к заговору Фавра, предприятию малопонятному и, по словам Кампан, заключавшемуся в том, что короля хотели похитить, а в Париже устроить контрреволюцию. Историю, в которой одним из тайных моторчиков был граф Мирабо, намеревавшийся вытолкнуть Прованса на первую роль и стать его тайным советником, раздули, маркиза де Фавра, ни в чем не сознавшегося, обвинили в подготовке убийства Лафайета и Байи и повесили. А через три дня после казни маркиза его вдова и сын, в глубоком трауре, появились на приеме у королевы, в надежде публично снискать королевских милостей. Но их надежды не оправдались: королева, тайно переправившая вдове Фавра увесистый мешочек с луидорами, на людях отнеслась к ним ровно, и не более того. Когда прием закончился, королева прибежала к верной Кампан и, расплакавшись, сказала: «Роялисты будут порицать меня за то, что я равнодушно отнеслась к несчастному молодому человеку, а революционеры возненавидят за то, что я принимала его у себя».
Королева плакала все чаще. 20 февраля 1790 года после продолжительной болезни скончался ее любимый брат Иосиф. Преемником его стал Леопольд II; в последний раз Мария Антуанетта виделась с ним, когда ей было десять лет; они никогда не переписывались. «Если покойный император принимал дела сестры близко к сердцу по причине своего особого к ней отношения, то для нового монарха причин таковых очевидно не будет. Он едва знаком с королевой, и они никогда не питали особой симпатии друг к другу. Сии соображения прискорбны как для общего дела, так и для меня лично; они лишь добавляют отвращения, кое внушает пребывание в стране, ставшей театром ужасов», – писал Кауницу после смерти императора Мерси. Однако новый император сразу прислал сестре письмо, в котором заверял ее в своей искренней дружбе и симпатии. «Хотя я уверен, что утрата невосполнима… прошу вас, удостойте меня такой же дружбой и доверием, испытайте меня. <…> Располагайте мною… позвольте писать вам часто и без лишних формальностей; надеюсь, вы будете поступать так же», – написал Леопольд сестре 27 февраля. Ответ Марии Антуанетты датирован 1 мая того же года: «…Действительно, смерть императора для меня двойная утрата, ибо в его лице я потеряла и брата, и друга, но ваши заверения в дружбе явились для меня большим утешением. Поверьте, дорогой брат, мы всегда будем их достойны; я говорю мы, потому что не разделяю себя и короля. <…> Не стану говорить о нашем сегодняшнем положении, оно слишком мучительно и должно удручать любого государя, а тем более такого доброго родственника, как вы. Только время и терпение смогут успокоить умы; это война мнений, и она не окончена». Почему королева так медлила с ответом? Только ли потому, что ждала «специального курьера из Вены», или все еще пребывала в оцепенении, охватившем ее после страшных октябрьских дней? «Королева, несмотря на все удары рока, прекрасна и величественна, подобно розе, на которую веют холодные ветры, но которая сохраняет цвет и красоту свою», – писал Карамзин.
Но розе, чтобы защитить себя, нужны шипы. Когда вечером 13 апреля на террасе Тюильри раздались выстрелы и обеспокоенный король поспешил к королеве, он нашел ее в комнате сына. «Я была на своем посту», – ответила она, указав на мальчика. Постепенно оцепенение отпустило королеву, и она начала действовать, иначе говоря, вмешиваться в политику – с единственной целью: защитить себя и семью. Говорят, замкнутое существование в Тюильри и любовь к детям настолько сблизили ее с Людовиком, что у них установилось полное взаимопонимание, и она готовилась действовать за них обоих.
* * *
Одним из первых шагов королевы стало ее согласие на тайные переговоры с Мирабо, авторитетным оратором и политиком, умело маскировавшим свои монархические взгляды. Имея массу долгов, он жаждал денег, а обладая острым умом и непомерным честолюбием, хотел получить пост министра. Он сделал ставку на Месье, стремившегося выловить в мутных водах интриг должность генерального наместника, а потом, может, и корону. Но комбинация провалилась, Прованс ловко выкрутился из запутанного дела Фавра, и Мирабо снова стал искать пути к королю, а точнее к королеве. Посредником он наметил графа Мерси, встречу с которым организовал граф де Ламарк. Во время встречи Мирабо, признавая опасность сложившегося положения, стал убеждать посла, что единственный выход – увезти короля из Парижа, но не из Франции, и попросил повлиять на королеву, ибо, насколько ему известно, королева готова встретиться с кем угодно, только не с ним. «…Ужас, который внушает мне его аморальность, вместе с причинами личного характера, а также стремлением проявлять осмотрительность, все вместе является основанием, чтобы не видеть его. <…> Но если принять такого человека все же будет необходимо, я сумею пожертвовать личными антипатиями», – писала Мария Антуанетта секретному агенту барону Флахландеру. Под личной причиной королева имела в виду опасения, что Мирабо явился одним из инициаторов дней 5 и 6 октября. (При личной встрече Мирабо удалось оправдаться перед королевой.) Но так как больше никто из влиятельных членов Собрания услуг своих не предлагал, королеве пришлось согласиться встретиться с «неприятным человеком». Первая встреча состоялась в покоях мадам Тибо, первой камеристки королевы. Людовик согласился оплатить долги известного депутата, обладавшего весом и влиянием в Собрании и готового использовать эти богатства для восстановления королевской власти. С подачи Мирабо Собрание делегировало королю право войны и мира, иначе говоря, право объявлять войну.
4 июня королевская семья в сопровождении отрядов национальных гвардейцев и швейцарцев отбыла в Сен-Клу. «Думаю, нам позволят воспользоваться хорошей погодой и отправиться во дворец Сен-Клу, находящийся совсем рядом с Парижем. Для нашего здоровья совершенно необходимо подышать чистым свежим воздухом, но мы будем часто возвращаться сюда. Надо завоевывать доверие этого несчастного народа: его все время стараются настроить против нас! Только великое терпение и чистота наших помыслов могут вновь привлечь его к нам», – писала Мария Антуанетта накануне отъезда Леопольду II. В этот же день она написала сестре Марии Кристине: «…все мои желания и все мои действия направлены только на то, чтобы король был счастлив, за него я готова отдать всю мою кровь. А если говорить искренне, то и за всеобщее счастье; ибо я желаю только одного: восстановить порядок и спокойствие в этой несчастной стране и приготовить моему несчастному ребенку более счастливую участь, нежели наша; ибо мы видели слишком много ужасов и слишком много крови, чтобы чувствовать себя по-настоящему счастливыми». В Сен-Клу, несмотря на непременные караулы (сторожевой пост выставили даже перед спальней королевы), семья чувствовала себя значительно лучше. Все, особенно дети, много гуляли, король, сопровождаемый только адъютантом Лафайета, ездил на охоту, королева отправлялась в парк с одной служанкой, за которой на большом расстоянии следовал караульный. Раз в две недели королевская чета возвращалась в Тю-ильри, проводила там ночь, а наутро вновь отправлялась в Сен-Клу. В столице говорили, что теперь никто не посмеет утверждать, будто парижане держат короля в плену.
Когда королевская семья перебралась в Сен-Клу, Мирабо разработал вполне реальный план бегства. Семья, которую охраняли далеко не так бдительно, как в Париже, собиралась в лесу, в четырех лье от дворца, где их ждала вместительная берлина; нескольких караульных, сопровождавших королевских особ, предполагалось либо уговорить бежать вместе, либо обезвредить с помощью верных слуг и швейцарцев. У себя в спальне король оставлял письмо Национальному собранию, в котором объяснял причины своего отъезда (предполагалось, что король с семьей укроется в Нормандии). Так как хватиться короля должны были не ранее девяти часов, когда королевская семья обычно возвращалась с прогулки, потом час или более везти письмо в Париж, в Собрание, там разыскивать председателя и депутатов… Словом, беглецы получали шанс отъехать так далеко, чтобы более не опасаться погони. Король уедет в Руан, откуда с помощью верных ему депутатов начнет переговоры с Собранием и вернет себе власть. Королева план одобрила, и однажды, когда к девяти вечера во дворец никто из королевской семьи не вернулся, Кампан, посвященная в план побега, вздохнула с облегчением. Но, увы, вскоре раздался стук колес… Потом мадам Кампан спросила у ее величества, почему они решили остаться, и та ответила, что король посчитал необходимым сначала вывезти из Франции своих теток.
В Сен-Клу король регулярно получал отчеты от Мирабо. Вдохновленный оплатой долгов и обещанием миллиона в будущем, тот, оставаясь революционным рупором Собрания, втайне изо всех сил старался примирить монархию и революцию. К несчастью, портфель министра король предложить ему не мог: Учредительное собрание запретило своим членам занимать министерские посты. По этой или иной причине, но Мирабо все больше внимания проявлял не к королю, а к королеве. В одной из его записок содержались такие слова: «Королю не на кого положиться, кроме как на жену. Она будет в безопасности, только если королевская власть будет восстановлена. Мне хочется верить, что ей не нужна жизнь без короны; но я совершенно уверен в том, что, не сохранив короны, она не сохранит жизнь». Королева также не обходила его вниманием: «Господин граф, переговоры с М*** продолжаются, и, если он искренен, у меня есть все основания быть им довольной. Но в том ужасном положении, в котором мы находимся, он полагает, что нам надо атаковать тем же оружием, которое используют против нас, а именно деньгами, кои надобно употребить с толком и в нужное время; но где их найти? Надо бы, чтобы король тайно сделал заем у моего брата, в Испании, Неаполе или на Сардинии, два или три миллиона, списав их на прошлый цивильный лист. <…> Надобно избежать главной опасности – чтобы ни один француз, а главное, ни один министр не узнал об этом. Ибо они все, даже те, кто не уличен в неверности, ищут своей выгоды.
Мне кажется, еще один разумный пункт плана М*** заключается в следующем: если положение во Франции не изменится к лучшему, воспользоваться тем, что между Пруссией и Австрией царит мир, и под предлогом опасности, грозящей обеим державам, обязать их вмешаться в здешние дела, но не для совершения контрреволюции и не вводя войска, а в качестве гарантов всех договоренностей… а также по причине дурного обращения с королем. <…> Но главное, решить вопрос с деньгами», – писала королева Мерси, возможно, не задумываясь о том, что привлечение к решению внутренних вопросов иностранных держав может быть воспринято как измена – в чем впоследствии ее будут обвинять. Мария Антуанетта согласилась лично встретиться с Мирабо. Встреча состоялась 3 июля в Сен-Клу, на закате, в апартаментах королевы или в парке, в павильоне Армиды (точно не известно), и продолжалась около сорока минут. Все это время дю Сайан, племянник Мирабо, в тревоге ждал в коляске возле потайной калитки, ибо, перед тем как скрыться в парке, дядя протянул ему конверт и сказал: «Если через час я не вернусь, скачи во весь опор, передай письмо по адресу и начинай бить в набат и извещать народ о коварстве двора!» Не правда ли, похоже на спектакль в роще Венеры? Но в отличие от вправду ошеломленного Рогана опытный оратор и политик Мирабо играл: он понимал, что если бы его в самом деле захотели устранить, это сделали бы гораздо более простым способом. О чем говорили Мирабо и королева, осталось тайной; рассказ Кампан, которой королева якобы поведала о содержании беседы, историки не считают заслуживающим доверия. Хотя почему бы Мирабо, этому покорителю женских сердец с внешностью чудовища, не броситься к ногам красавицы королевы, восклицая: «Мадам, монархия спасена!» А по дороге в Париж он вполне мог сказать племяннику: «Она, конечно, королева и аристократка, но она поистине несчастна, и я спасу ее». Может, он действительно спас бы королеву, если бы смерть не помешала ему… Говорят, почти такие же слова сказал Барнав, сопровождавший в Париж королевскую семью после неудавшегося бегства. Ему тоже не удастся спасти королеву, равно как и сохранить собственную жизнь: через полтора месяца после казни Марии Антуанетты он взойдет на эшафот.
* * *
Одна из поездок королевской семьи в Париж была приурочена к празднованию Дня федерации – первой годовщины падения Бастилии. Королеве очень не хотелось принимать в нем участия: зная, что народ настроен против нее, она боялась прибывших из глубинки делегатов, боялась повторения октябрьских дней. «Я с ужасом думаю об этом дне; на нем соберутся все те, с кем для нас связаны самые жестокие и горькие воспоминания; нам придется находиться среди них. Для такого дня нужна особенная смелость», – писала Мария Антуанетта Мерси. Чтобы провести самое грандиозное, по свидетельствам современников, революционное торжество, на Марсовом поле соорудили гигантский амфитеатр на 400 тысяч мест и возвели алтарь отечества; в строительстве принимал участие весь Париж.
С самого начала праздника зарядил дождь, но настроения никому не испортил. Делегаты шествовали торжественным маршем, возлагали цветы на алтарь отечества и клялись в верности нации, закону и королю. Король торжественно произнес присягу: «Я, король французов, клянусь употребить всю данную мне законами государства власть для поддержания конституции, принятой Национальным собранием и утвержденной мною». Одетый в форму Национальной гвардии, дофин радостно вертелся во все стороны и всем улыбался. Королева не раз поднимала сына, чтобы все увидели его, но, когда дождь усилился, обняла его и укутала шалью. Трехцветные ленты, украшавшие ее прическу, намокли и обвисли. Самые бурные аплодисменты снискал Лафайет, восседавший на белом коне в сверкающем золотыми эполетами мундире. (Говорят, Мария Антуанетта называла его «командиром лягушек» – так как парижане были для нее «лягушками».) Парижане зачитали адрес, в котором обращались ко всей Франции; адрес завершался словами: «Да здравствует нация, закон и король!»
По свидетельству Кампан, ликующие люди «любили короля так же сильно, как конституцию, и конституцию так же сильно, как короля, и невозможно было ни в умах, ни в сердцах их отделить одного от другой».
Праздник федерации 14 июля оживил симпатии к королевской семье. «Королю и его семье постоянно аплодировали; казалось, всюду царят исключительно единодушие и согласие», – писал русский посол в Париже И. М. Симолин. «Депутаты из провинций с восторгом взирали на короля и королеву и беспрестанно являли им трогательные свидетельства своего почтения, любви и преданности, а Их Величества столь же благосклонно на них отвечали. Они были в восторге от королевы, коя была величественна и любезна как никогда», – подчеркивал Ферзен. Возвращались под крики «Да здравствует король и его семья!». Федераты, прибывшие из самых дальних уголков Франции, с восторгом взирали на короля и королеву с детьми и до самого отъезда постоянно приходили в Тюильри выразить свою любовь к монарху и его семье. Дурное настроение королевы рассеялось, она вновь упивалась любовью подданных. По словам мадам де Турзель, это были последние счастливые дни королевы. К сожалению, король не смог воспользоваться роялистскими настроениями, царившими в провинциях. Возможно, потому, что, как виделось другой половине зрителей, во время праздника король и королева были мрачны, король сидел в кресле и равнодушно смотрел поверх голов, а королева и вовсе едва скрывала дурное настроение, ибо до ее слуха долетало только «Да здравствует народ!». Кто-то назвал праздник федерации торжественными похоронами монархии.
* * *
«Завтра мы уезжает в Сен-Клу, – писала 20 июля Мария Антуанетта Мерси. – …Признаюсь, я ужасно боюсь ненависти Собрания, которое было раскритиковано федератами». Покинув Париж и вернувшись к прежней жизни в Сен-Клу, королева несколько успокоилась. Мадам Кампан рассказывала, как однажды к окнам дворца пришла депутация из пяти десятков не богато, но опрятно одетых мужчин и женщин, пожелавших выразить свою любовь ее величеству; королева растрогалась до слез. В Сен-Клу Мария Антуанетта почти каждый день принимала Ферзена, снявшего в ближайшей деревне дом. Ферзен незаметно проникал в апартаменты королевы и подолгу оставался там; иногда караульные видели, как он покидал дворец глубокой ночью. Король делал вид, что ничего не замечает; может, он действительно ничего не замечал, ибо большую часть времени проводил на охоте, может, не хотел омрачать настроение королеве, а может, боялся потерять одного из тех немногих, на кого он мог полностью положиться. Ни королева, ни король не скрывали от Ферзена помыслов и надежд, связанных с Мирабо, так как хрупкое равновесие, сложившееся после июльских празднеств, в любую минуту могло быть нарушено. Неожиданно вскрылась попытка отравить королеву – кто-то подсыпал яд в сахарную пудру, которую королева разводила в стакане воды и выпивала перед сном. Мадам Кампан пришла в ужас: она же лично толчет для королевы сахар! Но Мария Антуанетта успокоила ее: «Нет, против меня не станут употреблять яд. Бренвилье [25]25
Маркиза де Бренвилье(1630—1676) – знаменитая отравительница, приговоренная к смертной казни.
[Закрыть]осталась в прошлом; настало время клеветы, она убивает вернее; меня погубит клевета». После упразднения сословий за границу хлынул поток эмигрантов-аристократов; постепенно образовалось два центра притяжения: Турин, где пребывал суетливый граф д'Артуа, засыпавший государей Европы письмами от имени брата, и Кобленц, где обосновался принц Конде и куда стекалась вооруженная эмиграция. Интриги роялистов за границей компрометировали короля и королеву, вынуждая их сторожей повышать бдительность и побуждая демократическую оппозицию еще яростнее атаковать королевские прерогативы. Мария Антуанетта опасалась за сохранение цивильного листа. В августе 1790 года в очередной записке двору Мирабо писал: «Четверо врагов наступают ускоренным шагом: налоги, банкротство, армия, зима. В двух словах: гражданская война неизбежна и, быть может, даже необходима; но к событиям надо готовиться, управляя ими. Вопрос: нужно ли подтолкнуть ее или, наоборот, предотвратить?» Людовик предпочитал плыть по течению, королева пребывала в смятении: ей очень хотелось верить в национальное примирение, хотя бы в том виде, в каком оно было явлено в июле. Позиция Мирабо ее пугала. «Неужели кто-то действительно думает, что мы можем развязать гражданскую войну?» – писала она Мерси. Мирабо продумывал и просчитывал ситуацию. Полагая гражданскую войну неизбежной, он считал, что к ней надо подготовиться, заручившись поддержкой армии, основой которой предстояло стать отрядам швейцарцев (тех самых, которые погибнут 10 августа, защищая Тюильри). Королю следовало наконец занять четкую позицию, ибо «нерешительность лишь накаляет противоречия, пробуждает недоверие и приводит к непредсказуемым последствиям».
Под влиянием Ферзена Мария Антуанетта стала возлагать все надежды на заграницу. «Только за границей мы сможем найти помощь и поддержку», – писала она брату Леопольду. Прежде королева растрачивала свое время в погоне за развлечениями, теперь вся энергия ее – при поддержке Ферзена – уходила в активную деятельность по восстановлению королевской власти старого образца. «Необходимо, чтобы королева сжигала оригиналы получаемых ею писем. Но не менее необходимо сохранять копии полученных ею писем. Эти копии должны быть переписаны рукой надежного человека», – наставлял королеву Мерси, по долгу службы обладавший навыками секретной переписки. Впоследствии королева обучится писать тайнописью, шифровать письма с помощью книги (романа Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния»), накалывать текст иголкой…
К заграничным советчикам королевы принадлежал Врете иль, отбывший в эмиграцию сразу после 14 июля 1789 года. Если Мирабо хотел восстановить монархию, видоизмененную по английскому образцу, иначе говоря, слегка ограниченную парламентом, то Бретейль намеревался спасать и восстанавливать монархию прежнюю, ту, что существовала до Генеральных штатов. Первым пунктом в плане Бретейля стояло спасение монарха.Поддержанный Ферзеном, Бретейль советовал Людовику XVI отправиться в Мец, крепость рядом с германской границей, где, окружив себя верными войсками под командованием генерала Буйе и призвав на помощь войска соседних монархов, начать наступление на революцию. Ферзен передал подготовленную Бретейлем записку их величествам. Немногословный северный кавалер оказался в центре интриг, плетущихся вокруг королевской четы с целью восстановления монархии, и, возможно, через некоторое время ему пришлось бы конкурировать с пылким южанином Мирабо за влияние на короля, а главным образом на королеву. Но судьба распорядилась иначе: 2 апреля 1791 года Мирабо скончался. 4 апреля его останки с великими почестями похоронили в Пантеоне.
Не приняв плана бегства Мирабо, их величества дали уговорить себя Бретейлю. Отныне Королевский совет рассредоточился между особняком Ферзена в Париже, штаб-квартирой Буйе в Меце и швейцарской деревушкой, где пребывал Бретейль. Под неусыпным оком королевы король начал писать манифест, Ферзен и Буйе готовились к предстоящему побегу, а Бретейль искал помощи у иностранных монархов. В центре подготовки к побегу стояла королева: она координировала, писала брату, вела переписку со всеми, кто, как ей казалось, мог хоть как-то помочь. Но главное – она поддерживала Людовика XVI, всегда склонного к компромиссам и бездействию. «Каждый день новые несчастья… но самое большое несчастье – это находиться в разлуке с друзьями», – писала королева Полиньяк. Но, понимая, насколько ее друзьям опасно оставаться подле нее, она сама убедила принцессу де Ламбаль, последнюю оставшуюся с ней близкую подругу, уехать в Лондон. Она даже придумала для нее вполне достойную миссию – уговорить премьер-министра Питта Младшего оказать королевской семье более существенную помощь, нежели расплывчатое обещание «не оставлять в беде французскую монархию».