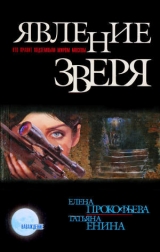
Текст книги "Явление зверя"
Автор книги: Елена Прокофьева
Соавторы: Татьяна Енина (Умнова)
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Перед тем как посадить, отца тестировали в психушке и признали здоровым, – наверное, просто очень хотели, чтобы главарю самой кровавой в Шатуре банды дали вышку.
Вышку дали, но потом случилась амнистия и ее заменили пятнадцатью годами лишения свободы, а вышел отец – через десять. Опять амнистия… Или за хорошее поведение…
Не было бы амнистий – сложилась бы моя жизнь совсем по-другому. Моя жизнь, бабушкина жизнь и жизнь множества других людей, которые не хотели отдавать свое, – потому что, едва выйдя на свободу, отец сколотил новую банду, ничуть не менее кровавую, чем предыдущая. Потому что мой отец – убийца и садист. Потому что он никогда не просит, когда может взять сам.
Я перерезал горло своему отцу и убежал из дому. Я мчался прочь, как будто за мной гналась тысяча чертей… Да что там черти, сам же отец и гнался… С ножом… Окровавленным… Я весь был в крови – хорошо, было раннее утро и по улицам никто не шастал, – я бежал прочь от дома и смеялся сквозь слезы. Сквозь слезы по бабушке и от радости, что убил отца. Никогда и ничему я не радовался сильнее.
Умылся и переоделся я в гараже возле железнодорожной станции, где стоял старенький «жигуль» одного из моих приятелей, переоделся в драный ватник и промасленные штаны и побежал на электричку.
С тех пор я больше никогда не появлялся дома, даже в город не приезжал никогда. Я сел в электричку и уехал в Москву. Единственное, о чем я жалею, что не смог похоронить бабушку… Соседи, должно быть, постарались, похоронили по-человечески – бабушка дружила с соседями, они ее любили.
Я ехал в электричке и впервые в жизни жалел, что у меня нет матери, что я не знаю, где она живет и как ее имя. Я не спрашивал никогда, а бабушка не говорила, не любила она ее… А за что ее любить? Где и как я жил первые два года, естественно, не помню, и к счастью, наверное. Мать привела меня к бабушке через пару месяцев после того, как посадили отца, сказала, что уезжает и меня с собой не берет. Поставила условие, либо к бабушке, либо в дом ребенка. Бабушка меня взяла. И выходила. Потому как сдала меня ей мамочка тощим, грязным и насквозь больным.
Никогда не думал, что пожалею о том, что так и не узнал ее имени. Может быть, подался бы к ней… А так – куда?!
Москва – огромный город, я был в нем раза три, наверное, за всю жизнь! Куда я пойду – без денег, без еды, без единого знакомого?! Никуда я так и не пошел… Так и остался на вокзале.
Другой на моем месте Кривому руки бы целовал, был бы ему предан, как собака, а я не могу… Он спас мне жизнь, сделал из меня человека и дал мне все, что я мог у него попросить… Он бывал жесток, он унижал, он окунал меня лицом в грязь, он тоже учил меня… как когда-то отец… Учил тому же самому – не верить, не бояться и не просить, когда можешь взять сам. Учил меня быть сильным… Нет, учил он не так, как отец, у Кривого свои методы, менее жестокие и более действенные, но во многом до тошноты похожие.
Когда-то я уважал его и старался быть полезным, но с тех пор прошло четыре года, с тех пор я узнал Кривого лучше, чем кто бы то ни было. Люди для него – мусор. Пыль придорожная. Если будет нужно, он подставит меня под пулю и имя мое забудет на следующий день. Я не обижаюсь и не питаю к нему за это злобных чувств, потому что знаю – это нормально, это в порядке вещей. Он не должен любить меня и заботиться обо мне. С какой стати?
Есть прекрасный мир и есть его изнанка. В прекрасном мире люди заботятся друг о друге, готовы пожертвовать жизнью ради ближнего и любят своих детей. В изнанке – все наоборот. И тут ничего не поделаешь. Если уж не повезло и нормальный мир вышвырнул тебя пинком под зад, значит, ты должен принять законы изнанки без обиды и без криков: «Почему я?!»
Почему я?
Ну почему?…
Почему я родился не в то время, не в том месте, не у тех родителей? Почему именно я должен быть циферкой в малоутешительной статистике неблагополучных детей, из которых вырастают подонки и деклассированные элементы, паразиты на теле здорового общества? Почему я должен не верить, не бояться и не просить? Потому что этого хотел мой отец – скотина, чудом избежавшая расстрела?!
Я был диким, я ничего не боялся и всех ненавидел. Я не желал принимать правил общества, в которое попал, я отказывался воровать и просить милостыню для местного пахана по кличке Купец. Однажды я с ним подрался, и тут пришел бы мне конец, если бы не появился Кривой, в то время едва только взошедший на трон Империи бомжей. Он забрал меня с собой, отмыл, накормил и даже вытащил из-под земли – купил мне маленькую квартирку в Сокольниках. Я старался быть полезным и исполнительным, я учился жить по правилам – по понятиям.
Я думал, что научился…
Как же хорошо, когда не больно. Или почти не больно. Когда кровать раскачивается и как будто куда-то плывет. Когда темно и можно открыть глаза без страха поранить их ярким светом.
– Тебе очень плохо?
Инночка сидит рядом с моей кроватью, в приоткрытую дверь вливается желтый свет из коридора, и кто-то натужно храпит слева.
– Нет, мне хорошо.
– У тебя температура поднялась. Ты спи…
– Я выспался. А ты чего здесь сидишь?
– Дежурство…
– Возле моей кровати?
– Ну ты чего? Обиделся?.. На что?
– Да брось, не обращай внимания. Температура у меня, мелю черт-те что.
– Я думала, ты умираешь. – Инночка вздохнула. – Ты был весь белый, мне показалось, что ты не дышишь.
– Испугалась?
– Ага… Все так странно… Ты ведь уже поправлялся совсем… Это… дядя твой виноват, да? Чем-то тебя расстроил?
– Нет, не дядя. Просто поплохело вдруг…
– Ну, ничего. Все будет хорошо, – так врач сказал.
– Врача вызывали?
– Конечно! Дежурного… А завтра Елена Михайловна тебя посмотрит.
Елена Михайловна – это хорошо… Елена Михайловна – спец по огнестрельным, вытаскивала и не таких, как я…
Я вышел из больницы через неделю, чувствуя себя новорожденным. Как будто кончилась одна жизнь и началась другая и надо заново учиться смотреть на мир и понимать его. Привыкать.
Навестил Наташку. Она закатила мне звонкую истерику. Пришлось ее немного побить. Хотя, с другой стороны, ее можно понять: «ласточкино гнездо» являло собой угнетающее зрелище.
Подогнув под себя ноги и упершись щекой в ладонь, около ящика-стола сидел Гошка, сосредоточенный и мрачный. Вика, широко раскинувшись, спала на матрасе у стены. У другой стены – напряженно вытянувшись, лежала сама Ласточка, бледная даже в тусклом свете пыльной лампочки, со стиснутыми зубами, с широко открытыми черными, пустыми глазами. Сначала мне показалось, что она мертва, но тут Ласточка моргнула, судорожно сглотнула и снова замерла. Зрелище было кошмарное.
– Что с ней? – спросил я у Гошки.
– Она не встает, – проговорил мальчишка еле слышно. – Уже два дня. Ничего не ест, только воду пьет.
– И не колется?
– Нет… Я ей предлагал, но она молчит. Лежит с открытыми глазами уже двое суток и молчит… Работать идти надо, а я ее оставить боюсь.
Я увидел, как Гошкины глаза налились слезами.
– Чего делать-то, Юраш?
– Работать иди. Все равно ей не поможешь.
– А вдруг она…
– Вдруг. Ты посмотри на нее, не сегодня-завтра она умрет. Будешь ты с ней рядом или нет – все равно умрет.
Гошка хлопнул ресницами, и две огромные слезы скатились по чумазым щекам.
– Юраша… Помоги мне ее вынести, а? На свет… Может, ее в больницу?..
– В какую больницу?!
Гошка разрыдался. Проснулась и завопила Вика. И Наташка подвывала…
Я поспешил ретироваться.
Я шел по подземному коридору и думал, что теперь я сюда долго-долго не приду.
Инночка заботилась обо мне нежно и бережно, сначала она просто приезжала ко мне варить супы и жарить котлеты, а потом поселилась совсем.
С ней было тепло и уютно, наверное, из нее могла бы получиться очень хорошая жена для милого и интеллигентного юноши… Инночка, Инночка… Она хотела быть хорошей женой ДЛЯ МЕНЯ…
И ведь не дурочка, поняла сразу, кто я такой и чем занимаюсь со своим мнимым дядюшкой, и ничего – ни слова не сказала, не убежала сломя голову домой, к папочке с мамочкой, осталась… И ведь не ради денег! Я сразу просек, что и к шмоткам дорогим, и к ресторанам она абсолютно равнодушна. К книжкам только не равнодушна.
Инночка денег не просила никогда, даже не намекала. Брала из ящика стола мелочевку на продукты, каждый раз еще и отчитываться пыталась, что купила и сколько это стоит. Сначала я удивлялся, пытался просечь, как говорится, фишку – что за игру она ведет, а потом понял: нет никакой игры. Просто она такая.
В конце концов я сам сунул ей деньги, достаточно много, и велел потратить на себя. Она и потратила – сходила в какой-то «Библио-Глобус», пришла с тяжеленными пакетами, посмотрела на меня виновато, обняла и уткнулась носиком в мою рубашку.
– Юр, ты не ругайся… но я так много потратила! Просто остановиться не могла!..
А я и не знал, что сказать.
Смотрел на пакеты с толстыми книжками в позолоченных переплетах и думал о том, что кто-то из нас сумасшедший – либо я, либо она.
– Я просто маньячка! – Инночка словно мысли мои прочитала. – Но, понимаешь, у меня никогда в жизни не было столько денег, чтобы я могла купить ВСЕ, что захочу.
– И что – все купила?
– Нет. Я взяла себя в руки и утащила за шкирку из магазина. Да и потом, все, что мне хотелось бы приобрести, я просто не смогла бы унести, мне пришлось бы нанимать грузовик.
Я засмеялся.
– В таком случае, очень хорошо, что ты смогла взять себя в руки, грузовик книжек, может быть, и поместился бы в мои хоромы с грехом пополам, но нам жить точно было бы негде.
– Юр, а что ты любишь читать?
О Господи! Я когда-то любил читать, но это было давно, черт-те когда. Дома у нас с бабушкой никаких книжек не было, но я в ту пору ходил в библиотеку. Помню, она располагалась на первом этаже серой облезлой девятиэтажки, до которой надо было топать чуть ли не через весь город. Я был хорошим мальчиком, с плохими парнями не водился, водку по подъездам не распивал, а потому, когда на меня накатывало, едва ли не ночевал в читальном зале – больно уж домой возвращаться не хотелось. Библиотекарши меня любили, оставляли идущие нарасхват книжки про пиратов и мушкетеров, про всякую романтическую лабуду. Как-то раз у Кривого дома снял с полки книжку, которую когда-то очень любил, полистал, прочитал пару строчек и на место поставил. Только подивился – и чего мне могло там понравиться?
Девочка моя дорогая, я уже лет пять в руки книжку не брал, а то и больше, и желания никакого убивать время, вникая в выдуманную жизнь, не испытываю!
Да, в каком-то смысле с Наташкой мне было проще: на философские темы она со мной не говорила, в душу не лезла и в голове у нее крутились только четыре простые и понятные мысли – вкусненько покушать, повеселиться, одеться в дорогие шмотки и потрахаться… Потрахаться надо было поставить на первое место, на этом деле она даже сдвинутая слегка…
Короче, с Наташкой мы одинаковые, как из одной помойки вылезли… Вот оно, наверное, что значит – одинаковые социальные слои.
Впрочем, толстушку свою я не видел триста лет и никакого желания видеть не испытываю. По крайней мере, сейчас…
Что-то во мне перегорело, а может быть, я просто слишком слаб еще и нужны мне супчики и котлетки, тишина и покой, спокойненький нежненький секс без сумасшествия и излишеств.
Инночка… Почему-то иногда мне хочется ее убить – уж больно она хорошая, просто существо без недостатков.
Глава 3
Софья
Это был не дом, а настоящий дворец. От него за километр веяло дорогим ароматом роскоши. Гнусной, неправедной роскоши: не собственным трудом и потом заработанной, а на чужих слезах и чужой крови выстроенной. Элечка, отыскавшая для меня этого клиента, конечно, предупредила, когда направляла сюда, что дом этот особенный, элитное жилье для новых русских, что его называют Домом на Набережной – не только потому, что он действительно стоит на набережной, но по ассоциации с ТЕМ Домом на Набережной. У них было много общего, у этих двух Домов, но прежде всего – элитарность и благоустроенность. Правда, новый Дом на Набережной, куда я пришла сейчас, был гораздо красивее с точки зрения архитектуры. Но – как и тот, старый, мрачно-серый Дом напротив Кремля, – этот Дом тоже был напичкан под завязку всяческими удобствами для обитателей: и бассейн, и несколько спортзалов, и салон красоты, и бильярд, и ресторан с доставкой блюд прямо в квартиру, и подземный гараж, и площадки для барбекю на крыше, и зимние сады, и детский игровой комплекс во дворе, и суперохрана…
И если из того Дома жильцов частенько уводили в темный предрассветный час – уводили в неизвестность, уводили в смерть! – то в этом Доме часто бывают похороны: стреляют, взрывают… Глядя на роскошный холл, на сверкающий мрамор и розовую венецианскую штукатурку, на темное зеркальное стекло и пушистый ковер под ногами, глядя на мордоворотов в камуфляже, преградивших мне путь, я подумала: наверное, правильно взрывают и стреляют. За дело. А еще лучше: увести бы их всех как-нибудь в ранний предрассветный час… И тут же устыдилась своих мыслей. Во-первых, Дедушка осуждал репрессивные методы, говорил: то, что хорошо для войны, не годится в мирное время. А во-вторых – здесь все-таки жили несколько порядочных людей, заработавших деньги собственным трудом и талантом. Например, тот же Костя Шереметьев. Мне даже всезнающая Элечка не смогла ничего дурного о нем рассказать.
Я сообщила охранникам, кто я такая и куда иду, они проверили мой паспорт и не торопясь вписали данные в толстую «амбарную» книгу на столе, причем сначала сверили с заявкой от жильца (похоже, он заблаговременно должен был предупредить охрану, что я приду!), а потом еще позвонили ему и спросили, пускать меня или он передумал и меня стоит выставить за порог. Конечно, они не так говорили, но смысл был именно такой.
К тому моменту, когда я добралась до лифта, я уже кипела от ярости и была почти уверена, что от этой работы откажусь.
А когда двери лифта отворились и выпустили шикарно одетую пару – хиленького лысоватого господина и высоченную, худющую девушку с элегантной залакированной прической и вызывающе пухлыми, явно накачанными силиконом, ярко напомаженными губами – и когда они оба смерили меня недоуменно-презрительным взглядом… У меня появилось желание развернуться и уйти, даже не поднимаясь на этаж и не знакомясь с клиентом. Меня буквально тошнило, я задыхалась в атмосфере этого Дома!
Надо сказать, одета я в тот день была более чем скромно. Накануне я подготовила очень красивый костюм и шелковую блузку, подаренную Катюшкой, и потому – уж наверняка модную. Но с утра в меня словно бес вселился: мне показалось возмутительным – так наряжаться перед походом к клиенту только по той причине, что клиент живет в элитном Доме и является знаменитым киноактером! И я напялила на себя свой обычный рабочий костюм: джинсы и джинсовую рубаху. Прихватила сумку со всем необходимым – и вперед! Наверное, можно понять этих двоих. Они в своем элитном Доме не готовы были видеть особу, одетую в джинсу с ярмарки «Коньково»!
На шестом этаже, где я вышла, было только две квартиры. Две квартиры на целый этаж. И что самое забавное, на них не было номеров.
Ну и, разумеется, я ошиблась квартирой!
В довершение всех неприятностей этого утра.
Мне открыл мужчина в роскошном (как и все в этом проклятом Доме!) спортивном костюме. Явно только что с тренажера слез. Волосы мокрые, дыхание неровное, на шее полотенце висит. А на лице выражение недоумения: впрочем, не презрительного, как у тех двоих в лифте, а скорее любезного недоумения. И еще – у него были очень приятные глаза. Такой взгляд… Он чем-то мне напомнил Дедушку. Чем-то неуловимым.
– Это квартира Константина Шереметьева? – спросила я, хотя уже была уверена, что ошиблась.
– Нет. Следующая.
– Извините за беспокойство.
– Это вы извините, – улыбнулся мужчина. – Надо озаботиться табличками на дверь. Но может, вы передумаете и вместо него зайдете ко мне?
Я вспыхнула. Он что, за проститутку меня принял?! Наверное, все они в этом Доме – порочные… Потому что богатые. Хотя – разве проститутки одеваются так, как я?
– Еще раз извините, – сухо ответила я и двинулась ко второй двери.
А он стоял и смотрел мне вслед. И я спиной, затылком чувствовала его взгляд. Когда я позвонила в квартиру Шереметьева, незнакомец закрыл свою дверь.
На этот раз я попала именно туда, куда мне было надо.
Во-первых, я сразу, еще в прихожей, почувствовала тот особенный запах болезни – лекарств, дезинфекции и страдающей плоти, которая всегда пахнет, даже если ее очень старательно мыть.
А во-вторых, я сразу узнала Константина Шереметьева.
Он был – почти как в кино… Только прическа как-то пожиже, лицо – бледное и осунувшееся, и выражение глаз совсем другое. Глаза у него были тревожные и усталые. В кино они обычно словно бы искрятся едва сдерживаемым смехом. Но все равно он был невероятно обаятельным. Пожалуй, в жизни – даже сильнее, чем на экране. Причем это было качество физическое, а не душевное. Душевное качество с порога не заметишь. А он – засиял сразу, как только я вошла. Словно ждал меня всю жизнь и влюбился с первого взгляда. И я тут же поняла, за что именно его прозвали нашим отечественным «секс-символом». Мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не поддаться его обаянию, чтобы сохранить суровость и отстраненность. В конце концов, Элечка ведь сказала, что Константин Шереметьев не любит и боится женщин. Она-то уж знает… А он, значит, притворяется. Из вежливости, механически излучает обаяние. Или – не может не играть. Актер все-таки. К тому же – великий.
Шереметьев с большим интересом наблюдал за тем, как я достала из сумки тапочки, зеленый халат и косынку, облачилась во все это… А в довершение я потребовала, чтобы сначала меня провели в ванную – вымыть руки. Ванная была до омерзения великолепна. Не ванная, а древнеримская терма! Или – турецкая баня, вся в сине-белой мозаике! А мыло у меня было свое. Антисептическое.
Шереметьев провел меня через всю квартиру – в большую комнату, полную воздуха и света, где лежала больная.
– Вот, мама. Это – Софья Михайловна. Софья Михайловна, это – моя мама, – как-то растерянно, по-детски пролепетал великий актер.
Кажется, он действительно очень любил свою маму. Я тут же смягчилась и простила ему великолепие обстановки. Не любил бы – не стал бы отягощать свою жизнь уходом за больной. Отдал бы ее в специальное отделение для лежачих, где за особую плату им обеспечивают полный уход… И где люди очень быстро угасают от тоски и сознания собственной ненужности.
Пациентка поприветствовала меня застенчивой улыбкой. У нее были яркие синие глаза, очень живые и ласковые. И несмотря на землистый цвет лица и общее плачевное состояние пациентки, я сразу поняла, что могу браться за работу. Эта женщина будет жить. А я смогу поставить ее на ноги и вернуть к нормальной жизни.
…Мой путь в медицину был долог, местами тернист, а местами – усыпан розами. Всего понемножку. Но по розам ступать тоже неприятно. У них тоже есть шипы. Не такие длинные, как у терновника, но все же…
В медицинский институт я не поступила. Впрочем, мы с Дедушкой этого ожидали и потому не особенно переживали. Я пошла в медицинское училище. Отучилась там два года.
Аня Рославлева, разумеется, передумала поступать в педагогический, куда вначале наметилась, и пошла в училище вместе со мной. Ее тоже приняли, хотя она набрала меньше баллов, чем было нужно. Но я все-таки успела поднатаскать ее перед экзаменами, да и письменную сумела за нее написать… В общем, справились.
Училась я на «отлично», поскольку отвлекающих моментов – всяких там любовей-страданий-гуляний-дискотек – у меня не было. Не интересовало меня это все… И практика в больнице, от которой все девчонки стонали, меня ничуть не тяготила.
Правда, когда можно было выбирать, где дежурить, я выбирала не приемный покой, а реанимацию или интенсивную терапию. Там тихо… И если что-то делаешь – то что-то по-настоящему серьезное, жизненно-важное. Пусть даже это – кормление через зонд или опорожнение кишечника абсолютно бесчувственного человека. Когда человек сам о себе позаботиться не может, для него каждая мелочь, то, что в обыденной жизни мы не замечаем, – жизненно важно! Некоторые больные даже слюну глотать сами не могут и рискуют захлебнуться… А аппарат для отсасывания слюны – вещь сложная и внимания требует. Особенно – когда он один на двенадцать больных! И надо бегать с ним от одного к другому, как только услышишь специфическое хлюпанье в горле – этот жуткий тихий звук, который так много говорит профессиональной медсестре и который далекий от медицины человек даже не заметит.
А главное – в реанимацию и в интенсивку никогда не забегали парни-санитары. И не приходилось выслушивать их гадкие шутки, терпеть приставания, вдыхать в себя дым их сигарет. Другим-то девчонкам это нравилось. Они и выпить с ребятами любили. Я их не осуждаю нисколько: они почти все замуж еще в училище повыходили. А я…
Впрочем, нас четверо таких было, очень уж незамужних. Кроме меня – еще верная Анюта да две девочки, с которыми она подружилась, а я – через нее уже: Элечка Рабинович и Зоя Иванова. Так смешно всем казалось: подруги – Иванова и Рабинович.
Элечка – наша с Анютой ровесница. Сгусток энергии и очарования. Вот какой я хотела бы быть! Ее прелесть не мне, а поэту настоящему описать следовало бы: ну, просто из пламени сделана… Двигалась она так легко и гибко, что – просто заглядение! Глаза карие – горят, волосы – копна сверкающих черных с рыжиной кудрей, улыбка – ослепительная, а уж темперамент… Она любовников меняла чуть не каждый месяц. И каждый – настоящая любовь на всю жизнь! Причем она искренне была уверена в этом – с каждым. И всегда – первая бросала. Разлюбит – и бросит. Воистину роковая женщина. И уж любили ее мужики… Ну, это и понятно. Если бы я была мужчиной – точно в нее влюбилась бы.
Элечка в нашей компании заводилой всегда была. Знала все уютные маленькие кафешки, где можно недорого и вкусно покушать, или – где просто купить пончиков, чтобы с голоду не умереть! Умела добывать контрамарки на все желанные спектакли. Знала обо всех выставках. И диктовала нам моду.
А Зоя Иванова – она старше нас была на три года. После школы три года подряд упорно поступала в театральный. Хотела быть актрисой. Но только где ей – такому колобку да еще с тоненьким, писклявым голосочком… Она всегда казалась миленькой, чистенькой, уютной, но – не для сцены, а для жизни. На сцене ее и не разглядели бы.
От Зои веяло спокойствием. Она могла все разъяснить, всех рассудить и утешить. В нашей компании она была – сердцем и душою.
А я – наверное, разумом. Потому что училась лучше всех, всем помогала с домашними заданиями и все время призывала отбросить иллюзии и «взглянуть правде в лицо». На что Элечка мне неизменно отвечала, что у моей правды рожа такая противная, что глядеть на нее не хочется, лучше в иллюзиях пребывать, так приятнее…
Анюта Рославлева была цементом, всех нас, таких разных, скреплявшим. Она со всеми общий язык найти умела. У каждой из нас были свои «пунктики», что-то, чем человек ну никак не мог поступиться! У одной Анюты этого «чего-то», этого «пунктика» не наблюдалось. Она готова была понять и принять точку зрения любой из подруг. Причем – искренне. Она всегда была… Ну, как зеркало! Отражала человека, находившегося с ней рядом. Зеркало ведь не притворяется, правда? Такова его природа: отражать. Вот и Анютина природа была такова. И за это ее все вокруг любили.
После училища я легко поступила в институт. Девчонки – тоже, хотя двое моих подруг все-таки отклонились от избранной цели: Элечка стала косметологом, а Анюта – фармацевтом. Зато Зоя работает детским врачом. И получает такие гроши, что даже стыдно становится мне за мои заработки.
К окончанию института я имела красный диплом, Эля родила ребенка, Зоя вышла замуж, а Анюта потеряла брата…
Впрочем, по порядку.
Элька родила своего Гришеньку от бывшего диссидента, непризнанного гения, художника и барда в одном лице… От бесхарактерного и гнусного типа, которого мы, ее подруги, просто ненавидели, а она боготворила. Долго боготворила. Целых четыре месяца. Но вскоре после того, как в животе у нее завелся Гришенька, Элька в диссиденте резко разочаровалась. Не знаю уж, случилось что между ними или просто так – прошла любовь… Поскольку Элечка наша врать вообще не умеет, она так все любимому и выложила. И он поспешил испариться. Кажется, Элька никогда о нем не жалела. И уж подавно – не жалела о том, что решилась рожать в двадцать лет, не имея ни мужа, ни профессии. И права ведь была: все получилось – и мальчишка замечательный, и профессию получила, а мужей даже двоих сменить успела только за годы учебы, причем инициатором обоих разводов была она сама. При всей той легкости и простоте, с которыми Элечка подходит к вопросам секса, она не признает ни малейшей фальши. Если любит – так уж любит, а если разлюбит – так не будет терпеть ни из жалости, ни по расчету… Первый из брошенных мужей даже обозвал ее Эллочкой-людоедкой. Элечке это показалось смешно, но потом она прочла «Двенадцать стульев» и гневу ее не было пределов: ведь ничего общего с примитивной Эллочкой Щукиной у нее явно не было!
Зоя вышла замуж за человека весьма благородной души, но патологического неудачника. Ее ненаглядный Андрей Владимирович преподавал историю в педагогическом институте, слыл блестящим интеллектуалом, но научную карьеру сделать не мог – его регулярно оттесняли более активные коллеги. И в личной жизни он так же не преуспел: в восемнадцать лет женился «по залету» на девице из поселка Железнодорожный. Девица была особой примитивной, но очень хотела жить в Москве. Иных желаний у нее не было. И вот от отсутствия желаний она всю жизнь мучилась и мучила Андрея. Дочка у них, кстати, замечательная получилась: не в маму-лимитчицу, а в папу-интеллигента. И к Зойке льнет, как к старшей сестрице. Все время у них в гостях сидит. А мать из-за этого бесится. А ведь Андрей ей и квартиру оставил, переехав к Зое… И алименты регулярно выплачивает. Так она злится, что алименты маленькие! Бессовестная особа: Андрей ведь и получает-то немного. А если бы не Элечка, пристроившая его на работу в платную гимназию для богатеньких детишек, – вообще неизвестно, как бы они выживали! Ведь у них с Зоей своя дочка родилась, Верочка, скоро два года будет… Старшая Андрюшина девочка – Кристина – возится с маленькой, любит ее. Она, кстати, и с нами, Зоиными подругами, пыталась подружиться. С Элькой про моду и косметику болтает, с Анютой – про готовку, да и меня, зануду старую, с интересом слушает, когда я ей про дедушкину войну или про своих пациентов рассказываю.
Пожалуй, из нас четверых у Анюты хуже всего сложилось. А все из-за Лешки. Его, восемнадцатилетнего курсанта Школы милиции, забрали в Чечню приснопамятной зимой 1996 года, и в первом же бою он погиб. Причем погиб страшно: заживо сгорел в БМП. Друзья сумели опознать тело – уж не знаю как. Дед настоял, чтобы гроб раскрыть, были у него какие-то сомнения… А как посмотрел на то обгорелое, черно-смолистое, скалящее закоптевшие зубы – на то, что в гробу лежало… И сразу с инфарктом свалился. Из больницы вышел совсем стариком трясущимся. И у бабушки Анны Сергеевны с головой плохо стало. И Анюту – как пришибло. Словно вся жизнь из нее ушла.
С тех пор как Лешечка лег под гранитной плитой, поставленной однополчанами, Анюта бедная живет тихо-тихо, как мышка. Не живет, а существует. Одно удовольствие в жизни осталось: готовить всякие разносолы да друзей угощать. А сама – худая, бледная… Элечка несколько раз пыталась ее знакомить с разными мужчинами. Все без толку. Никому Анюта не нравится. Да и ей никто не нужен.
К ней одно время ходил хороший такой мужик – командир Лешкин, Стас Лещенко, – очень мучился угрызениями совести из-за того, что сам выжил, когда ребята все погибли… А ведь сам едва жив остался, в беспамятстве, в ожогах его вынесли из этого ада! Так даже ему не удалось Анютино сердце растопить. А уж казалось бы – человек, к Лешке близкий, ей должен был показаться почти родным! Но в ней, похоже, что-то умерло.
Элька так орала, так возмущалась… Что не одного Лешку – целую семью убило. Столько хороших людей! А ведь могли бы жить. Быть счастливыми. У Лешки талант был совсем не милицейский: он компьютерные программы писал. Элечка на него свои виды имела, все надеялась, что бросит он свою милицейскую муть и займется делом, приносящим реальный доход, – вроде как мой братец Славка. Но Лешка был упрям и романтичен: милиция коррумпирована, ее разлагают изнутри, поэтому сейчас, как никогда, нужны там люди честные и принципиальные – такие, как он! Ох, дурачок…
После института я распределилась в больницу недалеко от дома, в отделение интенсивной терапии. Правда, как выяснилось, сиделкой быть мне нравилось больше, чем врачом. В нашем отделении и от тех, и от других требуется примерно одно и то же… Ну конечно, у сестер работа погрязнее. Зато врачу приходится беседовать с родственниками пациентов. А это – тяжело.
Жила я по-прежнему с Дедушкой.
Ника еще в 1990 году вышла замуж за своего сокурсника Диму Охтырченко. Училась она в Институте иностранных языков, специализировалась на французском. Правда, учебу пришлось прервать, поскольку замуж она шла, будучи на шестом месяце беременности. Дима Охтырченко к супружеству не рвался, пытался даже скрываться, его искали, и все это было очень некрасиво… Но потом – обошлось вроде. Сына Петеньку он обожает. А в прошлом году, когда Петеньке исполнилось девять, Ника родила еще и Наденьку. Они – счастливая семья. И мы с Никой сейчас гораздо дружнее, чем были в детстве. Но, говорят, так почти всегда бывает: в детстве сестры ревнуют и ссорятся, а вырастая – сближаются.
Ника с мужем и сыном жили в трехкомнатной квартире моих родителей, где обреталась еще и Катюшка, младшая наша сестра. И страстно мечтали об отдельной квартире. Наверное, так же страстно, как в пятидесятых годах молодые, живущие в коммуналке, в одной комнате с папой и мамой, мечтали о своей отдельной комнате! Ну почему люди во все времена так ненасытны? И никогда не бывают полностью довольны своей участью.
Славка от родителей сразу сбежал, как только Петенька родился. Славка у нас – юное дарование, компьютерный гений, ему все время нужно было заниматься усиленно, а потому требовался покой. В общем, он к дедушке с бабушкой переехал. Школу Славка окончил с золотой медалью, в МГУ поступил без экзаменов, на первом курсе принял участие в каком-то тестировании, потом выслал куда-то свои работы – и отбыл за океан. Там ему сразу работу предложили. Приходилось ее, правда, с учебой совмещать, и в первый год Славка все время ныл по телефону родителям – а звонил он редко, – что, дескать, устает ужасно, жизни нет никакой… Но потом привык. Даже понравилось. Особенно – когда зарплату серьезную получать начал. И девушку себе нашел. Настоящую американку. Дженнифер Коллинз. Когда он ее фотографию прислал – бабушке дурно стало. Дженнифер, конечно, выглядит пикантно, и главное – она очень талантливая, работает бок о бок со Славкой и всячески его поддерживает, но… Определить ее национальность не представлялось возможным. Никогда я еще не видела в одном лице такого гармоничного слияния негроидных и монголоидных черт! Позже выяснилось: мама у нашей Дженнифер – вьетнамка, папа – коренной афроамериканец. Так что, можно сказать, Славка поддержал семейную традицию! В 1997-м они поженились. Детьми не торопятся обзаводиться, сначала дом купить планируют. Все – как у нормальных американцев.








