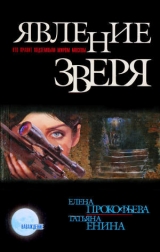
Текст книги "Явление зверя"
Автор книги: Елена Прокофьева
Соавторы: Татьяна Енина (Умнова)
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
А еще я думаю о том, что теперь у меня есть покровитель. Настоящий покровитель.
Столько времени прошло, все, что было здесь, давно минуло и кануло, но до сих пор от вида Площади Трех Вокзалов с души воротит.
И вроде уже не больно и не обидно, и вроде я здесь уже действительно чужой… Нет, даже не чужой, я – НАД. Над этой площадью и над всеми тремя вокзалами. В какой-то мере я даже управляю их жизнью, но все еще давит что-то… Крохотный червячок сомнений грызет. Как будто не все долги розданы, как будто моя свобода, сила и власть только кажутся мне. Снятся. И что подойдет ко мне сейчас пьяный и вонючий… Нет, Купца уже нет в живых, но подельщики его остались, и они помнят обо мне, точно знаю, что помнят!.. Итак, подойдет ко мне кто-то из них, ткнет под ребро заточкой… Нет, не убьет, пригрозит только и уведет за собой. Долги раздавать.
Кривой, конечно, личность авторитетная, и имя его кое-что значит, но у нас ведь и авторитетов убивают запросто, а уж шестерок их…
Слишком лакомый кусочек эти три вокзала, чтобы Кривому так просто позволили владеть им!
Пока это наша вотчина, пока каждый встречный ублюдок едва ли не кланяется, но измениться все может в любой момент!
Прямо сейчас все может измениться!
Как же ненавижу я это место! Этот заплеванный асфальт, этих таксистов, челноков с клетчатыми баулами, кавказцев, продавцов и туристов! В мою кожу, легкие, в мою душу въелась, должно быть, навсегда тошнотворная вонь немытых тел, мочи, прогорклого жира скворчащих чебуреков, выхлопных газов, липкой копоти, которой пропитан воздух.
Мне снится этот запах, снится синяя рожа Купчины, надвигающаяся на меня, разевающая беззубый рот, и я просыпаюсь в липком поту и бегу в ванную смывать несуществующую вонь.
Глупо, безумно глупо! Но ничего не могу я с собой поделать и не смогу, наверное, никогда. Жить в грязи выше моих сил! Не могу я! Не могу!
А должен.
Должен, чтобы не закончилось все так, как предписано было для меня законами – жестокими и грязными законами Площади Трех Вокзалов, – которые я когда-то сумел победить. Должен, чтобы воплотить-таки в жизнь то… что уже почти не мечта, а реальность.
Вру… Ну конечно же вру. До победного конца еще далеко. Но я уже знаю все! Каждый свой шаг я просчитал до мелочей! Только бы не сорваться, не поспешить, не выдать себя.
В этом случае я умру. Кривой не станет меня мучить, не будет изощренно мстить, он просто убьет меня. И умру я грязно и мерзко, как умирают помоечные крысы, умру, как мне до скрежета зубовного не хотелось бы умереть, и как я едва не умер тогда…
Черт! Мне не стоило приходить сюда! Не стоило лишний раз вспоминать, бередить старые раны!
Тьма просыпается… Вонзает когти в солнечное сплетение, застит глаза, сжимает тисками голову. Вонючая, душная, гнилая тьма! Я уже научился бороться с ней… почти научился… Я взрослый и сильный, и даже ей, Тьме, не позволю мешать мне! Но как же тяжело с ней справляться, когда она уже пришла, уже запустила когти…
А виновата Наташка. Зараза Наташка. Тупая, безмозглая тварь!
В затуманенной голове мелькнула и пропала сладостная сценка, как я сжимаю в кулак густые светлые волосы у нее на затылке, как бью со всего размаха лбом о стену.
Я даже услышал звук удара, хруст треснувшей кости, увидел кровь на белой гладкой коже.
Нет, нет, нет!
Я тряхнул головой и прибавил шагу.
Прочь, Тьма!
Наташка, конечно, получит свое, но только в воспитательных целях.
На вокзале не существует дня и ночи, будней и выходных. Он не отдыхает никогда, беспрестанно проворачивая в себе, как в гигантской мясорубке, сотни и тысячи самых разнообразных людей.
Когда-то мне довелось пожить на вокзале, недолго, всего лишь два или три месяца, но я понял, осознал, впитал и растворил в себе этот жуткий круговорот, который туманит, отупляет и завораживает сильнее наркотика. Своей тупой бесконечностью. Бесконечностью…
В животное, чье существование – череда простейших инстинктов, превратиться удивительно легко. И самое страшное, происходит это незаметно.
Сначала ты перестаешь различать съедобную пищу и отбросы, потом ты забываешь, что месяц не мылся, потом начинаешь отделять себя от тех, кто спешит мимо, кидая на тебя мимолетные взгляды – равнодушные, любопытные, брезгливые или сочувственные, и начинаешь причислять себя к таким же, как и ты, грязным, вонючим, больным. Животным.
Больным животным, потому что здоровые животные – не отравленные наркотиками и водкой – так же далеки от нас, как и спешащие по своим делам туристы.
Я не люблю вокзалы, я стараюсь обходить их стороной.
Мне не нужна эта чертова площадь, мне не нужны эти грязные вокзалы, ни один из трех, мне нужна всего лишь станция «Комсомольская». Да и она-то, собственно, не очень.
Мне нужна одна маленькая комнатка, совсем неприметная, служебное помещение метрополитена.
Кому как больше нравится: милиция, ментовка, «обезьянник».
Наташка сидела на стульчике в ментовском закуточке, раскачиваясь из стороны в сторону. На лице ее застыла странная маска страдания и блаженства, голова болталась из стороны в сторону.
– Забирай, – буркнул Степаныч. – Но смотри, чтобы больше я ее здесь не видел. Мало ли что, – добавил он виновато, – вдруг попадется кому на глаза, малолетка ведь, а обкуренная…
– Спасибо, Степаныч, – сказал я, с отвращением глядя на растрепанную, грязную девку с пустыми глазами. – Я не забуду.
В ту минуту мне не хотелось ее видеть – никогда. Хотелось сказать Степанычу, чтобы вышвырнул он эту тварь под забор, где ей и место!..
Но куда от нее денешься… с другой стороны. И когда она мне надоест? Жду этого дня, как избавления.
Только Наташка, эта непроходимая, слабоумная идиотка могла такое учудить! Налопаться какой-то дряни и улечься отдохнуть на лавочке в метро. Она, видимо, возомнила, что особенная, что ей все позволено, что она может творить безнаказанно такие вещи, за которые любой другой получил бы сполна!
Она получит.
Она так получит, что мало не покажется!
Переночует сегодня в вагонном отстойнике, среди бомжей и алкашей. Пусть испугается как следует, может, поймет своими куриными мозгами, что ее ждет, если будет вести себя подобным образом.
Сейчас Наташке пятнадцать, а в Москву она явилась, когда ей и тринадцати не было. Мне она попалась… Мне… Ее счастье.
Помню, произошло это вскорости после трагической гибели Купчины, я в ту пору курировал попрошаек на Казанском, что было моим первым серьезным заданием… Школу я за тот год прошел отменную. Элитарную, можно сказать.
Сидела в зале ожидания девчушка. Пухленькая, белокожая, с огромными глазищами и светлой косой в руку толщиной.
Приехала чуть ли не первой электричкой с маленькой сумочкой в руках, уселась на лавку и сидела – глазищами хлопала.
Приметили ее сразу, какое-то время пасли, наблюдали, как купила и слопала жирный чебурек, потом схрустела упаковку чипсов, а когда уходить собралась, решили меня известить. Вовремя… прямо скажем…
Бродяжка. Свеженькая. Аппетитная. Лет пятнадцати…
Оказалось, тринадцати…
Ох, Наташка!
Цыган Чоба тоже работал при вокзалах, сферы нашей деятельности тогда не пересекались, и с ним у нас сложились почти дружеские отношения. Он уступил мне девчонку почти без пререканий и даже без отступных.
– Потом сочтемся! – махнул он рукой, хитро улыбаясь.
Ну, потом так потом…
Теперь Чоба правая рука барона и всякими мелочами не занимается, поэтому, когда Кривой позвонил мне с утра и заявил, что цыган ищет с ним встречи, сомневаться в серьезности происходящего не было причин.
– Пойдешь со мной, – услышал я сквозь треск помех и гул голосов: Кривой всегда звонил мне из автомата. – Будешь молчать и слушать. И внимательно следить за его поведением.
Мы уже знали, о чем пойдет разговор. И я, и Кривой. Не первый это разговор… Но очень надеюсь, что последний.
Внешне Кривой типичный московский бомж, но только внешне. Он чистый и здоровый – слава Богу! – а еще он не пьет.
Не так, конечно, чтобы совсем. Но по большому счету, он просто делает вид, что пьет. Получается у него виртуозно. Вроде бы свой в доску мужик, водяру хлещет литрами без передыху, но все вокруг с ног валятся, а ему хоть бы что.
Это ж уметь надо!
Он говорит, что у него большой опыт и старая ментовская закалка.
Впрочем, сейчас мы пьем кофе. Крохотными чашечками. Смешно до слез – три совершенно диких на вид мужика сидят за столиком в достаточно дорогом кафе и чинно пьют кофе.
– Это твое последнее слово, Кривой?
В голосе цыгана нескрываемое злобное удовлетворение. Он просто счастлив подписать нам смертный приговор и даже – наверняка! – не прочь проделать все собственными руками.
– Последнее, Чоба, – покачал головой Кривой, – самое последнее, пора бы уже понять.
Чоба ухмыльнулся, явив миру зловещее зрелище – полный ряд золотых зубов на обеих челюстях.
– Комедию ломаешь?
– Почему? – Кривой флегматично пожал плечами. – Ты мне поверь, просто поверь, я знаю, это сейчас вокруг меня тишь да благодать, я не нужен никому и никто меня не трогает… Большие бабки, Чоба, это заманчиво, но прошли те времена, когда можно было легко сорвать банк и сбежать за границу. Мне хватает того, что у меня есть. Я тебе честно и откровенно говорю. Зря не веришь.
Кривой опрокинул в рот остатки кофе из крохотной чашечки, поднялся и не спеша отправился к выходу.
Я пошел вслед за ним, но не так поспешно, чтобы не заметить, как исказилось звериной яростью лицо цыгана, как сверкнули черные пронзительные глаза, когда ему казалось, что никто на него не смотрит. Кроме меня.
А меня цыган не стеснялся. Впрочем, он никого не стеснялся – то ли так уверен в себе, то ли просто глуп. Впрочем – в любом случае глуп.
Эх, Чоба, Чоба…
Ссутулившись и втянув голову в плечи, Кривой топал грузно и тяжело, покачиваясь, как будто здорово пьян или же мучим тяжелым похмельем. Артист! Со спины ему лет семьдесят дашь, а ведь мужику лет сорок, не больше.
– Ну, что? – спросил он, когда мы ушли с центральной улицы и углубились во двор, где уселись на лавочку у подъезда, спугнув молодую мамашу с коляской.
– Я думаю, что не стоит принимать Чобу всерьез. Не сам же он все решает.
– Не люблю я цыган. – Кривой презрительно сплюнул под ноги. – С кем угодно можно договориться, эти ж как упрутся!
Он поднял голову и внимательно посмотрел на меня.
– На сей раз они пойдут до конца. Такие вещи надо понимать, если хочешь жить и здравствовать. Так что, Юраш, пришло время действовать. Справишься?
Я только улыбнулся.
– А у меня есть выбор?
– Теперь уже нет. Так ведь оно и хорошо, что нет. На границе между жизнью и смертью мозги хорошо работают. Выкрутишься.
Выкручусь. Конечно, выкручусь, Кривой. Хотя ты на самом деле в этом совсем не уверен. И даже более того – не очень-то этого желаешь.
– Ну, удачи тебе.
Кривой поднялся со скамейки и отправился в сторону подъезда.
– Бог даст – свидимся.
Он уже не выйдет из этого подъезда, он растворится, исчезнет, и если кто-то уже за нами следит, то ждет его полный провал. А я… ну, за мной-то следить нет никакого смысла. Я весь открыт, как на ладони, взгляд мой ясен, душа нараспашку и уже вполне готова отлететь к небесам… Впрочем, к каким еще небесам?
Откуда этот гул? Из-под земли? Или у меня гудит в голове? В моей голове сотни маленьких черных мушек вьются в кромешной темноте, басовито гудя.
Нет, мне и в самом деле не страшно умирать, мне противно. Потому что свою смерть я вижу не иначе как падение в зловонную яму на груду гниющих трупов. Живых трупов. Которые лежат на дне жертвенной ямы и ждут. Следующего. Меня. И я с ними буду ждать – следующего.
Вот это мой Ад. Моя бесконечность.
А Наташка?.. Ее, должно быть, вернут домой, в деревню Шарапово Калужской области – ужаснее для нее ничего быть не может.
Надо успеть заехать за моей красавицей, наказание и без того уже слишком затянулось. К тому же в Николаевке ей теперь оставаться опасно, как, впрочем, и в моей квартире. Придется толстушке пожить под землей. Под землей никто ее не обидит. Под землей спокойно и тихо. Под землей…
Проливной дождь лупил в грязные стекла. В вагоне было холодно и сыро.
Наташка сидела на купейной полке и ревела, размазывая слезы по пухлым щечкам. Свитер грязный. На колготках дырка во всю коленку.
– Юрка, я больше не буду! Ты только не бросай меня, ладно?
– Буду, не буду… Ты что, совсем дура?
– Я… правда… Я так испугалась! Я думала, ты больше не придешь, что бы я делать стала?!
– То, ради чего ты сюда прикатила.
Ну вот, насупилась, губки надула.
– А больно ты знаешь, для чего я прикатила… Ты думаешь, я от хорошей жизни убежала?! Ты когда-нибудь в деревне жил, где надо в шесть утра вставать и корову выгонять?! А потом еще жрачку готовить и себе и маленьким!
– О, да вы хорошо жили! Корова… кабанчики… курочки, – засмеялся я.
– Дурак… На хрена мне эти курочки…
– Ну ладно, птичница-свинарка, пошли, чего расселась?
Дождь льет как из ведра, да еще ветер, до чего же мерзкая погодка! Зато кругом ни души, все попрятались в норы, туда, где сухо и тепло, и никому нет дела до того, куда неопрятный бледный парень – явно вор и наркоман – тащит перепачканную зареванную девчонку. Девчонка явно не ангел, вон юбка какая коротенькая, не юбка, а набедренная повязка. Туда ей, оторве, и дорога… Ну, куда тащит – туда и дорога.
– Юр, а мы куда? Ты что, не на машине?
Дождь бьет в лицо, холодные струйки стекают за шиворот, мокрые штанины противно хлопают по ногам. Один неудачный шаг – и в драной кроссовке полно воды.
Наташка в туфельках шлепает по шпалам. Ужасно неудобно ходить по шпалам! Наступать на каждую – не идешь, а семенишь, через одну приходится прыгать.
Синие и красные огоньки, закопченная щебенка, запах креозота пополам с запахом дождя.
– Ты что, ослепла?!
В сером облаке водяной пыли мимо проносится электричка, Наташка с разинутым ртом провожает взглядом грохочущие вагоны.
– Я на шпалы смотрела… чтобы не оступиться…
Щеки белые и огромные, в пол-лица, глазищи – не поймешь, то ли дождь, то ли слезы. И дрожит, как воробушек.
Тоненький свитер облепил тело, кажется, сквозь него даже просвечивает розовым.
У Наташки удивительно нежная кожа, такая мягкая…
Я прижал ее к себе, обнял, забрался руками под свитер и тут же почувствовал, как под струями ледяного дождя меня окатило горячей волной, перебило дыхание, ударило и закружило…
Холодно и жарко!
– Давай быстрей!
Схватив Наташку за руку, я потащил ее дальше вдоль путей, потом направо, к колодцу.
Наташка – как ребенок: обняли ее, поцеловали, и она уже забыла бояться.
– Туда?
– Давай-давай, не разговаривай! И под ноги смотри! Сорвешься, сломаешь себе что-нибудь!
Лазать по колодцам Наташке не впервой, даже в глубокие. Толстуха, а ловкая. И не боится – ни высоты, ни темноты. Ничего не боится, дурочка!
Внизу тоже грязно и на голову капает, но удивительно сухо для такого дождя. Сейчас блуждать по подземельям – самоубийство, смоет и унесет, но здесь безопасно, да и вход в убежище близко; люблю я этот колодец, только уж больно он на виду.
Минут пять мы шли по слизистому цементному полу в сторону вокзала, потом нашли решетку в стене, ее очень просто открыть. Если знаешь как.
Это проход в вентиляцию убежища, довольно широкий колодец с крепкими скобами, глубокий правда, ну да убежища никогда не делали у поверхности земли.
Вот самый противный участок пути – пролезть через узкое отверстие так, чтобы не застрять, а потом тут же ухватиться за поручни, потому что пол в вентиляционной шахте покатый и скользкий. Я пополз первым, Наташка за мной. Сдавленный крик – и я получил носком туфли под лопатку. Конечно, девчонка сорвалась, никто и не сомневался.
– Юр… не больно?
– Нащупала лестницу?
– Ага!
– Топай за мной, только на голову не наступи!
– Глубоко?
– Средне. Ну, давай!
Не все убежища заброшены, многие до сих пор проверяют, чинят время от времени, в них приносят свежее белье и меняют запасы продуктов, такие убежища запираются очень хорошо, в них не проникнешь, даже через вентиляцию. Но и тех убежищ, о которых прочно забыли, предостаточно. Там пыльно, сыро и уныло, но есть большущий запас белья – пожелтевшего от времени, зато чистого, есть там и канализация, и душ с горячей водой тоже есть – надо только после помывки перекрывать вентили, а то краны текут.
Прямо скажем, это убежище не из самых шикарных, очень простенькое, без излишеств, но из шести ламп две уцелели, и светят они достаточно ярко, чтобы и в сортире не сесть мимо унитаза, только дверь приходится держать открытой.
Наташка в мгновение ока скинула мокрые тряпки и кинулась мне на шею.
Душ… горячий душ… Да ладно, душ подождет!
Часто, лежа на этой кровати, на желтоватых жестких простынях, укрывшись серым солдатским одеялом и слушая мерный стук капель из водопроводного крана, я представлял себя тем полковником, для которого готовили этот простецкий бункер, смотрел его глазами на грубо оштукатуренный потолок, его ушами слушал стук капель и пытался думать, как он. О чем может думать человек, на месяцы, а то и на годы упрятанный в подземелье от мира, уничтоженного ядерной войной?
Иногда мне хочется, чтобы я действительно был этим полковником. Иногда мне не жаль этот погибший мир. Иногда у меня появляется искушение остаться в подземелье на месяцы и годы, не выползая на поверхность совсем.
Здешние консервы, конечно, уже в питание не пригодны, но их можно раздобыть в других местах.
На самом деле, прожить под землей всю жизнь, конечно же, можно, я знаю людей, которые не поднимались на поверхность годами, им нечего делать наверху, наверху они чужие, наверху жестокий, враждебный мир. Многие из них – кто никогда не выходит из подземелий – бывшие адепты Сабнэка. Впрочем, почему бывшие? Настоящие.
Кривой запретил человеческие жертвоприношения, и они смирились – собираются в определенные дни в пещере самые вонючие из местных бомжей и кидают в зловонную яму, кишащую мухами, собак и кошек, предпочитая породистых, домашних, пьют водку и скандируют: «Баал-Зеббул».
Главный над ними совершенно невероятная образина по кличке Урод, которая величает себя Великим Жрецом и строго следит за правильностью выполнения ритуалов, этот точно не выходил из подземелий уже несколько лет, приверженцы его кормят и поят, хотя Кривой как-то раз поведал мне, что никогда образина Великим Жрецом не был, хотя и рвался им стать неоднократно.
А настоящие Великие Жрецы?
Какие Жрецы, Юраш! Все Жрецы делом заняты!
Делом заняты… Ну да, заняты. Но я-то знаю, что охотнее всего они были бы Жрецами. Работать не надо – надо только повелевать. А еще – все можно. И человеческие жертвоприношения многим нравились, всем нравились…
Жертвоприношения счастливых, благополучных, богатеньких. Очень хорошо себе представляю, какой кайф – убивать таких. Таких, кому есть что терять, таких, для кого этот мир не грязная помойка, которую хочется спалить, а вполне пригодное для жизни место.
– Натаха…
Ее тело светится в темноте, кожа как будто сама по себе излучает свет, матовый, снежно-белый. Когда-нибудь будет Наташка толстой бабой с колышущимися, как холодец, телесами, но сейчас, когда ей пятнадцать, впору с нее картины писать. Иногда хочется… Запечатлеть.
Наташка не накрывается одеялом, хотя в убежище сыро, знает, что мне нравится смотреть на нее, поворачивается то так, то эдак, купается в моих взглядах.
– Останешься здесь жить?
– Жить?! Здесь?! – Наташка округлила глаза. – Ты шутишь? Нет, Юрашик, мне нравится в твоей квартире…
– Зато здесь безопасно, понимаешь? Об этом месте никто не знает, кроме нас с тобой. Никто нас с тобой здесь не найдет.
Наташка приподнялась на локте.
– А что, нам грозит опасность?
– Угу. Меня, Наташка, сейчас ищут, чтобы убить.
Она неуверенно улыбнулась.
– Ты шутишь опять?
– Глупая. Зачем я тебя сюда поволок, как ты думаешь? Дома было бы уютнее… Или как?
– Ну, я думала… ты поскорее хочешь…
Расплетенная коса успела высохнуть, и копна светлых волос рассыпалась по подушке. В тусклом свете пыльной лампочки Наташкины волосы сверкают, как начищенное серебро.
И глаза – такие чистые, как у младенца, а ведь мне она досталась уже не девицей, далеко не девицей в тринадцать-то лет. Странное, должно быть, житье-бытье в деревне Шарапово Калужской области…
Нет уж! Теперь душ! Можно ведь и в душе…
В душе – полный комплект индивидуальных средств гигиены. Кусок банного мыла, жесткая, как для чистки металла от ржавчины, зубная щетка, коробочка зубного порошка, солдатская мочалка, вафельное полотенце, расческа и бритвенный станок с набором запасных лезвий.
Все это когда-то было упаковано в хрупкую от времени бумагу, все это дождалось наконец своего использования.
– Я теперь волосы не расчешу, – пожаловалась Наташка. – Зря ты заставил меня их мыть… Надо было шампунем…
– Ничего, походишь ведьмой, здесь пугаться некому.
– Юрка! Я здесь одна не останусь!
– Темноты боишься?
– Юрка!
– Да не оставлю я тебя здесь, к людям отведу… Вшей наберешься, придется твою косу отстричь.
Такая перспектива Наташке тоже не понравилась.
– А может, я у тебя поживу? Это ведь тебя убить хотят, а не меня…
– Ну да, тебя не сразу убьют, сначала отрежут уши и пальцы, а когда поймут, что ты и в самом деле не знаешь, где я, тогда убьют. Из человеколюбия.
– Типун тебе на язык, – буркнула Наташка. – Как ляпнет что-нибудь! Ну и долго мне жить… с бомжами?
– А вот это как получится.








