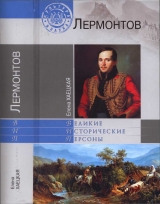
Текст книги "Лермонтов"
Автор книги: Елена Хаецкая
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 34 страниц)
Бал в «гроте Дианы»
Вечером 8 июля Лермонтов и его друзья дали пятигорской публике бал в «гроте Дианы» возле Николаевских ванн.
Об этом бале вспоминает Лорер: «В июле месяце молодежь задумала дать бал пятигорской публике… Составилась подписка, и затея приняла громадные размеры. Вся молодежь дружно помогала в устройстве праздника, который 8 июля и был дан на одной из площадок аллеи у огромного грота, великолепно украшенного природой и искусством… Лермонтов необыкновенно много танцевал, да и все общество было как-то особенно настроено к веселью».
Выглядит все очень мило и просто: собралась молодежь, скинулась деньгами, потом долго танцевали… На самом деле бал в «гроте Дианы» был не просто развлечением – он еще представлял собой своего рода «пощечину общественному вкусу». Н. П. Раевский более детально рассказывает этот же эпизод. «Начало обычное»: решили устроить очередной бал в привычном месте – в гроте. На что князь Владимир Сергеевич Голицын (соратник Ермолова, командир, который представлял Лермонтова к награждению золотой саблей за храбрость) предложил устроить «настоящий бал» – в казенном Ботаническом саду. Лермонтов заметил, что не всем это удобно: казенный сад далеко за городом и затруднительно будет препроводить наших дам, усталых после танцев, позднею ночью обратно в город. Ведь биржевых-то дрожек в городе было три-четыре, а свои экипажи у кого были? Не на повозках же их тащить? «Здешних дикарей учить надо!» – сказал князь. Лермонтов был задет словами князя Голицына о людях, с которыми он был близок. Возвратившись домой, он поднял настоящий бунт. «Господа! – обратился он к своим друзьям. – На что нам непременно главенство князя на наших пикниках? Не хочет он быть у нас, – и не надо. Мы и без него сумеем справиться».
«Не скажи Михаил Юрьевич этих слов, никому бы из нас и в голову не пришло перечить Голицыну; а тут словно нас бес дернул, – прибавляет Раевский. – Мы принялись за дело с таким рвением, что праздник вышел – прелесть. Площадку перед гротом занесли досками для танцев, грот убрали зеленью, коврами, фонариками, а гостей звали по обыкновению с бульвара. Лермонтов был очень весел, не уходил в себя и от души шутил и смеялся…»
О поразительно хорошем настроении Лермонтова в тот день вспоминают все. Лорер пишет, что «Лермонтов необыкновенно много танцевал. Да и все общество было как-то особо настроено к веселию. После одного бешеного тура вальса Лермонтов, весь запыхавшийся от усталости, подошел ко мне и спросил:
– Видите ли вы даму Дмитриевского?.. Это его «Карие глаза»… Не правда ли, как она хороша?»
«Танцевали по песку, не боясь испортить ботинки, и разошлись по домам лишь с восходом солнца в сопровождении музыки», – вспоминает Эмилия Александровна.
Лермонтов «делал сильное впечатление на женский пол»: «много ухаживал за Идой Мусиной-Пушкиной» (Арнольди) и за «Прекрасной брюнеткой» (Екатериной Быховец, красивой дочерью калужской помещицы, которая жила напротив Верзилиных). Быховец тоже говорит, что Лермонтов был весел и провожал ее пешком. «Все молодые люди нас провожали с фонарями; один из них начал немного шалить. Лермонтов как cousine предложил сейчас мне руку; мы пошли скорей».
С Голицыным, который, в общем, Лермонтову никогда не был врагом – напротив, ценил его и как храброго офицера, и как прекраснейшего поэта, – вышло… нехорошо. На бал в «гроте Дианы» его не пригласили; более того – даже не дали ему знать. «Но ведь немыслимо же было, чтоб он не узнал о нашей проделке в таком маленьком городишке. Узнал князь и крепко разгневался – то он у нас голова был, а то вдруг и гостем не позван. Да и нехорошо это было…» – признает Раевский.
В ответ – «в отместку» – Голицын не пригласил «лермонтовскую банду» на собственный бал, который должен был состояться 15 июля, в день его именин, и именно в казенном саду (как он и предлагал с самого начала). Голицынский бал совершенно не удался, но об этом позже.
«Дикарь с большим кинжалом»
В кружке лермонтовских друзей велся «точный учет» всех приключений. Пикники, кавалькады, балы, поездки – все зарисовывалось. Рисовались и портреты действующих лиц. Васильчиков подробно описывает одну такую картинку: «Помню и себя, изображенного Лермонтовым, длинным и худым посреди бравых кавказцев. Поэт изобразил тоже самого себя маленьким, сутуловатым, как кошка вцепившимся в огромного коня, длинноногого Монго-Столыпина, серьезно сидевшего на лошади, а впереди всех красовавшегося Мартынова в черкеске, с длинным кинжалом. Все это гарцевало перед открытым окном, вероятно, дома Верзилиных. В окне видны три женские головки. Лермонтов, дававший всем меткие прозвища, называл Мартынова «дикарь с большим кинжалом» или «Горец с большим кинжалом» или просто «господин Кинжал». Он довел этот тип до такой простоты, что просто рисовал характерную кривую линию да длинный кинжал, и каждый тотчас узнавал, кого он изображает».
Мартынову вообще доставалось – в основном, возможно, за общую живописность облика и за обидчивость. С чувством юмора, особенно в том, что касалось лермонтовских шуточек, у Мартынова всегда дело обстояло плохо, еще с юношеских лет.
Мартынов приехал на Кавказ, будучи офицером Кавалергардского полка. Предполагалось, что он сейчас же сделает блестящую карьеру и всех поразит своей храбростью и тотчас получит чины и награды. За обеденным столом у генерал-адъютанта Граббе Мартынов высказал это намерение с детской простотой; Граббе немного посмеялся над самоуверенностью молодого офицера и объяснил ему, что на Кавказе «храбростью никого не удивишь». Награды здесь даются не так-то легко. В общем, Мартынова, человека внешне красивого, несколько помпезного, вместе с тем недалекого и чересчур убежденного в своих непревзойденных достоинствах, как говорят сейчас, обломали.
«Защитники» Мартынова любят повторять, что Лермонтов «сам нарвался» своими бесконечными издевками. Мол, допекал человека – ну и допек.
Однако стоит обратить внимание и на обратную сторону медали. Мартынов в общем-то «сам нарывался» на то, чтобы над ним смеялись. Дело в том, что Николай Соломонович чрезвычайно серьезно, практически благоговейно относился к собственной персоне. Он словно бы не жил, а нес драгоценного себя сквозь время и пространство. Костенецкий, состоявший в то время при штабе в Ставрополе, вспоминает, каков он был в 1839 году: «К нам на квартиру почти каждый день приходил Н. С. Мартынов. Это был очень красивый молодой гвардейский офицер, блондин со вздернутым немного носом и высокого роста. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно пел под фортепиано романсы и полон надежд на свою будущность; он все мечтал о чинах и орденах и думал не иначе как дослужиться на Кавказе до генеральского чина. После он уехал в Гребенской казачий полк, куда он был прикомандирован, и в 1841 году я увидел его в Пятигорске. Но в каком положении! Вместо генеральского чина он был уже в отставке всего майором, не имел никакого ордена и из веселого и светского изящного молодого человека сделался каким-то дикарем, отрастил огромные бакенбарды, в простом черкесском костюме, с огромным кинжалом, в нахлобученной белой папахе, мрачный и молчаливый».
Одного этого портрета достаточно, чтобы начать рисовать карикатуры; а уж по контрасту с мечтами о генеральском чине и т. п. устоять, тем более такому язве, как Лермонтов, практически невозможно.
Интересно также, что Костенецкий в истории о дуэли «более всех стоит на стороне Мартынова и приводит самые для Лермонтова невыгодные сведения», – как указывает Висковатов.
Справедливости ради можно прибавить, что обычно Мартынов носил форму Гребенского казачьего полка. Однако он находился в отставке и поэтому «делал разные вольные к ней добавления». Он носил белую черкеску и черный бархатный или шелковый бешмет или, наоборот, черную черкеску и белый бешмет. В дождливую погоду надевал черную папаху вместо белой. Рукава черкески засучивал, что придавало «всей его фигуре смелый и вызывающий вид». Мартынов, конечно, очень хорошо сознавал, что красив, высок, эффектен и любил принимать преувеличенные позы, старательно демонстрируя свои достоинства. Рука сама тянулась к карандашу при виде этой фигуры…
Вот Мартынов въезжает в Пятигорск. Кругом пораженные его красотой дамы. «И въезжающий герой, и многие дамы были замечательно похожи». Подпись под рисунком: «Господин Кинжал въезжает в Пятигорск».
На другом рисунке огромный Мартынов с огромным кинжалом от пояса до земли беседует с миниатюрной Наденькой Верзилиной, на поясе которой миниатюрненький кинжальчик.
Нередко Мартынов изображался верхом. Он ездил «плохо, но с претензией – неестественно изгибаясь». На одном из рисунков Мартынов в стычке с горцами кричит и машет кинжалом, причем лошадь мчит его прочь от врагов. Лермонтов по сему поводу (как вспоминает Васильчиков) замечал: «Мартынов положительно храбрец, но только плохой ездок, и лошадь его боится выстрелов. Он в этом не виноват, что она их не выносит и скачет от них». Очевидно, намек на какую-то историю, в которой Мартынов свое бегство сваливает на лошадь, а себя по-прежнему выставляет героем. Лермонтов не стал бы такое выдумывать и наговаривать на товарища, приписывая ему мнимую трусость: даже сам Мартынов, утверждавший, что Лермонтов «не пропускал ни единого случая, где он мог бы сказать мне что-нибудь неприятное», отпускал всевозможные колкости и остроты – все, «чем только можно досадить человеку, не касаясь его чести». Чести Лермонтов не касался – не клеветал, если чего-то не было.
Все эти рисунки разглядывали в кругу друзей. Не щадили никого – Лермонтов, как известно, позволял и смеяться над собой, и первый над собой смеялся. Мартынову приходилось терпеть – деваться некуда, ведь доставалось даже девицам. Однажды Мартынов вошел, когда Лермонтов с Глебовым что-то с хохотом рисовали в альбоме. Мартынов потребовал, чтобы ему показали рисунок. Он был уверен, что это какая-то особо злостная карикатура на его особу. Но Лермонтов захлопнул альбом. Мартынов хотел выхватить альбом, Глебов здоровой рукой отстранил его (вторая рука у Глебова была на перевязи – он был ранен в ключицу и до сих пор не оправился). Лермонтов тем временем вырвал листок и убежал. Мартынов затеял с Глебовым ссору, и тот тщетно убеждал разъяренного Николая Соломоновича в том, что карикатура не имела к нему никакого отношения.
Думается, так и было. Рисунок не относился к Мартынову. Это было нечто совершенно иное, и Лермонтов просто не хотел, чтобы Мартынов узнал о чем-то. Будь на рисунке «господин Кинжал», от него бы это не таили. Но в силу самовлюбленности Мартынов был убежден в том, что мир вращается вокруг него и, следовательно, любой утаенный рисунок, любая шепотом произнесенная фраза – это о нем… Нет, он именно что «нарывался».
Тринадцатое июля
Обыкновенно у Верзилиных принимали по воскресным дням, и тогда в их салоне бывали танцы. Тринадцатое июля было воскресенье. Сошлись гости – полковник Зельмиц с дочерьми, Лермонтов, Мартынов, Трубецкой, Глебов, Васильчиков, Лев Пушкин – все те же лица. Обсуждали бал, который «в пику» «лермонтовской банде» устраивал Голицын на свои именины. Идти или не идти? Их не приглашали… Танцы шли вяло. Эмилия Александровна дулась на Лермонтова, он приставал к ней и умолял «сделать хоть один тур». Наконец, когда он взмолился: «Мадемуазель Эмилия, прошу вас на один только тур вальса, в последний раз в жизни!» – она смилостивилась и потанцевала с ним. После этого Лермонтов усадил Эмилию около ломберного стола, сам сел рядом, с другой стороны устроился Лев Пушкин… «Оба они, – рассказывала Эмилия Александровна, – отличались злоязычием и принялись взапуски острить. Собственно, обидно злого в том, что они говорили, ничего не было, но я очень смеялась неожиданным оборотам и анекдотическим рассказам, в которые вмешали и знакомых нам людей. Конечно, доставалось больше всего водяному обществу, к нам мало расположенному, затронуты были и некоторые приятели наши. При этом Лермонтов, приподнимая одной рукой крышку ломберного стола, другою чертил мелом иллюстрации к своим рассказам».
Князь Трубецкой играл на рояле «что-то очень шумное». Надежда Петровна разговаривала с Мартыновым. Тот был при своим любимом длинном кинжале и «часто переменял позы, из которых одна была изысканнее другой». Лермонтов быстро рисовал его фигуру то так, то эдак. Мартынов перехватил брошенный на него взгляд Лермонтова, нахмурился.
– Престаньте, Михаил Юрьевич! – сказала Эмилия Александровна. – Видите – Мартынов сердится.
Фортепиано играло громко, поэтому они разговаривали, не понижая голоса. Лермонтов ответил Эмилии – ив этот самый миг, как нарочно, Трубецкой оборвал игру. На весь зал отчетливо прозвучало слово «Кинжал», которое произнес Лермонтов. Мартынов побледнел, засверкал глазами, губы у него затряслись. Он быстро подошел к Лермонтову и сказал:
– Сколько раз я просил вас оставить свои шутки, особенно в присутствии дам!
«Меня поразил тон Мартынова и то, что он, бывший на «ты» с Лермонтовым, произнес слово «вы» с особенным ударением», – признавалась Эмилия.
Бросив Лермонтову обвинение, Мартынов тотчас отошел. Эмилия обратилась к Лермонтову:
– Язык мой – враг мой!
– Это ничего, – спокойно отозвался он. – Завтра мы опять будем добрыми друзьями.
Танцы продолжались как ни в чем не бывало. Никто и не заметил этой краткой вспышки. Лев Пушкин, сидевший близко и все слышавший, также не придал значения этому обмену репликами. Скоро стали расходиться. Выходя из дома, Мартынов придержал Лермонтова за рукав. Что произошло между ними, какие слова были сказаны – никто в точности не знает. Но это был вызов на ту самую дуэль, которая станет для Лермонтова роковой.
Эмилия передает так: «После уж рассказывали мне, что когда выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: «Что ж, на дуэль, что ли, вызовешь меня за это?» Мартынов ответил решительно: «Да», и тут же назначили день».
Другая версия того же диалога:
– Вы знаете, Лермонтов, что я очень долго выносил ваши шутки, продолжающиеся, несмотря на неоднократное мое требование, чтобы вы их прекратили.
– Что же, ты обиделся?
– Да, конечно, обиделся.
– Не хочешь ли требовать удовлетворения?
– Почему же нет?
– Меня изумляют и твоя выходка, и твой тон… Впрочем, ты знаешь, вызовом меня испугать нельзя. Хочешь драться – будем драться, – сказал (как передают) Лермонтов.
– Конечно, хочу, – отвечал Мартынов. – И потому разговор этот может считаться вызовом.
В своих показаниях Мартынов также сводит диалог к этой теме: «При выходе из этого дома я удержал его за руку, чтобы он шел рядом со мной; остальные все уже были впереди. Тут я сказал ему, что прежде я просил его прекратить эти несносные для меня шутки, но что теперь предупреждаю, что если бы он еще вздумал выбрать меня предметом для своей остроты, то я заставлю его перестать… Он (Лермонтов)… повторял мне несколько раз кряду, что ему тон моей проповеди не нравится, что я не могу запретить ему говорить про меня то, что он хочет, и в довершение прибавил: «Вместо пустых угроз ты гораздо бы лучше сделал, если бы действовал. Ты знаешь, что я никогда не отказывался от дуэлей, следовательно, ты никого этим не запугаешь»».
Лорер также передает эту версию: «… Шутки эти показались обидны самолюбию Мартынова, и он скромно заметил Лермонтову всю неуместность их. Но желчный и наскучивший жизнью человек не оставлял своей жертвы, и, когда однажды снова сошлись в доме Верзилиных, Лермонтов продолжал острить и насмехаться над Мартыновым, который, наконец выведенный из себя, сказал, что найдет средство заставить замолчать обидчика. Избалованный общим вниманием, Лермонтов не мог уступить и отвечал, что угроз ничьих не боится, а поведения своего не изменит».
Ни Васильчиков, ни Глебов, ни Лев Пушкин – никто не придавал этой ссоре большого значения. Закончив разговор вызовом на дуэль и расставшись с Лермотовым возле дома, Мартынов вошел в квартиру и стал ждать своего соседа Глебова. Минут через пятнадцать явился и Глебов. Мартынов попросил его быть секундантом. Тот согласился. Начались переговоры.
Призвали Дорохова, знаменитого бретера, «принимавшего участие в четырнадцати дуэлях». Дорохов, как человек опытный, дал совет разлучить противников на некоторое время: «Раздражение пройдет, а там, Бог даст, и сами помирятся». Вторым секундантом стал князь Васильчиков. Князь был молод, и его согласие стать секундантом у многих вызвало удивление. Делом руководили такие безупречные знатоки дуэльного кодекса, как Столыпин и Дорохов. Как и полагается, сперва делались попытки примирения. Формальный вызов на дуэль последовал от Мартынова; однако слова Лермонтова «ну так потребуйте от меня удовлетворения» сами по себе заключали косвенное «приглашение» на дуэль. Поэтому секундантам пришлось решать – кто есть истинный зачинщик и кому перед кем следовало сделать первый шаг к примирению. 14 июля Глебов и Васильчиков явились к Мартынову и постарались уговорить его взять вызов назад. Мартынов был уверен в том, что идея помириться исходит вовсе не от Лермонтова – в коем нет ни тени раскаяния в том, что он допекал столь прекрасного Николая Соломоновича, да еще при дамах, – а от самих секундантов. Поэтому Мартынов отказался. «Они настаивали, напоминали мне прежние отношения, говорили о веселой жизни, которая с ним ожидает нас в Кисловодске и что все это будет расстроено глупой историей, – писал Мартынов. – Чтобы выйти из неприятного положения человека, который мешает веселиться другим, я сказал им, чтобы они сделали воззвание к самим себе: поступили бы они иначе на моем месте? После этого меня уже никто не уговаривал». Особенно обидно было Мартынову, что сам Лермонтов, в общем, не видел в случившемся ничего особенного и вообще не принимал всерьез ни саму дуэль, ни сердечную обиду Мартынова.
Тогда возникла идея разлучения соперников с надеждой на примирение. Лермонтов согласился с ней и уехал в Железноводск. Мартынов по этому поводу даже пытался острить и называл Лермонтова своим «путешествующим противником».
Мартынов на примирение, как мы знаем, категорически не соглашался. Свои доводы он приводит следственной комиссии. Висковатов полагает, что патетического Дикаря-С-Кинжалом тешила роль «непреклонного». Никто не ожидал, что карикатурный персонаж способен на убийство. Царило общее убеждение в том, что противники обменяются формальными выстрелами в лучшем духе дружеских картинок и стишков, потом подадут друг другу руки и все закончится веселым ужином. Делались даже приготовления к пикнику, чтобы отпраздновать счастливый исход дуэли. Лермонтов, который, как кажется, разделял общее несерьезное отношение, говорил, что на «Мартышку» у него рука не поднимется стрелять. Словом, никто не верил, что убийственная торжественность Мартынова – не напускная.
15 июля было назначено днем поединка. Это был день именин Голицына и день того самого «официального» бала, на который «лермонтовская банда» не была приглашена. По сему случаю затевалась проказа в духе Ромео: явиться на праздник князя Голицына инкогнито, прийти или на горку в саду, или куда-нибудь поближе к саду, чтобы там посмотреть фейерверк. Эта деталь лишний раз свидетельствует о том, как мало значения придавали «дружеской дуэли» товарищи Лермонтова.
Пятнадцатое июля
Утром к Лермонтову в Железноводск из Пятигорска приехали в коляске Екатерина Быховец с тетушкой, которых сопровождали верхами юнкер Бенкендорф, ИД. Дмитревский и Л. С. Пушкин. В шотландской колонии Каррас был устроен по сему поводу пикник.
Лермонтов в своем «старом стиле» ухаживал за прекрасной смуглянкой Екатериной Быховец, гулял с ней в роще, интриговал. «Я все с ним ходила под руку, – рассказывала Быховец. – На мне было бандо. Уж не знаю, какими судьбами, коса моя распустилась, и бандо свалилось, которое он взял и спрятал в карман. Он при всех был весел, шутил, а когда мы были вдвоем, он ужасно грустил…» По давним историям с кузинами мы уже знаем, что это было обычное поведение влюбленного – пусть на короткое время – Лермонтова. Из-за этого «бандо» какое-то время говорили потом, что мадемуазель Быховец и была причиной дуэли; к счастью, скоро хоть эти разговоры прекратились. Другой причиной пытались выставлять Эмилию Александровну (дескать, Лермонтов и Мартынов оба за ней ухаживали; бедная Эмилия много лет яростно отрицала, что «княжна Мери» – это она).
Когда время дуэли определилось, за Лермонтовым в Железноводск отправились, чтобы сообщить ему о времени и месте дуэли. Кто именно приехал – осталось невыясненным. Предполагают, что Столыпин. Говорят, что лошадей наняли «два офицера», чтобы ехать в колонию Каррас. Там эти «два офицера» встретили Лермонтова и еще одного или двух офицеров. После «некоторого пребывания» в гостинице г-жи Рошке они вместе выехали в Пятигорск. Здесь нужно учитывать, что Васильчиков – штатский; в числе этих «офицеров» вполне мог быть и сам Мартынов. Или же Мартынов с Васильчиковым в Каррас не ездили, а сразу направились к месту дуэли…
Так или иначе, Лермонтов куртуазно простился с мадемуазель Быховец, забрал ее бандо, обещав вернуть, «если будет жив», и весело раскланялся. После этого он отбыл с офицерами, которые за ним явились.
Арнольди пишет: «На полпути в Железноводск я встретил Столыпина и Глебова на беговых дрожках. Глебов правил, а Столыпин с ягдташем и ружьем через плечо имел перед собою что-то покрытое платком. На вопрос мой, куда они едут, они отвечали мне, что на охоту… Не подозревая того, что они едут на роковое свидание Лермонтова с Мартыновым, я приударил коня и пустился от них вскачь, так как дождь усилился. Несколько далее я встретил извозчичьи дрожки с Дмитриевым и Лермонтовым…»
Мартынов показывает иное: «Условлено было между нами сойтись к шести с половиной часам пополудни. Я выехал немного ранее из своей квартиры верхом; беговые дрожки свои дал Глебову. Васильчиков и Лермонтов догнали меня уже на дороге; последние два были также верхом».
Вообще точный и полный состав участников неизвестен. Были князь Васильчиков и Глебов, секунданты; наверняка – Столыпин, был также князь Трубецкой. Практически не сомневаются в том, что поблизости находился и Дорохов. Участие Трубецкого скрывали весьма тщательно, поскольку он приехал на воды из экспедиции без разрешения. Вообще от следствия потом многое скрывалось…
Следует обратить внимание еще на то обстоятельство, что экипажей в Пятигорске (как мы помним по организации бала в «гроте Дианы») было крайне мало. Дуэлянты ехали верхом. Обычно стараются дуэлянтов сажать в экипажи, чтобы рука была вернее. Здесь этого не было сделано.
Вечер был душный, надвигалась гроза. На горизонте росла и темнела туча. Не доезжая до Пятигорска приблизительно двух с половиной верст, участники дуэли повернули в гору по следам, которые оставили дрожки князя Васильчикова.
«Всю дорогу из Шотландки до места дуэли Лермонтов был в хорошем расположении духа. Никаких предсмертных разговоров, никаких посмертных распоряжений от него Глебов не слыхал. Он ехал как будто на званый пир какой-нибудь. Все, что он высказал за время переезда, это сожаление, что он не мог получить увольнения от службы в Петербурге и что ему в военной службе едва ли удастся осуществить задуманный труд. «Я выработал уже план, – говорил он Глебову, – двух романов: одного – из времен смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкой в Вене, и другого – из Кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, Персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране, и вот придется сидеть у моря и ждать погоды, когда можно будет приняться за кладку их фундамента. Недели через две уже нужно будет отправиться в отряд, к осени пойдем в экспедицию, а из экспедиции когда вернемся!»» – так передавал этот эпизод П. К. Мартьянов.
Добрались наконец до места. У подножия Машука густо рос кустарник, если стать спиной к горе, то впереди будет видна старая железноводская дорога (во времена Висковатова она уже заросла, исследователь с трудом отыскал ее с помощью старожилов).
Лошадей оставили у проводника Евграфа Чалова (у которого их, собственно, и наняли) или же привязали к кустам, как показывали на следствии. Направились наверх к поляне между двумя кустами. Там уже ожидали Лермонтова Мартынов и Васильчиков.
Висковатов передает интересный разговор, состоявшийся у него с князем Васильчиковым.
«Когда я спросил князя Васильчикова, кто, собственно, был секундантами Лермонтова, он ответил, что, собственно, не было определено, кто чей секундант. «Прежде всего Мартынов просил Глебова, с коим жил, быть его секундантом, а потом как-то случилось, что Глебов был как бы со стороны Лермонтова. Собственно секундантами были: Столыпин, Глебов, Трубецкой и я. На следствии же показали: Глебов себя секундантом Мартынова – я Лермонтова. Других мы скрыли. Трубецкой приехал без отпуска и мог поплатиться серьезнее. Столыпин уже раз был замешан в дуэль Лермонтова, следовательно, ему могло достаться серьезнее»». Врача с ними не было – то ли никто не хотел ехать в надвигающуюся грозу ради несерьезной дуэли (очередная лермонтовская проказа, возможно), то ли вообще потому, что никто из участников также не считал эту дуэль чем-то существенным. Не приготовили даже экипажа на случай, если кто-нибудь будет ранен.
Вот еще одна странная деталь – отсутствие экипажа. Упоминается, что Васильчиков приехал в экипаже, что Лермонтов ехал, собственно, по следу колес. Арнольди также встретил Столыпина с Лермонтовым в экипаже. Куда все эти колеса подевались после дуэли, почему – Васильчикову? Глебову? – пришлось мчаться в город за экипажем, чтобы перевезти смертельно раненного, умершего Лермонтова? Восстановить события не удается в первую очередь потому, что все участники дуэли согласно лгали.
Однако вернемся к ходу поединка.
Дождь начинался или вот-вот должен был начаться. (Говорят также, что стрелялись под проливным дождем, что струи хлестали по лицам, затрудняли видимость…)
Писали, что стрелялись на десяти шагах, но это вряд ли так; вероятнее, что на пятнадцати. Так пишет в показаниях Мартынов, и это же соответствует дуэльному кодексу.
Кто-то из секундантов воткнул в землю шашку, сказав: «Вот барьер». Глебов бросил фуражку в десяти шагах от шашки (нет, не в десяти, не может быть в десяти). Длинноногий Столыпин, делая большие шаги, увеличил пространство. «Я помню, – говорил князь Васильчиков, – как он ногою отбросил шапку и она откатилась еще на некоторое расстояние. От крайних пунктов барьера Столыпин отметил еще по 10 шагов, и противников развели по краям. Заряженные в это время пистолеты были вручены им. Они должны были сходиться по команде «сходись!». Особенного права на первый выстрел по условию никому не было дано. Каждый мог стрелять, стоя на месте, или подойдя к барьеру, или на ходу, но непременно между командою «два» и «три». Противников поставили на скате около двух кустов: Лермонтова лицом к Бештау, следовательно, выше; Мартынова ниже, лицом к Машуку. Это опять была неправильность. Лермонтову приходилось целить вниз, Мартынову вверх, что давало последнему некоторое преимущество. Командовал Глебов… «Сходись!» – крикнул он. Мартынов пошел быстрыми шагами к барьеру, тщательно наводя пистолет. Лермонтов остался неподвижен. Взведя курок, он поднял пистолет дулом вверх и заслонился рукой и локтем…»
Пистолеты принадлежали Столыпину. Это были «кухенройтеры» (именно они лежали, накрытые платком, в ящике, когда Арнольди встретил Столыпина на дороге). В 1881 году Висковатов видел их в Москве над кроватью Дмитрия Аркадьевича Столыпина…
Васильчиков помнит «спокойное, почти веселое выражение, которое играло на лице поэта перед дулом уже направленного на него пистолета».
Глебов выкрикивал: «Один… два… три!»
Мартынов стоял у барьера. Он повернул пистолет курком в сторону – он называл это «стрелять по-французски» – и выстрелил.
Эта деталь – про повернутый пистолет – важна потому, что Мартынов так стрелял и раньше и разговоры о том, что он был плохим стрелком, мягко говоря, преувеличены. Мартынов попал не случайно – он хотел убить и убил. Екатерина Аркадьевна Столыпина, жена Дмитрия Алексеевича Столыпина, писала в письме бабушке Елизавете Алексеевне: «Мартынов говорил после, что он не целился, но был так взбешен и взволнован, попал ему прямо в грудь, бедный Миша только жил пять минут, ничего не успел сказать, пуля навылет». Странно «не целился» Мартынов…
Васильчиков рассказывает так:
«Лермонтов упал, как будто его скосило на месте… не успев даже захватить больное место, как это обыкноведнно делают люди раненые или ушибленные.
Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом – сочилась кровь, пуля пробила сердце и легкие.
Хотя признаки жизни уже видимо исчезли, но мы решили позвать доктора. По предварительному нашему приглашению присутствовать при дуэли доктора, к которым мы обращались, все наотрез отказались. Я поскакал верхом в Пятигорск, заезжал к двум господам медикам, но получил такой же ответ, что на место поединка, по случаю дурной погоды (шел проливной дождь), они ехать не могут, а приедут на квартиру, когда привезут раненого.
Когда я возвратился, Лермонтов уже мертвый лежал на том же месте, где упал; около него Столыпин, Глебов и Трубецкой. Мартынов уехал прямо к коменданту объявить о дуэли».
Разные патетические подробности в мемуарах, скорее всего, домыслы. Стрелял ли Лермонтов на воздух? Произносил ли он растерянно: «Как же это так – мне целить в Мартышку?» Пытался ли он помириться у барьера, на что «исступленный Мартынов» отвечал: «Стреляй! Стреляй!»? «Лермонтов выстрелил на воздух, а Мартынов подошел и убил его. Все говорят, что это убийство, а не дуэль, но я думаю, что за сестру Мартынову нельзя было поступить иначе», – пишет, например, A.A. Елагин (ещеодна «причина» дуэли! И «нельзя поступить иначе»)…
А вот еще рассуждение о том, что Мартынов, как и его товарищи, не понимал происходящего в полной мере. Пораженный исходом дуэли он будто бы бросился к убитому с криком: «Миша, прости!»
Скорее всего, все эти россказни – просто романтические бредни. Все случилось очень быстро и просто. Был ли этот первый выстрел Лермонтова на воздух? Васильчиков, например, говорил, что «поручик Лермонтов упал уже без чувств и не успел дать своего выстрела, из его заряженного пистолета выстрелил я гораздо позже на воздух».








