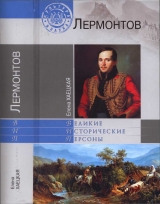
Текст книги "Лермонтов"
Автор книги: Елена Хаецкая
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 34 страниц)
Бэла была татарка у Хастатова; а сам Хастатов – сын Екатерины Алексеевны, сестры бабушки Арсеньевой, выведен в «Фаталисте» (офицер, бросившийся в окно на убийцу).
Но больше всего публику занимал вопрос: с кого списана княжна Мери? «Мне известно до шести дам, которые утверждают, что княжна Мери списана с них, – говорит Висковатов, – многие приводили мне неопровержимые к тому досказательства!.. Самое распространенное мнение – это то, что в княжне Мери Лермонтов изобразил сестру Мартынова, за что навлек негодование последнего и был им убит. Княжной Мери называют упорно почтенную Эмилию Александровну Шан-Гирей (жену Акима Павловича)… Лермонтовский музей хранит портрет ее, пометив его «Княжна Мери»… С Эмилии Александровны Лермонтов не мог писать княжны Мери по той простой причине, что он познакомился с нею и ее семьей в 1841 году, следовательно, спустя почти три года после того, как была написана «Княжна Мери»… Еще один «прототип» – девица Реброва, а доказательство – ботинки «красновато-бурого цвета» (у Ребровой были такие же)…»
Так или иначе, роман читали с большим интересом и бурно обсуждали.
Известно длинное и подробное письмо Николая I о «Герое нашего времени». Эмма Герштейн в книге «Судьба Лермонтова» приводит его в новом переводе с подлинника.
Царь взял с собой книгу Лермонтова, прощаясь с больной женой в Эмсе. 12 июня 1840 года он сел на пароход «Богатырь», доставивший его в Петергоф. 12 (24) июня Николай начал свое письмо императрице и продолжал его во все время плавания.
«Я работал и читал всего Героя, который хорошо написан…»
Утром 14 (26) июня: «Я работал и продолжал читать сочинение г. Лермонтова. Второй том я нахожу менее удачным, чем первый…»
В семь часов вечера роман был дочитан. «За это время, – пишет царь, – я дочитал до конца Героя и нахожу вторую часть отвратительной, вполне достойной быть в моде. Это то же самое изображение презренных и невероятных характеров, какие встречаются в нынешних иностранных романах. Такими романами портят нравы и ожесточают характер. И хотя эти кошачьи вздохи читаешь с отвращением, все-таки они производят болезненное действие, потому что в конце концов привыкаешь верить, что весь мир состоит только из подобных личностей, у которых даже хорошие с виду поступки совершаются не иначе как по гнусным и грязным побуждениям. Какой же это может дать результат? Презрение или ненависть к человечеству! Но это ли цель нашего существования на земле? Люди и так слишком склонны становиться ипохондриками или мизантропами, так зачем же подобными писаниями возбуждать или развивать такие наклонности! Итак, я повторяю, по-моему, это жалкое дарование, оно указывает на извращенный ум автора. Характер капитана набросан удачно. Приступая к повести, я надеялся и радовался тому, что он-то и будет героем наших дней, потому что в этом разряде людей встречаются куда более настоящие, чем те, которых так неразборчиво награждают этим эпитетом. Несомненно, кавказский корпус насчитывает их немало, но редко кто умеет их разглядеть. Однако капитан появляется в этом сочинении как надежда, так и не осуществившаяся, и господин Лермонтов не сумел последовать за этим благородным и таким простым характером; он заменяет его презренными, очень мало интересными лицами, которые, чем наводить скуку, лучше бы сделали, если бы так и оставались в неизвестности – чтобы не вызывать отвращения. Счастливый путь, г. Лермонтов, пусть он, если это возможно, прочистит себе голову в среде, где сумеет завершить характер своего капитана, если вообще он способен его постичь и обрисовать».
Что тут скажешь! У Николая I – собственные резоны. Ему хотелось бы, чтобы молодой сочинитель вывел главным героем – героем нашего времени – штабс-капитана Максима Максимыча, простого вояку и служаку, слугу царю, отца солдатам, а не Печорина, соблазнительно-притягательного и одновременно с тем отнюдь не образца для подражания. От такой книги была бы польза, а от «Героя» – одно только смущение.
Книга распродавалась очень хорошо. В 1841 году вышло второе издание. К этому второму изданию Лермонтов написал предисловие (в свой последний приезд в Петербург), которое послужило своего рода ответом на критические статьи, появившиеся в журналах. В этом предисловии Лермонтов главным образом отвечал С. П. Шевыреву, который объявил Печорина явлением безнравственным и порочным, не существующим в русской жизни, а принадлежащим «миру мечтательному, производимому в нас ложным отражением Запада».
«Эта книга, – говорит Лермонтов о «Герое», – испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых…»
Что ж, «несчастной доверчивостью» страдали не только читатели лермонтовской поры; мы знаем, что, несмотря на предисловие Лермонтова, где он черным по белому пишет о том, что Герой Нашего Времени – «портрет, составленный из пороков всего нашего поколения», т. е. образ собирательный (и это действительно так, особенно если внимательно следить за эволюцией образов в лермонтовской прозе, начиная от «Вадима»), – несмотря на все эти объяснения и прямое обращение к читательскому здравому смыслу, – автора упорно продолжают отождествлять с его персонажем, а все речения персонажа упорно продолжают приписывать автору как сокровенную его мысль («один из друзей всегда раб другого» и пр.)
«Не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает…»
Он ведь открыто говорит о том, что не видит себя в роли «пастыря народов». Но как же так? Поэт в России больше, чем поэт. Поэтому читающая публика, по странному капризу, слова Печорина принимает на веру, а слова самого Лермонтова пропускает мимо ушей.
И вот уже появляется миф о ницшеанстве. Все, что скажет г-н поручик, будет использовано против него в суде. А поручик возьми да и брякни, что ему было писать «весело». Как это – «весело»? Весело описывать пороки? Весело глядеть на то, как храбрый и одаренный человек скучает и впустую растрачивает свою жизнь? (А как быть с «Печально я гляжу на наше поколенье»?) Ну да, в общем, «все это было бы смешно, когда бы не было так грустно»… Уж не цинизм ли это?
А какой вообще смысл вкладывал Лермонтов в слово «весело»?
Интересно? Любопытно? Достойная творческая задача? Ведь образ Печорина – это настоящая писательская удача, у Лермонтова наконец-то получилось, после десятка попыток описать себя, истинного или воображаемого, создать персонажа абсолютно живого и одновременно с тем не срисованного с себя целиком и полностью.
А он говорит – «весело»…
Пушкин, закончив «Годунова», кричал сам себе: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» Что ж, разве ему не было в этот момент весело? Но Лермонтов написал в предисловии совсем «неподходящее» слово. И уехал на Кавказ.
Прощание с Петербургом
В первой половине апреля 1841 года Лермонтов еще надеялся выйти в отставку и посвятить себя литературной деятельности. Говорил с Краевским об основании нового журнала, развивал идеи «самостоятельной» литературной жизни: «Мы должны… внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам всё тянуться за Европою и за французским… Мы в своем журнале, – говорил он, – не будем предлагать обществу ничего переводного, а свое собственное. Я берусь к каждой книжке доставлять что-либо оригинальное, не так, как Жуковский, который всё кормит переводами, да еще не говорит, откуда берет их».
Славянофилы желали хотя бы заочно причислить Лермонтова к своему лагерю. Уже упоминалось о том, что современники находили сходство между Лермонтовым и Хомяковым; а тут еще лермонтовские высказывания о том, что не следует заимствовать у Европы. Спасович говорит так: «По врожденной сильной наклонности к национальному, по сильной любви к родине своей, по нерасположению своему к европеизму и глубокому религиозному чувству… Лермонтов был снабжен всеми данными для того, чтобы сделаться великим художником того литературного направления, теоретиками коего были Хомяков и Аксаковы…»
Ошибочное, но такое типичное стремление приручить гения, загнать его в клетку той или иной теоретической школы и назвать своей собственностью, сделать своим знаменем и таким образом управлять им. Этого просто не получится. Не получи ось у декабристов – с Пушкиным. Не получилось и у славянофилов – с Лермонтовым. Творчество Лермонтова не сводимо к славянофильскому направлению – он не считал нужным ставить себе какие-то границы, обусловленные принадлежностью к какой-либо «партии». Огарев в предисловии к сборнику «Русская потаенная литература XIX века» (1861) такими словами характеризовал отношение Лермонтова к борьбе литературных направлений: «Он (Лермонтов) ловил свой идеал отчужденности и презрения, так же мало заботясь об эстетической теории искусства ради искусства, как и о всех отвлеченных вопросах, поднятых в его время под знаменем германской науки и раздвоившихся на два лагеря: западный и славянский. Вечера, где собирались враждующие партии, равно как и всякие иные вечера с ученым или литературным оттенком, он называл «литературной мастурбацией», чуждался их и уходил в великосветскую жизнь отыскивать идеал маленькой Нины; но идеал «ускользал, как змея», и поэт оставался в своем холодно палящем одиночестве».
Насчет «палящего одиночества» Огарев погорячился; но обидно ведь, что добыча ушла из рук – и какая добыча! И куда ушла! К каким-то светским барыням и армейским друзьям! Ни у одной, ни у другой стороны не получилось размахивать Лермонтовым, как знаменем.
А времени оставалось все меньше и меньше.
«Как-то вечером, – рассказывал Краевский, – Лермонтов сидел у меня и, полный уверенности, что его наконец выпустят в отставку, делал планы своих будущих сочинений. Мы расстались в самом веселом и мирном настроении. На другое утро часу в десятом вбегает ко мне Лермонтов и, напевая какую-то невозможную песню, бросается на диван. Он в буквальном смысле катался по нем в сильном возбуждении. Я сидел за письменным столом и работал. «Что с тобою?» – спрашиваю у Лермонтова. Он не отвечает и продолжает петь свою песню, потом вскочил и выбежал. Я только пожал плечами. У него таки бывали странные выходки… Раз он меня потащил в маскарад, в Дворянское собрание; взял у кн. Одоевской ее маску и домино и накинул его сверх гусарского мундира; спустил капюшон, нахлобучил шляпу и помчался. На все мои представления Лермонтов отвечает хохотом. Приезжаем; он сбрасывает шинель, одевает маску и идет в залы. Шалость эта ему прошла безнаказанно. Зная за ним совершенно необъяснимые шалости, я и на этот раз принял его поведение за чудачество. Через полчаса Лермонтов снова вбегает. Он рвет и мечет, снует по комнате, разбрасывает бумаги и вновь убегает. По прошествии известного времени он опять тут. Опять та же песня и катание по широкому моему дивану. Я был занят; меня досада взяла: «Да скажи ты, ради бога, что с тобою, отвяжись, дай поработать!..» Михаил Юрьевич вскочил, подбежал ко мне и, схватив за борты сюртука, потряс так, что чуть не свалил меня со стула. «Понимаешь ли ты! мне велят выехать в 48 часов из Петербурга». Оказалось, что его разбудили рано утром. Клейнмихель приказывал покинуть столицу в дважды двадцать четыре часа и ехать в полк в Шуру. Дело это вышло по настроению графа Бенкендорфа, которому не нравились хлопоты о прощении Лермонтова и выпуск его в отставку».
Все, время вышло. 12 апреля у Карамзиных были проводы Лермонтова. Вечер был грустный. Ростопчина вспоминала, что «…во время всего ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать и стала смеяться над его, казавшимися пустыми, предчувствиями».
Перед расставанием Лермонтов написал в альбом графине Ростопчиной:
Я верю: под одной звездою
Мы с вами были рождены;
Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны.
Но что ж! – от цели благородной
Оторван бурею страстей,
Я позабыл в борьбе бесплодной
Преданья юности моей.
Предвидя вечную разлуку,
Боюсь я сердцу волю дать;
Боюсь предательскому звуку
Мечту напрасную вверять…
Так две волны несутся дружно
Случайной, вольною четой
В пустыне моря голубой:
Их гонит вместе ветер южный;
Но их разрознит где-нибудь
Утеса каменная грудь…
И, полны холодом привычным,
Они несут брегам различным,
Без сожаленья и любви,
Свой ропот сладостный и томный,
Свой бурный шум, свой блеск заемный
И ласки вечные свои.
В этом стихотворении Лермонтов, для которого некогда «женщина» и «давать» (по выражению Боткина) было одно и то же, обращается к адресату как к равной, как к личности, которая во всем его поймет. Здесь нет того откровенного желания обидеть, как в «Я не люблю тебя». Оба – поэт и женщина – встретились, узнали друг друга и осознали: «звук», который приманил их, – не тот. Похож – но не тот. «Предательский звук», которому нельзя вверять мечту. Было бы ошибкой броситься на него, не окончив молитвы, забыв про сражение. Вы согласны? Вы согласны! Он видит в ней едва ли не товарища, с которым возможно разделить печальную думу.
Поэтесса рассказывает об этом стихотворении в примечании к собственному стиху – «Пустой альбом». «Этот альбом был мне подарен М. Ю. Лермонтовым перед отъездом его на Кавказ… стало быть, перед его смертью. В нем написал он свое стихотворение ко мне: «Я знаю, под одной звездою мы были с вами рождены»»…
На самом деле она, конечно, не была Лермонтову в полном смысле слова ровней, но видела в нем и гениального поэта, и глубокого, искреннего человека.
П. П. Вяземский упоминает, что тогда же Лермонтов написал стихотворение «На севере диком»: «Накануне отъезда своего на Кавказ Лермонтов по моей просьбе мне перевел шесть стихов Гейне «Сосна и пальма». Немецкого Гейне нам принесла С. Н. Карамзина. Он наскоро, в недоделанных стихах, набросал на клочке бумаги свой перевод».
Владимир Федорович Одоевского на прощание подарил Лермонтову записную книжку, на которой написал: «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и всю исписанную. Кн. В. Одоевский, 1841. Апреля 13-е. СПБург».
Эта книжка будет заполнена лишь наполовину, но там появятся такие замечательные произведения, как «Утес», «Спор», «Сон», «L’Attente», «Лилейной рукой поправляя», «На бурке под тенью чинары», «Они любили друг друга так долго и нежно», «Тамара», «Свиданье», «Листок», «Выхожу один я на дорогу», «Морская царевна», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю»…
На следующий день Лермонтов отбыл из Петербурга в Москву. Его провожал Аким Шан-Гирей. «К восьми утра приехали мы в Почтамт, откуда отправлялась московская мальпост (почтовая карета. – Е. Х.).У меня не было никакого предчувствия, но очень было тяжело на душе. Пока закладывали лошадей, Лермонтов давал мне различные поручения к В. А. Жуковскому и A.A. Краевскому, говорил довольно долго, но я ничего не слыхал. Когда он сел в карету, я немного опомнился и сказал ему: «Извини, Мишель, я ничего не понял, что ты говорил, если что нужно будет, напиши, я все исполню». – «Какой ты еще дитя, – отвечал он. – Ничего, все перемелется – мука будет. Прощай, поцелуй ручки у бабушки и будь здоров».
Это были в жизни его последние слова ко мне…»
Глава двадцать первая
Последняя Москва
17 апреля Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов прибыл в Москву, где остановился у Дмитрия Григорьевича Розена, своего однополчанина по Гусарскому полку, в Петровском дворце. Он немедленно рапортует бабушке: «…я в Москве пробуду несколько дней, остановился у Розена; Алексей Аркадич (Монго) здесь еще; и едет послезавтра. Я здесь принят был обществом по обыкновению очень хорошо – и мне довольно весело; был вчера у Николая Николаевича Анненкова и завтра у него обедаю; он был со мною очень любезен; – вот все, что я могу вам сказать про мою здешнюю жизнь; еще прибавлю, что я от здешнего воздуха потолстел в два дни; решительно Петербург мне вреден…»
Бабушка не разделяла легкомысленного оптимизма своего внука. В глубочайшей печали она писала Софье Николаевне Карамзиной: «Опасаясь обеспокоить вас моим приездом, решилась просить вас через писмо; вы так милостивы к Мишиньке, что я смело прибегаю к вам с моею прозбою, попросите Василия Андреевича [Жуковского] напомнить государыне [Александре Федоровне], вчерашний день прощены [в связи с празднованием бракосочетания наследника Александра Николаевича с принцессой Марией Гессен-Дармштадтской]: Исаков, Лихарев, граф Апраксин и Челищев; уверена что и Василий Андреевич извинит меня, что я его беспокою, но сердце мое растерзано».
Жуковский действительно решил воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств. По существовавшей традиции свадьбе наследника должны были сопутствовать щедрые награды и амнистии провинившихся. Жуковский настоятельно советует своему воспитаннику цесаревичу Александру Николаевичу сделать все от него зависящее для смягчения участи декабристов, Лермонтова, но ходатайство потерпело фиаско. Не простили.
Тем временем Лермонтов задерживается в Москве. Пять дней. Может быть, самых лучших в жизни. Он проводит время у Розена, Анненковых, Лопухиных, видится со Столыпиными, кутит и вместе с тем почти непрерывно пишет стихи.
Один из тех, к кому Лермонтов в Москве заходит постоянно, – Юрий Федорович Самарин, позднее – философ, публицист, общественный деятель и вообще славянофил. Самарин был младше Лермонтова на пять лет; Лермонтов по-настоящему дружил с ним и разговаривал просто и откровенно. Самарин стал одним из тех, кто после смерти Лермонтова принял участие в собирании и публикации его наследия. Воспоминания Самарина о Лермонтове, записанные в дневнике под впечатлением от известия о смерти поэта, точны и достоверны. Он говорит о Лермонтове с любовью и в то же время не скрывая и своих неприятных впечатлений: «неуловимая», «в высшей степени артистическая натура» поэта то подавляла тяжелым взглядом и «глубиной индифферентизма» к собеседнику, то пленяла «простым обращением, детской откровенностью». Самарин передает темы своих разговоров с Лермонтовым: «кружок шестнадцати», «воспоминания Кавказа», женщины, литературные проекты, его скорая кончина.
В дневнике Самарин записал: «Лермонтов снова приехал в Москву. Я нашел его у Розена. Мы долго разговаривали, он показывал мне свои рисунки. Воспоминания Кавказа его оживили. Помню его поэтический рассказ о деле с горцами, где ранен Трубецкой… Его голос дрожал, он был готов прослезиться. Потом ему стало стыдно, и он, думая уничтожить первое впечатление, пустился толковать, почему он был растроган, сваливая все на нервы, расстроенные летним жаром. В этом разговоре он был виден весь. Его мнение о современном состоянии России: «Хуже всего не то, что известное количество людей терпеливо страдает, а то, что огромное количество страдает, не сознавая этого». Вечером он был у нас. На другой день мы были вместе под Новинским».
Под Новинское Лермонтов и Самарин ездили 20 или 21 апреля на народные гулянья, устроенные в связи с ожидавшимся приездом в Москву Николая I и всей царской семьи. Должно быть, весело проводили время. Вообще, несмотря на настойчивые разговоры о своей близкой смерти (разговоры эти начались еще в Петербурге и в Москве продолжились), Лермонтов не очень-то скучал. Немецким поэт и переводчик Ф. Боденштедт лицезрел Лермонтова в один из этих пяти московских дней и оставил весьма выразительное описание, в котором мы легко узнаем нашего бывшего царскосельского гусара:
«В один пасмурный воскресный или праздничный день мне случилось обедать с Павлом Олсуфьевым во французском ресторане, который в то время усердно посещался знатной московской молодежью. Во время обеда к нам присоединилось еще несколько знакомых и, между прочим, один молодой князь замечательно красивой наружности и довольно ограниченного ума, но большой добряк. Мы были уже за шампанским. Снежная пена лилась через край стаканов, и через край лились из уст моих собеседников то плохие, то меткие остроты.
«А! Михаил Юрьевич!» – вдруг вскричали двое-трое из моих собеседников при виде только что вошедшего молодого офицера, который слегка потрепал по плечу Олсуфьева, приветствовал молодого князя словами: «Ну, как поживаешь, умник!», а остальное общество коротким: «Здравствуйте». У вошедшего была гордая, непринужденная осанка, средний рост и замечательная гибкость движений. Вынимая при входе носовой платок, чтобы обтереть мокрые усы, он выронил на паркет бумажник или сигарочницу и при этом нагнулся с такой ловкостью, как будто бы он был вовсе без костей, хотя плечи и грудь у него довольно широки.
Гладкие, белокурые, слегка вьющиеся по обеим сторонам волосы оставляли совершенно открытым необыкновенно высокий лоб. Большие, полные мысли глаза, казалось, вовсе не участвовали в насмешливой улыбке, игравшей на красиво очерченных губах молодого офицера.
Одет он был не в парадную форму; на шее небрежно повязан черный платок; военный сюртук не нов и не доверху застегнут, и из-под него виднелось ослепительной свежести белье. Эполет на нем не было.
Мы говорили до тех пор по-французски, и Олсуфьев представил меня на том же диалекте вошедшему. Обменявшись со мною несколькими беглыми фразами, офицер сел с нами обедать. При выборе кушаньев и в обращении к прислуге он употреблял выражения, которые в большом ходу у многих, чтобы не сказать у всех русских, но которые в устах этого гостя – это был Михаил Лермонтов – неприятно поразили меня. Эти выражения иностранец прежде всего научается понимать в России, потому что слышит их повсюду и беспрестанно; но ни один порядочный человек – за исключением грека или турка, у которых в ходу точь-в-точь такие выражения, – не решится написать их в переводе на свой родной язык.
После того как Лермонтов быстро отведал несколько кушаньев и выпил два стакана вина (при этом он не прятал под стол свои красивые, выхоленные руки), он сделался очень разговорчив, и, надо полагать, то, что он говорил, было остроумным и смешным, т. к. слова его несколько раз прерывались громким хохотом. К сожалению, для меня его остроты оставались непонятными, так как он нарочно говорил по-русски и к тому же чрезвычайно скоро, а я в то время недостаточно хорошо понимал русский язык, чтобы следить за разговором. Я заметил только, что остроты его часто переходили в личности; но, получив несколько раз меткий отпор от Олсуфьева, он счел за лучшее упражняться только над молодым князем [в разговоре с Висковатовым Боденштедт пояснил, что этот князь был А. И. Васильчиков, позднее секундант на дуэли поэта].
Некоторое время тот добродушно переносил остроты Лермонтова; но, наконец, и ему уже стало невмочь, и он с достоинством умерил его пыл, показав, что при всей ограниченности ума сердце у него там же, где и у других людей.
Казалось, Лермонтова искренно огорчило, что он обидел князя, своего товарища, и он всеми силами старался помириться с ним, в чем скоро и успел.
Я уже знал и любил тогда Лермонтова по собранию его стихотворений, вышедшему в 1840 году, но в этот вечер он произвел на меня столь невыгодное впечатление, что у меня пропала всякая охота поближе сойтись с ним. Весь разговор, с самого его прихода, звенел у меня в ушах, как будто кто-то скреб по стеклу.
… У меня правило основывать свое мнение о людях на первом впечатлении; но в отношении Лермонтова мое первое неприятное впечатление вскоре совершенно изгладилось приятным.
Не далее как на следующий же вечер, встретив снова Лермонтова в салоне г-жи Мамоновой, я увидел его в самом привлекательном свете. Лермонтов вполне умел быть милым. Отдаваясь кому-нибудь, он отдавался от всего сердца; только едва ли с ним это часто случалось. В самых близких и прочных дружественных отношениях находился он с умною графинею Ростопчиной, которой было бы поэтому легче, нежели кому-либо, дать верное понятие об его характере. Людей же, недостаточно знавших его, чтобы извинять его недостатки за его высокие обаятельные качества, он скорее отталкивал, нежели привлекал к себе, давая слишком много воли своему несколько колкому остроумию».
В Москве пишутся стихотворения «Сон», «Утес», «Тамара», «Спор», которое Лермонтов отдал Самарину, «Они любили друг друга так долго и нежно» (перевод из Гейне). В Москве ему хорошо. Хотелось бы здесь остаться навсегда. Встретив Вигеля, Лермонтов и ему высказал свою заветную мечту: «Ах, если бы мне позволено было оставить службу, с каким удовольствием я поселился бы здесь навсегда». Вигель, очевидно, знал или угадывал беспокойную натуру Лермонтова и потому ответил (если верить его словам): «Ненадолго, мой любезнейший». Примечательно, что Вигель именует Лермонтова «руссоманом» – в каких-то кругах за поэтом остается репутация славянофила или близкого к ним человека.
Что ж, это можно понять, учитывая его дружбу с Самариным. Самарин был последним, кто провожал Лермонтова из Москвы на Кавказ. При прощании Лермонтов «между прочим бросил несколько слов о своем близком конце, к которым я отнесся как к обычной шутке», – с горечью вспоминал потом Самарин.
Решено было, что на Кавказ с Лермонтовым поедет Монго-Столыпин. По мнению Висковатова, друзья и родные поручили ему оберегать поэта от дальнейших опасных выходок. Никаких фактов, доказующих сие, не существует, но мнение правомочно. В любом случае оба друга направлялись на Кавказ практически одновременно и скоро встретились. Алексей Аркадьевич выехал из Москвы 22 апреля, Лермонтов – днем или двумя позднее.








