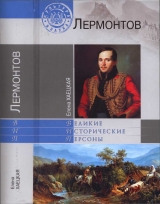
Текст книги "Лермонтов"
Автор книги: Елена Хаецкая
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 34 страниц)
Юрий как персонаж интересен в первую очередь тем, что это реалистический герой в романтическом произведении. Первым персонажем такого рода в творчестве Лермонтова считается Зораим из «Ангела смерти»: Зораим, живя в романтическом уединении пустыни с прекрасной Адой, «мог быть счастлив, но блаженства искал в забавах он пустых, искал он в людях совершенства, а сам – сам не был лучше их». Но в «Ангеле смерти» тема лишь намечена; другое дело Юрий, полностью ее раскрывший.
Первая встреча Юрия с Вадимом. Вадим – весь крайности, пропасти и бездны; дикая ненависть к Палицыным, безумная любовь к Ольге, страшное внешнее уродство и могучая сила духа. А Юрий – «хорош»… – «именно таковые лица нравятся женщинам: что-то доброе и вместе буйное, пылкость без упрямства, веселость без насмешки… голубые глаза не отражали свет, но, казалось, изливали его на все, что им встречалось».
«Как тебе нравится мой горбач!.. – сказал Борис Петрович. – Преуморительный…»
«Каждый человек, батюшка, – отвечал Юрий, – имеет недостатки… он не виноват, что изувечен природой!..»
Борис Петрович, как нарочно, сам того не зная, подыгрывает Вадиму; они исполняют роли в одной пьесе: Борис Петрович – роль бездушного злодея, Вадим – роль рокового мстителя. Но Юрий отказывается играть в подобной пьесе, он просто хороший человек и не желает быть чем-то иным. Вадима это сперва «смущает», а затем повергает в «бешенство»: он испытывает зависть – почему? Во-первых, потому, что Юрий красив; во-вторых, потому, что Юрий великодушен и добр; в-третьих, потому, что Юрий по душе Ольге и, поскольку они не кровная родня, эта любовь не преступна, а праведна и законна. Юрию – все, Вадиму – ничего; вот и причина для ненависти. Зависть – чувство демоническое. Вадим переходит на сторону «своего демона».
Чтобы подчеркнуть «реалистичность» Юрия, Лермонтов рассказывает такой эпизод его воинской службы. Во время войны с турками Юрий нашел красивую турчанку по имени Зара – «полуживую, под пылающими угольями разрушенной хижины»; «неизъяснимая жалость зашевелилась в глубине души его, и он поднял Зару, – и с этих пор она жила в его палатке, незрима и прекрасна, как ангел»… Однако «ангел» оказался ложным: в одну прекрасную ночь Юрий проснулся, «как ужаленный скорпионом», и увидел, что Зара занесла над ним кинжал. «В одно мгновение вырвал он у Зары смертоносное орудие и кинул далеко от себя; но турчанка не испугалась, не смутилась…
– Неблагодарная, змея! – воскликнул Юрий, – говори, разве смертью платят у вас за жизнь? разве на все мои ласки ты не знала другого ответа, как удар кинжала?., говори: чего ты хочешь?
– Я хочу свободы! – отвечала Зара.
– Свободы!., а! я тебе наскучил… ступай, Зара… Божий мир велик. Найди себе дом, друзей… ты видишь: и без моей смерти можно получить свободу…»
Такое мирное и, очевидно, простое разрешение «неразрешимого» конфликта удивило Зару; удивило бы оно и любого другого романтического персонажа; но для Юрия это был вполне естественный поступок. Так же он ведет себя и с остальными: это воплощенное здравомыслие и простота.
Еще один персонаж, столкнувшийся с простотой Юрия, – его родной отец, Борис Петрович. Юрий узнал о посягательствах отца на Ольгу и сказал твердо и без затей: «Если хотите быть моим отцом… то вообразите себе, что эта девушка такая неприкосновенная святыня, на которой самое ваше дыхание оставит вечные пятна… уважение имеет границы, а любовь – никаких!» Реакцию Бориса Петровича Лермонтов нам не показывает, но, надо полагать, слова сына возымели надлежащее действие – раз и навсегда. И никаких, заметьте, лишних драм.
Мы наконец подошли к главной истории романа – к пугачевскому бунту. Вадим становится предводителем восставших. Что движет им? Жажда справедливости, желание свободы? Мир народам, земля крестьянам?
Вадима нельзя сопоставлять даже со Швабриным: мол, оба – дворяне, перешедшие на сторону восставшего народа. Швабрин – офицер-предатель, Вадим – типичный люмпен, человек без классовой принадлежности, маргинал. Обладая сильным характером и особенной демонской «харизмой», он возглавляет сброд, подталкивает толпу к злодействам.
Смотрим, как начинается бунт. Толстая благодушная барыня Наталья Сергеевна с «Юрьюшкой», Ольгой и дворней отправляется в монастырь на богомолье. Это едва ли не единственное доступное ей развлечение. Наталья Сергеевна плоха тем, что свое неповторимое человеческое существование разменяла на рутину, на скуку повседневности, она плоха тем, что позволила душе заплыть жиром. Но в общем многие так живут – и Лермонтова это ужасает, – однако не убивать же за такое!
В монастыре Вадим на миг окунается в прежнюю стихию: картина Страшного Суда над воротами, безобразные нищие вокруг. Одна нищенка узнала Вадима и потребовала у него денег, он ее толкнул, она упала, ударилась и умерла; и ничто не шевельнулось у Вадима в душе. Когда толпа обсуждала смерть нищенки, Вадим даже не вспомнил о том, что послужил причиной этой смерти!
Время начинать мятеж. И мятеж начался с того, что толпа растерзала Наталью Сергеевну – наименее виновную из всех…
Юрий с Ольгой успели уйти раньше, а Борис Петрович вообще мирно храпел в доме у солдатки, своей любовницы, где всегда останавливался, когда уходил охотиться.
С этой минуты Вадим миновал главное распутье своей жизни: он превращается в злодея. Его главное желание – вовсе не восстановление справедливости для всех, вовсе не «покончить с угнетением крестьян», нет, он жаждет извести Палицыных… и даже не столько Бориса Петровича, повинного в гибели его семьи, сколько Юрия Борисовича, который отнял у него, Вадима, Ольгу.
Заметим, если бы Вадим вел себя не в «традициях Зары», а в «традициях Юрия», он бы быстро обнаружил, что и свободу, и Ольгу можно получить, не прибегая к кинжалу. Братская любовь – вполне дозволенное и очень желательно чувство, которому в обычных обстоятельствах вовсе не мешает замужество сестры. Но остановиться невозможно: демон выходит наружу – очевидно, после убийства нищенки, – и Вадим все больше погружается в разбойничьи декорации драмы «Испанцы» (сцены с веселящимися пугачевцами по стилю почти аналогичны сценам с веселящимися испанскими разбойниками).
«Казаки разложили у берега речки несколько ярких огней и расположились вокруг; прикатили первую бочку, – началась пирушка… Сначала веселый говор пробежал по толпе, смех, песни, шутки, рассказы, все сливалось в одну нестройную, неполную музыку, но скоро шум начал возрастать… Какие разноцветные группы! яркое пламя костров, согласно с догорающим западом, озаряло картину пира…
– За здравие пана Белобородки! – говорил один, выпивая разом полный ковшик. – Он первый выдумал этот золотой поход!..
– Черт его побери! – отвечал другой, покачиваясь; – славный малый!., пьет как бочка, дерется как зверь… и умнее монаха…
– … Ах ты хвастун, лях проклятый… ты во все время сидел с винтовкой за анбаром… ха! ха! ха!..
– А ты, рыжий, где спрятался, признайся, когда старик-то заперся в светелке да начал отстреливаться…
– …да кто же, если не я, подстрелил того длинного молодца…
– …уж я целил, целил в его меньшую дочь… ведь разбойница! стоит за простенком себе да заряжает ружья…»
Картина очень «романтическая»: пирующие разбойники похваляются, кто кого подстрелил и при каких обстоятельствах. Старик и его храбрая меньшая дочь, которая заряжала ружья для мужчин, – тут же, захваченные в плен. «Большие серые глаза» старика «медленно, строго пробегали картину, развернутую перед ним случайно; ни близость смерти, ни досада, ни ненависть, ничто не могло, казалось, отуманить этого спокойного, всепроникающего взгляда». А дочь его – «достойная кисти Рафаэля, с детской полусонной, полупечальной, полурадостной, невыразимой улыбкой» – «прилегла на плечо старика так беспечно и доверчиво, как ложится капля росы небесной на листок».
«Кто вам мешает их убить! разве боитесь своих старшин? – сказал Вадим с коварной улыбкой».
Непонятно, однако, как советская критика могла видеть в этом эпизоде восхищение пугачевцами и какие-то революционные мотивы. Пьяные казаки хватают старика и, грубо его браня, тащат вешать. «Не может быть, батюшка… ты не умрешь!..» – плачет дочь. «Отчего же, дочь! не может быть?., и Христос умер!., молись!» – отвечает старик.
Их растащили; но вдруг она вскрикнула и упала… она была мертва…»
Старику «надели на шею петлю, перекинули конец веревки через толстый сук и… раздался громкий хохот… Пьяные безумцы прежде времени пустили конец веревки, который взвился кверху; мученик сорвался, ударился оземь, – и нога его хрустнула… он застонал и повалился возле трупа своей дочери…»
«Пьяные безумцы», хохочущие при виде смерти, и «мученик», до последней минуты сохранявший достоинство, – кажется, акценты расставлены с предельной ясностью.
В эпизоде с повешенным опять мелькает цитата. В «Соборе Парижской Богоматери», как мы помним, повесили Эсмеральду, а ее мать умерла от горя прямо у подножия виселицы. В «Вадиме» вешают отца, а от горя тут же умирает дочь. Для чего эта цитата? Не для того ли, чтобы подчеркнуть разницу между Вадимом и Квазимодо – при изначальном их вроде бы внешнем сходстве?
Зачем Вадим предложил расправиться со стариком?
«Он хотел узнать, какое чувство волнует душу при виде такой казни, при виде самых ужасных мук человеческих – и нашел, что душу ничего не волнует».
Сближение с демоном стало почти полным.
Но, может быть, какая-то искра бескорыстной революционности все же тлеет в Вадиме? Ведь, в конце концов, он расправился в лице старика и девушки с классовыми врагами? Погодите, сейчас мы увидим, как он распорядился пытать «товарищей по классу» – солдатку и ее сына, выспрашивая, где прячется Палицын… Последнее слово романа – «душегубцы»: так называет автор сподвижников Вадима.
Превращение завершилось. Несколько раз Вадим сожалеет о своей человечности, о том, что не принадлежит к миру духов, но относится к миру людей. Но в конце концов он перестает сопротивляться демону своей души. Он больше не страдает, он больше вообще ничего не чувствует. Вся его «умиротворенность» – ложь, но каким образом эта ложь обрушится на голову Вадима и покарает его, остается за рамками написанного текста.
Ольга, в ужасе отвернувшаяся от родного брата, Юрий, не рвущийся геройски погибнуть и благоразумно скрывающийся, перетрусивший Палицын-старший – все они брошены посреди текста.
Чувства читателей, не получивших полноценной развязки этого сногсшибательного сюжета, вероятно, Лермонтову безразличны; тем лучше для Лермонтова – и тем хуже для читателей.
Глава четырнадцатая
Приключения корнета Лермонтова
22 ноября 1834 года Лермонтов наконец высочайшим приказом произведен по экзамену из юнкеров в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка. Нужно ли говорить, каким великим событием это стало для бабушки – и для бесчисленного «полка» лермонтовских кузин!
«В конце 1834 года он [Лермонтов] был произведен в корнеты, – пишет Меринский. – Через несколько дней по производстве он уже щеголял в офицерской форме. Бабушка его Е. А. Арсеньева поручила тогда же одному из художников снять с Лермонтова портрет. Портрет этот, который я видел, был нарисован масляными красками в натуральную величину, по пояс. Лермонтов на портрете изображен в виц-мундире гвардейских гусар, в корнетских эполетах; в руках треугольная шляпа с белым султаном, какие тогда носили кавалеристы, и с накинутой на левое плечо шинелью с бобровым воротником. На портрете этом хотя Лермонтов был немного польщен, но выражение глаз и турнюра его схвачены были верно».
После производства в офицеры господа юнкера были приведены к присяге, представлены великому князю Михаилу Павловичу, который в свою очередь представил их государю Николаю Павловичу. В конце концов «новопроизведенная молодежь» разъехалась по полкам. Лермонтов отбыл в Царское Село.
Служба его не была обременительной, и П. К. Мартьянов по этому поводу вспоминал: «Большинство офицеров, не занятых службой, уезжала в Петербург и оставалось там до наряда на службу. На случай экстренного же требования начальства в полку всегда находилось два-три обер-офицера из менее подвижных, которые и отбывали за товарищей службу, с зачетом очереди наряда в будущем».
Начальство не препятствовало подобным вольностям, и тот же Мартьянов приводит такой эпизод:
«В праздничные дни, а также в случаях каких-либо экстраординарных событий в свете, как-то: балов, маскарадов, постановки новой оперы или балета, дебюта приезжей знаменитости, гусарские офицеры не только младших, но и старших чинов уезжали в Петербург и, конечно, не все возвращались в Царское Село своевременно… Однажды генерал Хомутов приказал полковому адъютанту, графу Ламберту, назначить на утро полковое учение, но адъютант доложил ему, что вечером идет «Фенелла» и офицеры в Петербурге, так что многие, не зная о наряде, не будут на ученье. Командир полка принял во внимание подобное представление, и учение было отложено до следующего дня».
Лермонтов, как нетрудно догадаться, был из числа «подвижных» и предпочитал проводить как можно больше времени в Петербурге.
Н. М. Лонгинов утверждает, что он был «плохой служака в смысле фронтовика и всех мелких подробностей в обмундировании». (Интересно, как изменяется значение слова: после Второй мировой войны «фронтовиками» называли людей, сражавшихся на фронте, на передовой; в XIX веке «фронтом» была строевая подготовка, важная в первую очередь на парадах и смотрах.)
Новая встреча с Екатериной Сушковой
4 декабря 1834 года Лермонтов на балу у «госпожи К.» вновь, после долгой разлуки, встретился с Е. А. Сушковой. Он больше не влюбленный подросток, он – гусар. Ему известно о романе Сушковой и Алексея Лопухина; он начинает собственную интригу.
В своих «Записках» Екатерина Александровна пересказывает эту встречу до мелочей:
«Я была в белом платье, вышитом пунцовыми звездочками, и с пунцовыми гвоздиками в волосах…
…вдруг Лиза вскричала: «Ах, Мишель Лермонтов здесь!»
– Как я рада, – отвечала я, – он нам скажет, когда приедет Лопухин.
Пока мы говорили, Мишель уже подбежал ко мне, восхищенный, обрадованный этой встречей, и сказал мне:
– Я знал, что вы будете здесь, караулил вас у дверей, чтоб первому ангажировать вас.
Я обещала ему две кадрили и мазурку, обрадовалась ему, как умному человеку, а еще более как другу Лопухина. Лопухин был моей первенствующей мыслью. Я не видала Лермонтова с 1830 года; он почти не переменился в эти четыре года, возмужал немного, но не вырос и не похорошел и почти все такой же был неловкий и неуклюжий, но глаза его смотрели с большею уверенностию, нельзя было не смутиться, когда он устремлял их с какой-то неподвижностью.
– Меня только на днях произвели в офицеры, – сказал он, – я поспешил похвастаться перед вами моим гусарским мундиром и моими эполетами; они дают мне право танцевать с вами мазурку; видите ли, как я злопамятен, я не забыл косого конногвардейца…
– А ваша злопамятность и теперь доказывает, что вы сущий ребенок; но вы ошиблись, теперь и без ваших эполет я бы пошла танцевать с вами.
– По зрелости моего ума?
– Нет, это в сторону, во-первых, я в Петербурге не могу выбирать кавалеров, а во-вторых, я переменилась во многом.
– И этому причина любовь?
– Да я и сама не знаю; скорее, мне кажется, непростительное равнодушие ко всему и ко всем.
– К окружающим – я думаю; к отсутствующим – позвольте не верить вам.
– Браво, Monsieur Michel, вы, кажется, заочно меня изучали; смотрите, легко ошибиться…
Тут мы стали болтать о Сашеньке, о Средникове, о Троицкой Лавре – много смеялись, но я не могла решиться замолвить первая о Лопухине.
Раздалась мазурка; едва мы уселись, как Лермонтов сказал мне, смотря прямо мне в глаза:
– Знаете ли, на днях сюда приедет Лопухин…
Я чувствовала, как краснела от этого имени, от своего непонятного притворства, а главное, от испытующих взоров Мишеля…»
Екатерина Александровна с большой досадой убедилась в том, что Алексей Лопухин открыл Лермонтову свою сердечную тайну, между тем как от самой Екатерины требовал молчания. Лермонтов же не терял времени даром: «Он распространялся о доброте его (Лопухина) сердца, о ничтожности его ума, а более всего напирал, с колкостью, о его богатстве…»
Сушкова, конечно, не знала о том, какие неприятные вещи Лермонтов писал о ней в письме Марии Лопухиной (23 декабря 1834 года):
«Послушайте, мне показалось, что он (Алексей) питает нежность к Екатерине Сушковой… знаете ли вы это? – дядюшки этой девицы хотели бы их повенчать!.. Сохрани Боже!.. Эта женщина – летучая мышь, крылья которой цепляются за всё, что попадается на пути! – Было время, когда она мне нравилась. Теперь она меня почти принуждает ухаживать за ней… но я не знаю, есть что-то в ее манерах, в ее голосе такое жесткое, отрывистое, резкое, что отталкивает. Стараясь ей понравиться, испытываешь потребность ее компрометировать, наблюдать, как она запутывается в собственных сетях…»
* * *
К исполнению своего плана Лермонтов приступил немедленно. Для начала он навязался к Сушковой на семейный вечер. Произошло это при первой же их новой встрече, у «г-жи К.».
«Лиза и я, мы сказали Лермонтову, что у нас 6-го (декабря) будут танцевать, и он нам решительно объявил, что приедет к нам.
– Возможно ли, – вскричали мы в один голос, – вы не знаете ни дядей, ни теток?
– Что за дело? Я приеду к вам.
– Да мы не можем принять вас, мы не принимаем никого.
– Приеду пораньше, велю доложить вам, вы меня и представите.
Мы были и испуганы и удивлены его удальством, но, зная его коротко, ожидали от него такого необдуманного поступка.
Мы начали ему представлять строгость теток и сколько он нам навлечет неприятных хлопот.
– Во что бы то ни стало, – повторил он, – я непременно буду у вас послезавтра.
Возвратясь домой, мы много рассуждали с сестрой о Лермонтове, о Лопухине и очень беспокоились, как сойдет нам с рук безрассудное посещение Лермонтова…»
* * *
В «страшный» день 6 декабря Лермонтов явился, опоздав на час. Сушкова ждала его и два первых танца придержала, никому их не обещав. Это оказалось кстати. Вообще все прошло довольно гладко, по каковому поводу Лермонтов заметил:
– Видите, как легко достигнуть того, чего пламенно желаешь?
Сушкова возразила со свойственной ей назидательностью:
– Я бы не тратила свои пламенные желания для одного танцевального вечера.
Невольно она придерживается того покровительственно-поучающего тона, каким разговаривала с Лермонтовым-подростком.
– Тут не о лишнем вечере идет дело; я сделал первый шаг в ваше общество, и этого много для меня, – объявил Лермонтов. – Помните, я еще в Москве вам говорил об этой мечте, теперь только осуществившейся.
«Он… был очень весел и мил со всеми, даже ни над кем не посмеялся».
Лермонтов деятельно принялся вбивать клинья между Сушковой и Лопухиным. Ему хотелось разрушить отношения между другом и «летучей мышью», поэтому он заговорил о крайне неприятных вещах:
– … Я не могу быть свидетелем счастия другого, видеть, что богатство доставляет все своим избранным, – богатому лишнее иметь ум, душу, сердце, его и без этих прилагательных полюбят, оценят; для него не заметят искренней любви бедняка, а если и заметят, то прикинутся недогадливыми; не правда ли, это часто случается?
Екатерина демонстративно не понимает явного намека на богатство Лопухина:
– Я не знаю, я никогда не была в таком положении; по моему мнению, одно богатство без личных достоинств ничего не значит.
Лермонтов идет в лобовую атаку:
– Поэтому позвольте вас спросить: что же вы нашли в Лопухине?
Она уклоняется:
– Я говорю вообще и не допускаю личностей.
Он гнет свое:
– А я прямо говорю о нем.
«О, если так, – сказала я, стараясь выказать как можно больше одушевления, – так мне кажется, что Лопухин имеет все, чтоб быть истинно любимым и без его богатства; он так добр, так внимателен, так чистосердечен, так бескорыстен, что в любви и в дружбе можно положиться на него.
– А я уверен, что если бы отняли у него принадлежащие ему пять тысяч душ, то вы бы первая и не взглянули на него…»
Екатерина приводит довольно выразительное сравнение:
«Для меня богатство для человека все равно что роскошный переплет для книги: глупой не придаст занимательности, хорошей – не придаст цены и своей мишурной позолотой».
«Я знаю все, – многозначительно произносит Лермонтов, – помните ли вы Нескучное, превратившееся без вас в Скучное, букет из незабудок, страстные стихи в альбоме? Да, я все тогда же знал и теперь знаю, с какими надеждами Лопухин сюда едет».
Очевидно, он еще в первый раз заметил, как неприятно для Екатерины видеть, что Лопухин рассказал другу все подробности своего романа и нанес удар по старой ране.
«Я друг Лопухина, и у него нет от меня ни одной скрытой мысли, ни одного задушевного желания», – заключил Лермонтов. После чего «пошел на штурм».
«В ожидании ужина Яковлев пел разные романсы и восхищал всех своим приятным голосом и чудной методой.
Когда он запел:
Я вас любил, любовь еще, быть может,
В душе моей погасла не совсем… —
Мишель шепнул мне, что эти слова выражают ясно его чувства в настоящую минуту.
Но пусть она вас больше не тревожит,
Я не хочу печалить вас ничем.
– О нет, – продолжал Лермонтов вполголоса, – пускай тревожит, это – вернейшее средство не быть забыту.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим.
– Я не понимаю робости и безмолвия, – шептал он, – а безнадежность предоставляю женщинам.
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим!
– Это совсем надо переменить; естественно ли желать счастия любимой женщине, да еще с другим? Нет, пусть она будет несчастлива; я так понимаю любовь, что предпочел бы ее любовь – ее счастию; несчастлива через меня, это бы связало ее навек со мною! А ведь такие мелкие, сладкие натуры, как Лопухин, чего доброго, и пожелали бы счастия своим предметам! А все-таки жаль, что я не написал эти стихи, только я бы их немного изменил. Впрочем, у Баратынского есть пьеса, которая мне еще больше нравится, она еще вернее обрисовывает мое прошедшее и настоящее. – И он начал декламировать:
Нет; обманула вас молва,
По-прежнему я занят вами,
И надо мной свои права
Вы не утратили с годами.
Другим курил я фимиам,
Но вас носил в святыне сердца,
Другим молился божествам,
Но с беспокойством староверца!
– Вам, Михаил Юрьевич, нечего завидовать этим стихам, вы еще лучше выразились:
Так храм оставленный – все храм,
Кумир поверженный – все бог!
– Вы помните мои стихи, вы сохранили их? Ради Бога, отдайте мне их, я некоторые забыл, я переделаю их получше и вам же посвящу.
– Нет, ни за что не отдам, я их предпочитаю какими они есть, с их ошибками, но с свежестью чувства; они, точно, не полны, но, если вы их переделаете, они утратят свою неподдельность, оттого-то я и дорожу вашими первыми опытами.
Он настаивал, я защищала свое добро – и отстояла…»
* * *
На следующий день гусар явился к даме – развивать успех.
Екатерина с сестрой Лизой сидела вечером в маленькой гостиной. «Как обыкновенно случается после двух балов сряду, в неглиже, усталые, полусонные, мы лениво читали вновь вышедший роман г-жи Деборд-Вальмор…»
Появление Лермонтова разрушило эту идиллическую домашнюю картину.
– Как это можно, – вскрикнула Екатерина, – два дня сряду! И прежде никогда не бывали у нас, как это вам не отказали! Сегодня у нас принимают только самых коротких.
– Да мне и отказывали, – подтвердил Лермонтов, – но я настойчив.
Грозная тетка Сушковой была им покорена – очевидно, Лермонтов умел нравиться пожилым дамам и вызывать их доверие.
Сушкова попробовала вернуться к прежнему менторскому тону:
– Это просто сумасбродство, Monsieur Michel, вы еще не имеете ни малейшего понятия о светских приличиях.
Но он пропустил это мимо ушей и принялся смешить Сушкову «разными рассказами», потом предложил нам «гадать в карты» и «по праву чернокнижника предсказать нам будущность». («Чернокнижником» Мишеля помнили еще по рождественскому балу, на который он явился с предсказательной книгой.)
«– Но по руке я еще лучше гадаю, – сказал он, – дайте мне вашу руку, и увидите.
Я протянула ее, и он серьезно и внимательно стал рассматривать все черты на ладони, но молчал.
– Ну что же? – спросила я.
– Эта рука обещает много счастия тому, кто будет ею обладать и целовать ее, и потому я первый воспользуюсь. – Тут он с жаром поцеловал и пожал ее.
Я выдернула руку, сконфузилась, раскраснелась и убежала в другую комнату. Что это был за поцелуй! Если я проживу и сто лет, то и тогда я не позабуду его; лишь только я теперь подумаю о нем, то кажется, так и чувствую прикосновение его жарких губ; это воспоминание и теперь еще волнует меня, но в ту самую минуту со мной сделался мгновенный, непостижимый переворот; сердце забилось, кровь так и переливалась с быстротой, я чувствовала трепетание всякой жилки, душа ликовала. Но вместе с тем мне досадно было на Мишеля; я так была проникнута моими обязанностями к Лопухину, что считала и этот невинный поцелуй изменой с моей стороны и вероломством с его…
Во время бессонницы своей я стала сравнивать Лопухина с Лермонтовым; к чему говорить, на чьей стороне был перевес? Все нападки Мишеля на ум Лопухина, на его ничтожество в обществе, все, выключая его богатства, было уже для меня доступно и даже казалось довольно основательным; его же доверие к нему непростительно глупым и смешным. Поэтому я уже не далеко была от измены, но еще совершенно не понимала состояние моего сердца…»
Что примечательно в этом описании, так это его поразительная искренность. Сушкова, ставшая жертвой очень злого розыгрыша, прототип жестоко описанной стареющей светской кокетки Лизы Негуровой в «Княгине Лиговской», не держит зла ни на Лермонтова, ни на себя; что было – то было; из песни слов не выкинешь. Многие позднейшие читатели воспринимают эту душевную открытость мемуаристки как возможность, едва ли не призыв к тому, чтобы осудить ее – пустую светскую красавицу. «Наполненным» и не светским умникам бы такую смелость в выражении чувств, такую бы искренность!
Алла Марченко считает, что Лермонтов бросился защищать семейство Лопухиных от Сушковой – с ее «многолетним опытом охоты на женихов», с ее «плохо управляемым тщеславием»: «Понимал (он) также, что Алексею, не вмешайся он, Лермонтов, в его матримониальные планы, не выпутаться: дядьям засидевшейся девицы очень хотелось их повенчать, сбыть с рук «теряющий свежесть товар». Следовательно, прекрасно представлял, во что превратилась бы жизнь милого ему семейства, не говоря уж об Алексисе, если бы эта холодная, тщеславная, грубодушная женщина вошла в их дом на правах хозяйки!..»
Очень зло и несправедливо по отношению к Сушковой. Может быть, «мисс Блэк-Айс» – и не лучшая пара для Алексея Лопухина. Она его старше, она отнюдь не умнейшая или добрейшая из женщин своей эпохи, но, в общем, чем она так уж плоха? Почему это она «холодная» и «грубодушная» – откуда сие следует?
Устраивая свой розыгрыш, Лермонтов видел в Сушковой прежде всего идеальную партнершу для сложной, мучительной игры в любовь. Если угодно, для игры в «обрывание крылышек бабочкам». «Теперь я не пишу романов, – я их делаю». Будь Сушкова действительно такой расчетливой охотницей на богатых женихов, она не влюбилась бы в Лермонтова и не упустила бы Алексиса с его пятью тысячами душ.
* * *
Роман продолжает развиваться с крейсерской скоростью.
13 декабря Лермонтов отправляется в Царское Село, в лейб-гвардии Гусарский полк («… Лермонтов мундир надел… вчерась приезжал прощаться и поехал в Царское Село, тетушка (бабушка Лермонтова), само собою разумеется, в восхищении», – отмечает Наталья Алексеевна Столыпина в письме дочери, Анне Григорьевне Философовой).
Однако в полку Лермонтов задерживается ненадолго. Через несколько дней он опять мелькает на балах и приемах – и везде встречается с Сушковой.
19 декабря – бал у знаменитого адмирала Александра Семеновича Шишкова, уже старого, «едва передвигающего ноги», но «доброго», по отзыву Екатерины Александровны: «Ему доставляло удовольствие окружать себя веселящеюся молодежью; он, бывало, со многими из нас поговорит и часто спрашивал: на месте ли еще ретивое?»
У адмирала Сушкова не без удивления обнаружила Мишеля; причем Лермонтов бойко беседовал «с былой знаменитостью». Увидев красавицу Сушкову, Александр Семенович простодушно сказал ей:
– Что, птичка, ретивое еще на месте? Смотри, держи обеими руками; посмотри, какие у меня сегодня славные новички.
После чего стал знакомить ее с Лермонтовым. Начался вальс, они пошли танцевать.
– Вы грустны сегодня, – начала Екатерина.
– Не грустен, но зол, – ответил Лермонтов, – зол на судьбу, зол на людей, а главное, зол на вас.
– На меня? Чем я провинилась?
– Тем, что вы губите себя; тем, что вы не цените себя; вы олицетворенная мечта поэта, с пылкой душой, с возвышенным умом, – и вы заразились светом!..
Сушкова не выдерживает и отвечает искренне:
– Да, я решаюсь выйти за Лопухина без сильной любви, но с уверенностью, что буду с ним счастлива.
Лермонтов вынимает козырного туза:
– Боже мой! Если бы вы только хотели догадаться, с какой пылкостью вас любит один молодой человек моих лет…
Екатерина «не понимает» намека:
– Я знаю, что вы опять говорите о Лопухине, потому что я первая его страсть.
– Отвечайте мне прежде на один мой вопрос: скажите, если бы вас в одно время любили два молодых человека, один – богат, счастлив, все ему улыбается, все пред ним преклоняется, все ему доступно, единственно потому только, что он богат! Другой же молодой человек далеко не богат, не знатен, не хорош собой, но умен, но пылок, восприимчив и глубоко несчастлив; он стоит на краю пропасти, потому что никому и ни во что не верит, не знает, что такое взаимность, что такое ласка матери, дружба сестры, и если бы этот бедняк решился обратиться к вам и сказать вам: спаси меня, я тебя боготворю, ты сделаешь из меня великого человека, полюби меня, и я буду верить в Бога, ты одна можешь спасти мою душу. Скажите, что бы вы сделали?
– Я надеюсь не быть никогда в таком затруднительном положении; судьба моя уже почти решена, я любима и сама буду любить.
– Будете любить! Пошлое выражение, впрочем, доступное женщинам; любовь по приказанию, по долгу! Желаю вам полного успеха…
Смущенная этими речами, Екатерина вернулась с бала в полном смятении чувств:
«Я вспоминала малейшее его слово, везде видела его жгучие глаза… но я не признавалась себе, что люблю его…»
Тем временем страсти накалялись. 22 декабря приехал Алексей Лопухин.
«Мишель, расстроенный, бледный», улучил минуту уведомить об этом Екатерину: все ужасно, Лопухин ревнует, «встреча их была как встреча двух врагов», и вообще «Лопухин намекнул ему, что он знает его ухаживанье за мной и что он не прочь и от дуэли».








