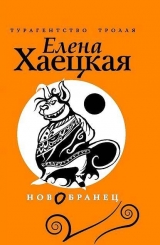
Текст книги "Новобранец"
Автор книги: Елена Хаецкая
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
А частицы одаренности, или творчества, – эти были самые крохотные, и их оказалось не слишком-то много, особенно если сопоставлять с другими. Долго летали они в космическом вихре, не зная, куда им лучше налипнуть. Вся материя уже образовалась, и каждая разновидность материи как бы кричала частицам одаренности: «Сюда! К нам! Здесь хорошо!» Червяки желали бы талантливо ползать, растения жаждали даровито тянуться из почвы, бабочки – сногсшибательно летать, птицы – прекрасно чирикать…
И частицы гениальности так и клеились к ним, поддаваясь на просьбы. Но все-таки осталось их довольное количество свободными. И вот явились существа более разумные, чем бабочки, растения и ползающие на брюхе твари, и последние частицы сверходаренности, чтобы не оказаться совсем уж не у дел, набросились на них и обступили со всех сторон. Потому что этих самых гениальных частиц в конце концов сохранилось в свободном состоянии так мало, что они не смогли бы создать нечто самостоятельное и нуждались в носителе.
Долго ли, коротко ли, а явились в мире Мастера. И одним досталось гениальности не слишком-то много – хоть и вполне достаточно для того, чтобы создавать поразительные вещи; в других же творческого начала было значительно больше. Но самый жирный слой гениальности налип на Джурича Морана, и это сделало его неуправляемым, непредсказуемым и, как следствие, катастрофически неудобным.
И, в конце концов, Моран сотворил нечто такое, что привело к изгнанию его из мира всех мыслящих, добрых и созидательных существ.
* * *
Разумеется, у защитника Лутвинне имелись многочисленные слуги. Титул «защитника» означал, что весь замок, и все, что в нем находилось, и все те, кто в нем работал, принадлежали ему.
Во многих жизнях защитник был властен; таким на протяжении столетий оставался изначально заведенный порядок вещей.
Новой кухонной работнице так и объяснили, едва только она явилась на место своей службы.
– За множеством чрезвычайно важных дел господин Лутвинне нередко забывает о еде, на то он и эльф, – сказал, обращаясь к девушке, старший повар, человек с виду совсем неинтересный: озабоченный взгляд, наморщенный лоб, кривые складки вокруг рта. – Эльфы зачастую думают о вещах настолько возвышенных, что мысли о пище просто не находят себе дороги к их головам.
– Следовательно, задача поваров – перехватывать эти мысли, воплощать их в приготовленных яствах и подсовывать господину Лутвинне? – тихо спросила Ингильвар. Кажется, этой манерой изъясняться она заразилась от Морана (не следовало бы так долго с ним разговаривать!)
Старший повар смерил ее взглядом с головы до ног.
– Уж кто-кто, а эльфы превосходно разбираются в пище, красотка, учти это. На то они и эльфы, чтобы знать толк в пирушках и славной еде с выпивкой!
– Но вы же только что… – пискнула Ингильвар, разом возвращаясь к своему изначальному образу дурнушки.
– Глупости! – отрезал повар. – Господин Лутвинне – и эльф, и человек, он и помнит о еде, и забывает о ней, но главное в нем то, что он – защитник замка и наш господин.
– Я выполню любую его волю, – сказала Ингильвар, от всей души надеясь, что на сей-то раз выбрала правильный ответ.
И ошиблась. Повар даже топнул ногой при виде подобной бестолковости:
– Дурочка! Не была бы ты такой красавицей, клянусь спасением моей правой руки, – выставил бы тебя за ворота без сожалений! У господина Лутвинне часто вовсе нет никакой воли, так что нам, его слугам, приходится все додумывать за него. Но своевольничать не сметь, ясно тебе?
– Да, – сказала Ингильвар.
– Что тебе может быть ясно? – Повар пошевелил морщинами на лбу. – Разве такой дурочке может быть что-то ясно? За таким гладким лобиком плавают не мысли, а жиденький супчик из рыбьих косточек…
– Мой господин, – взмолилась Ингильвар, – я об одном прошу: указывайте мне – это делать, то делать, и я все выполню, а думать или умничать ни за что не стану, пусть хоть тут меня режут!
– Наконец-то толковые речи! – одобрил повар. – На том и остановимся.
И Ингильвар осталась работать на кухне. Она чистила овощи и срезала мясо с костей, мыла котлы и даже точила ножи, хотя это занятие и считалось для женщины предосудительным. Спала она в маленькой комнате для прислуги, подруг среди поварих не завела, поварятами помыкать не решалась, исполняла любое поручение и молчала, молчала…
Она не понимала, отчего здесь ее все так упорно считают глупой.
Раньше она слыхала о себе попеременно то хорошее, то дурное. Иногда люди говорили, что такая некрасивая девушка обязана быть умненькой, иначе ей и жить-то на свете незачем. А другие люди утверждали, что нет в Ингильвар ровным счетом никаких достоинств, и поджимали губы, отказываясь объясняться подробнее.
Но на кухне замка общее мнение стало единодушным.
Дурочка.
Однажды – это случилось на третью неделю службы – Ингильвар не выдержала и спросила старшего повара:
– Простите меня, мой господин, но растолкуйте вы мне, бестолковой: почему никто не признает за мной ни капельки ума?
Старший повар долго глядел на нее, жевал бескровными губами, листал свою поваренную книгу, словно выискивал на ее страницах подходящий ответ. Наконец он вздохнул, искренне сожалея о своей бедной собеседнице.
– Несчастное дитя, ты и вправду желала бы это знать?
Ингильвар кивнула, боясь сказать лишнее.
– Давно ли ты смотрелась в зеркало?
Она опять кивнула. Очень давно. С тех самых пор, как покинула свое лесное озеро.
– Да, – уронил повар. – Что ж. Ты и впрямь заслуживаешь ответа, коль скоро так глупа, что даже не подозреваешь правды. Я принесу тебе зеркало. Посмотри на себя и ответь: может ли женщина с такой наружностью быть хоть сколько-нибудь умной.
– Не надо, – прошептала Ингильвар. – Я все поняла.
Но повар уже вышел и скоро возвратился с небольшим зеркальцем в медной оправе.
– Позаимствовал у младшей поварихи, – пояснил он почти дружеским тоном и заговорщически подмигнул Ингильвар. – Только не вздумай разболтать ей! Она мне не простит! Она страшно ревнива по части зеркал.
Ингильвар зажмурилась, когда он сунул зеркало ей под нос, втайне надеясь, что старший повар не заметит этого и ей не придется опять столкнуться лицом к лицу с собственным отражением.
Но старший повар, разумеется, все это видел.
– Эй, не жульничать! Открывай глаза да смотри! – приказал он.
Ничего не поделаешь, Ингильвар открыла глаза…
Она не узнала ту, что глядела на нее с блестящей полированной поверхности. Куда подевались уныло скошенные глаза, где серые, как пакля, волосы? Круглое лицо, испуганные темные, медовые глаза, пухлые губы, сейчас закушенные и оттого будто налитые подступающим плачем… Но как такое может быть?
– Я не верю, – сказала Ингильвар, отдавая повару зеркало. – Вы посмеялись надо мной. Чей это портрет?
– Это твой портрет, дуреха. Я же говорил, что ты нечеловечески глупа. Даже козы умнее тебя!
– Дайте еще раз взглянуть, – попросила она. И принялась корчить себе рожи. Красавица в зеркале охотно повторяла все гримасы, и в конце концов Ингильвар вынуждена была признать: повар прав, женщина с такой внешностью вряд ли может оказаться хоть сколько-нибудь умна.
– Стало быть, я – красотка и дурочка, – вздохнула Ингильвар.
Она обратила на повара глаза и вдруг засияла.
Он отшатнулся, глядя на нее с подозрением.
– Что тебе?
– Не знаю… – Она засмеялась и, поддавшись порыву, обхватила его за шею. – Спасибо вам!
– Пусти! – Он высвободился, забрал зеркало и выбежал из кухни, ворча себе под нос.
Скоро Ингильвар пристрастилась разглядывать себя в зеркалах, блестящих стеклах, в ведрах с водой, в полированных каменных панелях, которые украшали парадные залы замка.
Обмана не было: Ингильвар как будто сбросила уродливую оболочку и превратилась в прехорошенькую юную женщину, явно созданную лишь для одного-единственного – для любви.
Девушка не сомневалась: все это проделки Морана Джурича.
Моран был далеко не так прост, и не в его диковинных речах тут дело, а в том, как он держался. Не сами его мысли, но их склад, тот порядок, в котором они следовали одна за другой, – вот что удивило Ингильвар при той встрече.
Моран превратил дурнушку в красавицу и наверняка успел забыть об этом. Бросил походя драгоценный дар и ушел, не позаботившись узнать о том, как этот дар был использован.
Спустя недолгое время Ингильвар ожидало еще одно открытие, на сей раз неприятное.
Случилось это рано утром, когда она, вскочив с постели, бросилась перемывать посуду, оставшуюся с вечера. Накануне она слишком устала, чтобы закончить работу, и потому решила лучше лечь спать, а потом подняться на час раньше обычного.
Старший повар явился, когда она уже дочищала последнюю медную миску, и вдруг напустился на нее с криком:
– Кто ты такая? Что здесь делаешь?
Ингильвар не на шутку струхнула.
– Я… работаю, – пробормотала она. – Не выгоняйте меня, господин! Я уже закончила.
– Убирайся, – сказал старший повар, гневно топая ногой. – Убирайся! Я не нанимал тебя. И никогда не найму. Не надейся. Если ты и сделала что-то полезное по доброй воле, это еще означает, что ты принята. Никогда в жизни я не позволю женщине с такой внешностью прикасаться к пище для защитника замка.
Ингильвар с плачем выбежала вон.
Забившись в свою комнатушку, она вытащила обломок зеркальца, который нашла в замке и теперь бережно хранила под матрасом.
Из осколка на нее смотрела прежняя Ингильвар. Серенькая, бесцветная, вместо носа – блямба, вместо глаз – две невыплаканные слезинки. А она-то надеялась, что избавилась навсегда от этой образины!
Ей стало холодно. Она обхватила себя руками без всякой надежды согреться. Зубы ее клацали. Все кончено. Красоты больше нет, старший повар приказал ей убираться. Пусть лучше дурочкой считают, чем уродкой. Дурочку хотя бы терпели.
Нужно теперь собираться и уходить, пока ее не выставили с позором. Она заставила себя одеться. Обычно она появлялась на людях в том самом платье, в котором пришла наниматься. Это была удобная одежда: длинная, просторная, с широкими рукавами до локтя. Ее можно было носить как плащ и как обычное платье, если перетянуть его в талии поясом.
Но сегодня утром, торопясь выполнить порученное, Ингильвар выскочила на кухню в одной рубашке и нижней юбке.
Ее трясло все сильнее. Она едва могла справиться с дрожью в руках, чтобы застегнуть пояс.
Из своей комнатки она не стала брать с собой ни одной вещи. У нее здесь и не было ничего своего. За месяц службы в замке Ингильвар не обзавелась ни новой одеждой, ни украшениями. Все это было ей ни к чему. Она слишком была погружена в свою чудесную жизнь в облике красавицы, ну а теперь все закончилось.
На прощание она еще раз оглянулась, и вдруг в оконном стекле мелькнул прежний образ – вьющиеся пышные волосы, полные сияющей печали глаза.
У Ингильвар подкосились ноги. Слабость охватила ее, испарина выступила на лбу. Ингильвар едва добрела до своей постели и рухнула поверх одеяла. «Нельзя так, – прошептала она, обращаясь к кому-то незримому и не вполне определенному, – нельзя так поступать с живыми людьми».
На мгновение перед ней предстал образ Морана Джурича. Конечно, Моран существовал сейчас только в ее воображении – его и близко не было в замке, – но отчего-то он воспринимался девушкой почти как реальный собеседник.
«Почему нельзя?» – удивился этот почти реальный Моран.
«Потому что мое сердце разорвется»…
«Вы, люди, слишком большое внимание уделяете физической красоте, – заявил Моран. – Между тем все это сущая иллюзия. Лично мне абсолютно все равно, какая там внешность у человека или, предположим, у жабы. Скажу даже больше: когда ты выглядела, как жаба, ты нравилась мне больше; ну, кое у кого свои представления… Поэтому я и пошел навстречу. Ты ведь хотела быть красоткой? Кстати, каково тебе считаться дурой?»
«Ответ тебе известен, – скрипнула она зубами. – Лучше дура, чем уродка…»
«В таком случае, не расставайся с платьем», – посоветовал Моран и растаял.
Платье. Ну конечно! Она провела руками по бокам, машинально оглаживая и одергивая ткань. Все дело в платье.
Ей вдруг показалось, что она вспоминает, как спала у стены замка и сквозь сон слышала негромкий голос Морана. О чем он говорил? Что он сотворил с ее телом, с ее одеждой? Почему не предупредил ее заранее? Забыл?
Наверное, забыл, решила девушка. Ведь для Морана все это не имеет никакого значения. Моран – из тех, кто роняет чудеса на ходу и даже не оборачивается, чтобы посмотреть, что из этого вышло.
«Не расставайся с платьем».
Медленно, очень медленно Ингильвар уняла бешеное сердцебиение. Заставила себя дышать глубоко, ровно. Теперь она знала условия игры и была согласна играть дальше. Быть может, когда-нибудь она обретет достаточно уверенности в себе, чтобы избавиться от платья, как от пришедшей в негодность оболочки, и предстать перед людьми в своем истинном виде.
Когда-нибудь.
«Надеюсь, ты не скоро истлеешь, – обратилась она мысленно к своей волшебной одежде. – Лучше бы ты прослужило мне как можно дольше, потому что я дьявольски не уверена в себе… и вряд ли когда-нибудь наберусь достаточно большой запас смелости, чтобы открыть свое истинное лицо людям».
«Я? Истлею? – закричал в ее сознании голос Морана, который явно обращался к ней от имени платья. – За кого ты меня принимаешь? Ко мне прикоснулся сам Джурич Моран или Моран Джурич, кому уж как нравится произносить это прекрасное имя, которое не становится менее прекрасным от того, что… В общем, ты прекрасно поняла, что я имел в виду. Да все просто прекрасно, начиная с меня и заканчивая тобой! И будет оставаться таковым, пока ты не снимаешь платья…»
Ингильвар тряхнула головой.
«Убирайся из моих мыслей, Моран!»
«Ты сама обратилась ко мне, а я всегда прихожу на помощь к тем, кто когда-либо был мною осчастливлен».
«В конце концов, это похоже на подглядывание».
«Так и есть… Кстати, почему ты до сих пор никого не подцепила? Как тебе старший повар? Хочешь от него ребенка?»
«Моран, пошел вон!»
Ингильвар могла бы поклясться, что Моран в ее мыслях хмыкнул.
Он сказал:
«Если тебя волнует вопрос, как стирать твое неубиваемое платье, могу посоветовать: прикидывайся собственной служанкой…»
«Вон!»
«Как хочешь».
И он действительно исчез.
Как ни странно, этот мысленный диалог с далеким собеседником успокоил Ингильвар. Она вышла на кухню, повязала фартук и вопросительно уставилась на старшего повара. Тот явно был не в духе.
– Ты опоздала, – буркнул он.
Только и всего.
Вечером Ингильвар задержалась, отчасти – чтобы «отработать опоздание» и обелить себя в глазах старшего повара, который весь день к ней придирался, а отчасти – потому, что боялась возвращаться к себе в комнатушку, где утром испытала такой удар.
Она уселась в уголке и взялась перебирать ягоды для завтрашнего пирога.
Она сидела тихо-тихо…
Свечка горела ровно, ясным пламенем. Ингильвар видела свои белые руки с тонкими длинными пальцами. Это были и ее руки, и не ее. Без рубцов и мозолей, они были испачканы ягодным соком и оттого казались еще прекраснее.
Постепенно сон начал одолевать ее, она стала клевать носом… и вдруг проснулась.
Что-то изменилось. Мгновение – и Ингильвар поняла, что именно: огонек свечи заплясал от сквозняка. В кухню кто-то вошел.
Было уже темно, настала ночь. Некто пробрался сюда, пользуясь темнотой. Наверняка вознамерился что-то украсть.
Старший повар гонял воинов гарнизона и прислугу, если те пытались утащить с кухни съестное. Хотя пойманных с поличным никогда не наказывали: все, что готовилось в замке, предназначалось для тех, кто его защищал. Дело заканчивалось бранью и позорным изгнанием из поварской вотчины.
Ингильвар притаилась в своем углу. Пришелец явно не замечал, что в кухне кто-то есть. Он осторожно прошел вдоль стены, провел рукой над полками, как бы прицеливаясь – что бы ловчее стащить, и в конце концов сдернул чистый белый платок, которым была прикрыта корзина с пирогами.
Ингильвар тихонько засмеялась. Человек возле корзины замер, потом присел на лавку и тяжело вздохнул, как ребенок, пойманный на месте какого-нибудь ужасного детского преступления.
– Как не стыдно! – заговорила Ингильвар и сама поразилась звуку собственного голоса: это был грудной, нежный женский голос, в котором звучали нежность и легкое кокетство. – Ведь это для воинов!
– Я и есть… воин… – пробормотал незадачливый вор. – А ты кто?
– Ингильвар. Я здесь работаю.
– Ты поймала меня, Ингильвар… Не рассказывай никому, хорошо?
Он встал, подошел к ней, и в свете свечи Ингильвар увидела наконец его лицо.
– Защитник Лутвинне! – воскликнула она. – Как удивительно!
– Что же тут удивительного? – Он пожал плечами, пытаясь скрыть свое смущение.
– То, что вы таскаете пироги с собственной кухни, в собственном замке! – Она не могла прийти в себя от изумления и даже на миг забыла о том, какое впечатление производит теперь на людей.
– Мои слуги спят, а мысль об этих пирогах не давала мне покоя… Я ворочался в кровати, пока наконец не поддался соблазну, – и вот я здесь, и ты поймала меня, Ингильвар.
Наверное, свеча лгала, потому что Ингильвар показалось, будто защитник Лутвинне смотрит на нее влюбленно. Свет живого огня обладает собственным мнением, и доверяться впечатлению, которое он производит, всегда опасно: что захочет, то и внушит тебе коварная свечка.
– Я и не собиралась ловить вас, мой господин, – тихо возразила Ингильвар. – Но если вам самому угодно было попасть в ловушку, то я могу лишь сказать вам: добро пожаловать.
– Ты работаешь здесь, добрая охотница? – спросил Лутвинне.
– Я сижу здесь в засаде, разложив сеть, – ответила она. – Пирожки – это приманка, а сеть сплетена из моих волос.
– Должно быть, непростая это работа! – проговорил Лутвинне. – Долго ли ты трудилась над своей сетью?
– Всю жизнь – и одну секунду сверх того, – отозвалась Ингильвар. – Но эта секунда принадлежала вам, мой господин, и оттого она оказалась тяжелее всей моей предыдущей жизни.
– Ты говоришь очаровательными загадками.
– В таком случае, очаровательно разгадайте их.
– Хорошо, – молвил он. – Одна загадка: кто ты?
– Ингильвар.
– Это имя для принцессы, не для посудомойки.
– Скажите об этом моим родителям, мой господин!
– Я лучше скажу об этом моему старшему повару! – засмеялся Лутвинне. – А впрочем, никому я ничего говорить не стану, ведь я – господин в этом замке, и многие судьбы я держу в моей руке.
– Возьмите и мою, – попросила Ингильвар тихо и улыбнулась так спокойно, как будто они распутывали вдвоем пряжу, из которой потом собирались на зиму вязать носки. – Но загадок здесь несколько…
– Да, – с важным видом кивнул Лутвинне. – Ты права, милая: здесь несколько загадок, и самая главная – вовсе не твое имя.
– Задавайте любые вопросы, и я дам на них любые ответы, – обещала Ингильвар.
– Хорошо… Итак, ответь мне, добрая Ингильвар: какие здесь пирожки с мясом, а какие – с капустой?
Вот так, на ночной кухне, началась любовь Ингильвар и Лутвинне.
На самом деле вся история их завязалась куда раньше, на той самой поляне, где они повстречались в первый раз. Ингильвар и Лутвинне находились в неравном положении, потому что Ингильвар, как и надлежало женщине, знала об их любви куда больше, чем Лутвинне, – он же, как и следует мужчине, ни о чем таком не догадывался и был просто, безоблачно счастлив.
Это продолжалось и месяц, и два, и три, и только на исходе осени случилось странное происшествие, на которое Лутвинне поначалу не слишком много обратил внимания.
В ту осень Лутвинне ездил по полям и лесам, выслеживая отряд черных троллей, о котором донесли ему разведчики.
Вместе со своими людьми Лутвинне обнаружил и убил пятерых троллей, затем захватил еще двоих на самом краю ничего не подозревающей деревни. Из слов умирающего тролля он знал, что осталось еще по меньшей мере трое – но где их искать?
Он не слезал с седла и исхудал еще больше, а лицо его сделалось похожим на лезвие ножа, такое оно стало худое и хищное. Лутвинне не любил себя таким и потому скрывался от взоров Ингильвар, которую любил, как казалось, больше самой жизни – и лишь чуть-чуть меньше, чем замок и свои земли. Зато он писал ей письма.
Короткие записочки, по десять-пятнадцать слов в каждой. Ингильвар собирала их и складывала в некую мозаику, каждый день разную.
Вчера, например, эти записки выстроились таким образом, что Лутвинне представал из них храбрым воином, который лишь изредка вспоминает дом и возлюбленную. А позавчера, напротив, – Лутвинне выглядел страстно влюбленным кавалером, чьи воинские подвиги – лишь для того, чтобы доказать силу его любви. Третьего же дня все эти записки выстраивались наиболее строгим образом и являли образ Лутвинне-защитника, человека-эльфа, целиком поглощенного непосредственными задачами обороны и подготовки к зиме.
– Любовь моя, – говорила Ингильвар, склоняясь над его записками, – где вы сейчас, мой господин? Чем вы заняты? О чем вы думаете? Велика ли опасность, которой вы себя подвергаете? Больше ли она моей любви? Согласитесь ли вы обменять свою жизнь на мою, если это потребуется?
Она качала головой.
– Я никогда не спрошу вас об этом… Я, дурнушка Ингильвар, бедная дурочка, заморочившая вам голову благодаря волшебному платью…
* * *
Этот последний заставил за собой побегать. На листьях по утрам поблескивал иней; ближе к полудню он таял. Опавшая листва, перед рассветом хрустящая и упругая, а сразу после рассвета – сверкающая, полная крохотных кристалликов, – делалась раскисшей, мятой. Кони ступали по желтой, поникшей траве.
С Лутвинне остался только один солдат по имени Гэрхем, всех остальных защитник замка отпустил домой. Гэрхем никак не показывал своих чувств, даже если они у него и были. То ли гордился оказанным доверием, то ли досадовал на то, что не мог засесть в замке и отдыхать там в свое удовольствие вместе с товарищами, а вынужден таскаться вместе с Лутвинне по холоду, гоняясь за каким-то троллем.
Лутвинне никогда не обсуждал свои действия. Он поступал так, как считал нужным. Никому и в голову не пришло бы возражать ему.
Никто не сказал (хотя следовало бы): «Защитник, вы утомлены, вы устали, вы смертельно измучили себя, господин мой, вам лучше бы вернуться в замок и передохнуть, а последнего тролля поймает кто-нибудь другой».
Поэтому-то Лутвинне и не возвращался в замок. Там, в замке, оставался единственный человек, который осмелился бы произнести эти слова. Ингильвар.
Его персональная защитница. Его боевой клич. Его личное вселенское тепло, от которого, согреваясь, расширяется сердце.
Гэрхем первым заметил следы. Тролль, раненый в последней схватке, уходил на север, в сторону второго приграничного замка. По пути его ожидали по меньшей мере три деревни, и он наверняка был осведомлен об этом.
– Его нужно догнать, – сказал Лутвинне, когда Гэрхем указал ему на отпечаток троллиной ноги.
Следует отдать должное беглецу: раненый, уставший, он допустил одну-единственную ошибку, позволив себе наступить на мягкую землю. Следует отдать должное и солдату из замка: Гэрхем сумел воспользоваться этой ошибкой. А Лутвинне, дремавший в седле, ее пропустил. Вот так.
Они воспряли духом и помчались за троллем. Необходимо было настичь его прежде, чем он окажется в первой из деревень. Несколько раз им казалось, что они упустили след, но затем то Лутвинне, то Гэрхем замечали нечто, указывающее им на правильность избранного ими пути, и они возобновляли погоню. И Гэрхем смеялся от радости, потому что он предвкушал последнюю схватку, исход которой предрешен, а Лутвинне грустил.
Они увидели его на подходах к деревне, возле старого колодца.
Сумерки нависли над землей, как будто женщина склонилась над погруженным в дремоту любовником и что-то высматривает в любимом лице – быть может, примету слабости или болезни, а быть может – образ давно забытого ребенка, которым тот был много лет назад.
Колодец – старый сруб: крупные бревна, покрытые толстым слоем темно-зеленого мха – давно был брошен; сейчас деревня отодвинулась почти на полет стрелы, и там, очевидно, существовали другие колодцы, более удобные. Хорошей воды здесь много – одно из богатств здешнего края.
Рядом с колодцем бродило косматое существо – ростом выше человека на две головы и шире в плечах самого плечистого великана. Его руки свисали почти до самой земли, а глаза горели маленькими красными огоньками, особенно хорошо заметными в сумерках.
При виде преследователей тролль присел и тихо зарычал одним горлом; затем выхватил два кривых меча и приготовился отбиваться.
Он держался так, чтобы сруб колодца прикрывал его правый бок: очевидно, был ранен. Но даже и раненый, тролль оставался смертельно опасным противником, и Лутвинне держал это в уме.
Другое дело – Гэрхем; этот набросился на тролля с радостной готовностью вступить в схватку и одолеть врага.
Тролль оскалил зубы, когда понял настроение молодого солдата.
На мгновение Лутвинне и тролль встретились глазами: один опытный боец – с другим опытным бойцом. За это мгновение они успели понять друг друга так, словно прожили бок о бок целую жизнь.
«Я убью твоего человека», – обещал тролль.
«Не смей», – приказал Лутвинне.
«Ты же видишь, его не остановить. Я сумею охладить его горячую голову».
«Не вздумай, иначе я убью тебя».
«Ты и так убьешь меня…» – подумал тролль, а Лутвинне подумал в ответ: «Не обязательно…»
Секунда полной откровенности прошла, закончилась; Гэрхем нанес троллю удар под мышку, и клинок застрял в каменном троллином сердце. С громким радостным криком Гэрхем отскочил в сторону, чтобы черная кровь не залила его, а тролль ухмыльнулся и закашлялся, а потом выплюнул большой комок густой влаги.
– Подойди, – услышал Гэрхем.
Лутвинне закрыл глаза. Ему не следовало доводить себя до такой смертельной усталости. Ему не нужно было на такое долгое время оставаться без Ингильвар.
Гэрхем небрежно сказал, толкнув умирающего тролля ногой:
– Что тебе надо?
– Подойди…
– Я здесь. Что тебе надо, тварь? – переспросил Гэрхем.
– Ты служишь Лутвинне, а он многого не говорит тебе, потому что не во всем доверяет людям, – прохрипел тролль. Он снова закашлялся, собирая мертвую кровь в новый комок, чтобы избавиться от нее, хотя смысла в этом уже не было. – Слушай, солдат, запоминай. Живет в мире такой Мастер, Джурич Моран, самый сильный из всех.
– Мастера – это легенда, – проговорил Гэрхем. – Никто никогда не видел Мастера.
– Кое-кто видел, определенно… – сказал тролль. – Я бы не советовал тебе быть таким самоуверенным, мальчик. Мастера существуют, и Джурич Моран – самый сильный из них.
– Ага, – сказал Гэрхем таким дву– и даже многосмысленным тоном, что его восклицание можно было истолковать как угодно.
Умирающий не обратил никакого внимания на это словечко. Оно сейчас не имело смысла.
– Спроси любовницу Лутвинне, знает ли она Морана, – сипел он. – Увидишь, она смутится. Она знает его.
– А ты-то откуда с ним знаком, с этим Мораном? – не выдержал Гэрхем.
Лутвинне открыл глаза и крикнул:
– Он умер?
– Сейчас, – крикнул Гэрхем в ответ. И проговорил, обращаясь к умирающему: – Быстрее! Времени нет.
– Я Морану родня. Он тоже из троллей… хоть и Мастер… Дары Морана опасны, они разрывают ткань бытия, они все портят и уничтожают всех, кто ими пользуется. Моран чересчур смел, он не признает ограничений. Его боятся даже тролли, но только не люди… Спроси, непременно спроси об этом любовницу Лутвинне, она с ним встречалась, с Мораном, она его подруга. У нее есть тайна. Она – не та, за кого себя выдает.
– Кто же она такая?
– Я подслушал ее разговоры с Мораном. Потом, когда она общалась с ним мысленно… Мысли можно увидеть, знаешь? Впрочем, откуда – ты же человек. – Губы тролля скривились. Синие губы, а на нижней – бородавка. – Слушай, человек, слушай. Она – уродка, простая крестьянка, похожая на жабу. Она отвела нам глаза… потому что Моран сделал для нее волшебное платье. Слышишь? Ты запоминаешь?
– Это как-то странно… как будто в книге, – произнес Гэрхем. И снова крикнул, посылая голос к Лутвинне: – Он уже почти мертв!
– Не добивай его, – отозвался Лутвинне. – Если он не умер, не добивай…
– Добить? – повторил Гэрхем, сам не зная, к кому в точности он обращается.
– Добей, – подтвердил тролль и закрыл глаза. – Только запомни: любовница Лутвинне носит волшебное платье, которое всех вас заставляет видеть в ней красавицу…
Гэрхем наклонился над поверженным врагом и быстрым движением перерезал ему горло.
* * *
Гэрхем совсем другими глазами стал смотреть на возлюбленную Лутвинне. Прежде она представлялась ему недосягаемой и прекрасной, под стать своему господину: женщина с медовыми глазами, изливающими свет и тепло. Но после ядовитых признаний тролля все переменилось.
Лутвинне въехал в ворота замка, и женщина бросилась к нему навстречу, а все смотрели, как она бежит, раскинув руки, и как волосы развеваются у нее за спиной, и как мелькают из-под подола ее маленькие ножки в шнурованных сапожках. Эти тонкие кожаные шнурочки – они каждый сапожок превращали в подобие кокетливого корсета…
Лутвинне наклонился в седле, поцеловал свою любовницу. Она остановилась, неловко запрокинув голову. Счастье встречи сделало Ингильвар еще прекраснее, когда она обхватила руками Лутвинне за шею и прижалась щекой к его плечу.
А Гэрхем смотрел на них холодными глазами, ревниво и с некоей тайной мыслью.
Рано утром, когда Лутвинне еще спал в своих покоях, Ингильвар ходила по стене замка, приветливо здороваясь с часовыми. Она давала им отхлебнуть пива из кувшина и совала в руки пирожки: все это, пользуясь своей давней дружбой со старшим поваром, она утащила загодя из кухни. И они улыбались ей в ответ – вовсе не ради пива и пирожков, но ради прекрасного утра и сияющих глаз красивой, влюбленной женщины.
Она не всех помнила по именам, но даже и для тех, кто оставался для нее безымянным, находила ласковое слово и веселую улыбку. Она смеялась любой глупости, была бы та сказана от сердечной доброты. И солдаты целовали ее в щеку, как сестру, или брали за руку, словно желали познакомиться и завязать роман, или гладили по плечу, как старшую по возрасту компаньонку, или по волосам, словно она была ребенком, о котором они давно мечтали.
А Гэрхем сказал ей:
– Твой любовник спит, Ингильвар?
– Да, господин Лутвинне еще не проснулся, – ответила она. Его неприветливые слова не сумели сразу прогнать ее радость, поэтому она продолжала улыбаться.
И как не улыбнуться, если вспоминать спящего Лутвинне?
Гэрхем прибавил, кривя губы:
– Тем лучше, Ингильвар, что любовник твой спит и не знает о том, как хорошо ты проводишь время с солдатами.
– Эти люди – братья мои, – ответила Ингильвар. – Я пришла пожелать им доброго дня и принесла для них угощение.







