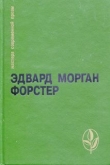Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эдвард Морган Форстер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц)
Страдание, однако, мало зависит от темперамента, и едва ли умнейшая из женщин страдала бы больше, чем Лилия.
Что касается Джино, то мальчишеское в нем не исчезало, и он нес свои грехи, как перышко. Излюбленным его высказыванием было: «Э-э, каждый должен жениться. Спиридионе не прав, надо его переубедить. Только когда женишься, по-настоящему оценишь все удовольствия и возможности, которые предоставляет жизнь».
С этими словами он надевал фетровую шляпу, заламывал ее столь же безошибочно в нужном месте, как безошибочно немец заламывает шляпу не там, где надо, и уходил из дому.
Как-то вечером, оставшись опять одна, Лилия не вытерпела. Стоял сентябрь. Состон в это время как раз заполнялся людьми после летних вакаций. Соседи забегали друг к другу. Происходили велосипедные гонки. Обычно тридцатого миссис Герритон устраивала в саду ежегодный базар в пользу церковно-миссионерского общества. И представить себе было невозможно, что где-то существует такая свободная, счастливая жизнь. Лилия вышла в лоджию. Лунное сияние, звезды на бархатисто-лиловом небе. В такую ночь стены Монтериано – великолепное зрелище. Но окна дома выходили на другую сторону. В кухне чем-то гремела Перфетта. Чтобы спуститься вниз, надо было пройти мимо кухни. Но если подняться по лестнице на чердак, куда никогда никто не заглядывал, и отпереть дверь, то попадаешь на квадратную террасу на холме за домом. Там можно было погулять десять минут на свободе в одиночестве.
Ключ лежал в кармане лучшего костюма Джино, того самого, английского покроя, который Джино никогда не надевал. Ступеньки заскрипели, ключ заскрежетал, но Перфетта становилась глуховата. Крепостные стены были прекрасны, но их покрывала тень. Чтобы увидеть их в лунном свете, нужно было выйти на другую сторону города. Лилия с беспокойством оглянулась на дом и – пустилась в путь.
Идти было легко, за валом шла тропинка. Встречные вежливо желали ей доброй ночи. Она не надела шляпы, и ее принимали за крестьянку. И вот она уже очутилась с той стороны, где стены освещались луной и грубые башни превратились в колонны из серебра с чернью, а вал – в жемчужную цепь. Она не очень глубоко чувствовала красоту, но была сентиментальной и потому заплакала: тут, где высокий кипарис прерывал монотонное кольцо олив, сидела она с Джино мартовским днем, положив ему голову на плечо, а Каролина сосредоточенно рисовала пейзаж. За углом находились Сиенские ворота, оттуда начиналась дорога в Англию. Лилия слышала громыхание дилижанса, который поспевал к ночному поезду в Эмполи. В следующую минуту дилижанс поравнялся с ней, так как дорога сворачивала сюда, перед тем как начать долгий извилистый путь под уклон.
Возница придержал лошадей и пригласил ее сесть. Он не знал, кто она, и думал, что ей нужно на станцию.
– Non vengo![7]7
Не поеду! (итал.).
[Закрыть] – отозвалась она.
Он пожелал ей доброй ночи и стал поворачивать. Она увидела, что дилижанс пуст.
– Vengo![8]8
Поеду! (итал.).
[Закрыть]…
Голос ее прервался, кучер не услышал. Лошади пошли ровным шагом.
– Vengo! Vengo!
Возница запел и не расслышал ее. Она побежала за экипажем, крича, чтобы кучер остановился, что она поедет, но громыхание колес заглушило ее крики, расстояние между нею и дилижансом все увеличивалось. В лунном свете спина возницы казалась черной и квадратной. Обернись он на миг – и она была бы спасена. Она бросилась прямо по склону, срезая поворот, спотыкаясь о крупные, твердые, как камни, комья земли, валявшиеся между неизменными оливами. Лилия опоздала: дилижанс успел с грохотом промчаться мимо, вздымая удушливые клубы пыли. Больше она не кричала, так как вдруг почувствовала дурноту и потеряла сознание. Очнулась она посреди дороги. Она лежала в пыли, пыль набилась ей в глаза, в рот, в уши. Почему-то пыль ночью кажется очень страшной.
– Что я буду делать? – простонала она. – Как он рассердится!
И, окончательно сдавшись, она медленно побрела обратно в плен, отряхивая на ходу платье.
Ей снова не повезло. То был один из редких вечеров, когда Джино явился домой рано. Он бушевал на кухне, выкрикивал бранные слова и швырял тарелки. Перфетта рыдала в углу, накинув на голову фартук. Увидев Лилию, он обрушил на нее поток разнообразных упреков. На этот раз он рассвирепел гораздо больше, чем в тот день, когда молча надвигался на нее из-за стола, но был совсем не так страшен. И на этот раз Лилия почерпнула из своей нечистой совести больше храбрости, чем когда-либо из чистой. Ее охватило возмущение, она больше не боялась его и, видя в нем жестокого, недостойного, лицемерного, беспутного выскочку, не осталась в долгу. Перфетта только вскрикивала, ибо Лилия отвела душу, высказав все-все, что знала о нем и что про него думала. Он стоял пристыженный, разинув рот. Весь его гнев улетучился, он чувствовал себя дураком. Он оказался по всем правилам прижат к стенке. Где это видано, чтобы муж так глупо попался? Когда она кончила, он словно онемел, потому что она говорила правду. Но вдруг до него дошла нелепость его положения, и он – увы! – захохотал, как если бы увидел все это на сцене.
– Тебе… смешно? – запинаясь, выдавила из себя Лилия.
– Ну как тут удержаться? – воскликнул он. – Я-то думал, ты ничего не знаешь, не замечаешь… я обманулся… я побежден. Сдаюсь, не будем больше об этом говорить.
И, тронув ее за плечо, как добрый товарищ, от души забавляющийся и в то же время раскаивающийся, он с улыбкой выбежал из комнаты, бормоча что-то себе под нос.
Перфетта разразилась поздравлениями.
– Какая вы храбрая! И какая удача! Он больше не сердится! Он простил вас!
Ни Перфетта, ни Джино, ни сама Лилия так и не поняли, почему же дальше все сложилось столь неудачно. До самого конца он был уверен, что ласковое обращение и немножко внимания с легкостью поправят дело. Жена его была вполне обыкновенная женщина, почему бы ее понятиям не совпадать с его собственными? Никто из них не догадался, что столкнулись не просто разные индивидуальности, а разные нации. Многочисленные поколения предков, и хороших, и плохих, и средних, не позволяли итальянцу рыцарственно относиться к северной женщине, а северянке – простить южанина. Все это можно было предвидеть, и миссис Герритон предвидела это с самого начала.
Пока Лилия гордилась своими высокими принципами, Джино простодушно удивлялся, почему она не хочет помириться с ним. Он ненавидел все неприятное, жаждал сочувствия, но не решался жаловаться кому-нибудь в городе на семейные неурядицы, боясь, как бы их не приписали его неопытности. Он поделился своими проблемами со Спиридионе, и тот прислал философское письмо, помощи от которого было мало. Другой близкий друг, на которого Джино уповал больше, отбывал военную службу в Эритрее или где-то в столь же отдаленном пункте. Было бы слишком долго объяснять ему все в письме. Да и какой прок от писем? Письмо не заменит друга.
Лилия, во многом похожая на своего мужа, тоже жаждала мира и сочувствия. В тот вечер, когда он посмеялся над ней, она в каком-то чаду схватила бумагу и перо и села писать страницу за страницей, разбирая его характер, перечисляя недостатки, пересказывая целиком их разговоры, прослеживая причины своего несчастья… Она задыхалась от волнения, писала, почти не думая, еле различая написанное, но тем не менее достигла такого пафоса, такой высоты стиля, что ей мог бы позавидовать опытный стилист. Письмо было написано в форме дневника, и, лишь закончив его, Лилия поняла, для кого писала.
«Ирма, родная Ирма, письмо это тебе. Я чуть не забыла, что у меня есть дочь. Письмо огорчит тебя, но я хочу, чтобы ты знала все. Чем раньше ты об этом узнаешь, тем лучше. Да благословит и сохранит тебя Бог, моя драгоценная. Да благословит он твою несчастную мать».
К счастью, письмо попало в руки миссис Герритон. Она перехватила его и вскрыла у себя в спальне. Минута промедления – и безмятежное детство Ирмы было бы отравлено навсегда.
Лилия получила короткую записку, написанную Генриеттой, где матери еще раз запрещалось писать прямо к дочери и в конце выражалось формальное соболезнование. Лилия была вне себя от горя.
– Спокойнее, спокойнее! – уговаривал ее муж. Они сидели вдвоем в лоджии, когда пришло письмо. Он теперь просиживал возле нее часами, озадаченно глядя на нее, но ни в чем не раскаиваясь.
– Пустяки. – Она вошла в комнату, порвала записку и села писать другое письмо, очень короткое, суть которого сводилась к «приди и спаси меня».
Не слишком приятно видеть, как жена твоя пишет кому-то письмо и плачет, особенно если сознаешь, что, в общем, обращаешься с ней разумно и ласково. Не очень приятно, заглянув ей случайно через плечо, увидеть, что она пишет мужчине. И не стоит грозить мужу кулаком, выходя из комнаты и думая, что он целиком поглощен сигарой.
Лилия сама отнесла письмо на почту, но в Италии так легко все уладить. Почтальон был приятелем Джино, и мистер Кингкрофт так и не получил письма.
Она перестала надеяться на перемены, заболела и всю осень пролежала в постели. Джино совершенно потерял голову. Она знала почему: он хотел сына. Ни о чем другом он теперь не мог ни говорить, ни думать. Стать отцом существа, подобного себе, – желание это властно завладело им, но он даже не очень отчетливо сознавал его властность, так как оно было его первым по-настоящему сильным желанием, первой пылкой мечтой. Влюбленность была для него всего лишь таким же преходящим физическим ощущением, какое вызывают солнечное тепло, прохлада воды – по сравнению с божественной мечтой о бессмертии. «Я продолжаюсь». Он ставил свечки святой Деодате, так как в трудные моменты жизни всегда делался религиозным; иногда шел в церковь и молился, обращая к святой Деодате неуклюжие, грубоватые просьбы простой души. Повинуясь порыву, он созвал всех родных, чтобы они скрасили ему это трудное время, и в затемненной комнате перед Лилией мелькали чужие лица.
– Любовь моя! – повторял он. – Бесценная моя, будь спокойна. Я никого не любил, кроме тебя.
И она, зная теперь все, кротко улыбалась, сломленная, не в силах ответить язвительно.
Перед самыми родами он поцеловал ее и сказал:
– Всю ночь я молился, чтобы родился мальчик.
Незнакомая нежность вдруг шевельнулась в ее груди, и она ответила слабым голосом:
– Ты и сам мальчик, Джино.
И он проговорил:
– Значит, мы будем братьями.
Он лежал на полу, прижавшись головой к дверям ее комнаты, точно пес. Когда из комнаты вышли, чтобы сообщить ему радостную весть, он был почти без сознания, лицо его было залито слезами.
Кто-то сказал Лилии:
– Превосходный мальчик!
Но она, дав сыну жизнь, умерла.
V
В то время, когда умерла Лилия, Филипу Герритону было двадцать четыре года – весть о ее смерти достигла Состона как раз в день его двадцатичетырехлетия. То был высокий молодой человек хилого сложения; для того чтобы он сносно выглядел, пришлось благоразумно подбить плечи у его пиджаков. Он был скорее дурен собой, в лице его странным образом смешались удачные и неудачные черты. Высокий лоб, крупный благородный нос, в глазах наблюдательность и отзывчивость. Но ниже носа – полная неразбериха, и те, кто считал, что судьбу определяют рот и подбородок, глядя на Филипа, покачивали головами.
Будучи мальчиком, Филип остро сознавал эти свои недостатки. Еще в школе, когда, бывало, его дразнили и задирали, он убегал в дортуар, долго изучал свое лицо в зеркале, вздыхал и говорил: «Слабовольное лицо. Никогда мне не пробить себе дороги в жизни». С годами, однако, он стал то ли менее робок, то ли более самодоволен. Он обнаружил, что в мире для него, как и для всех, найдется укромное местечко. Твердость характера могла прийти позднее, а возможно, ей просто не было еще случая проявиться. Он по крайней мере обладал чувством красоты и чувством юмора – двумя весьма ценными качествами. Чувство красоты развилось раньше. Из-за него в двадцатилетнем возрасте Филип носил пестрые галстуки и мягкую фетровую шляпу, опаздывал к обеду оттого, что любовался закатом, и заразился любовью к искусству, начиная с Берн-Джонса и кончая Праксителем. В двадцать два года он побывал в Италии вместе с какими-то родственниками и там вобрал в себя как единое эстетическое целое оливы, голубое небо, фрески, сельские постоялые дворы, святых, крестьян, мозаики, статуи и нищих. Он вернулся домой с видом пророка, который либо преобразует Состон, либо отвергнет его. Весь нерастраченный пыл и вся энергия довольно одинокой души устремились в одно русло – он стал поборником красоты.
Вскоре все это кончилось. Ни в Состоне, ни внутри самого Филипа ровно ничего не произошло. Он шокировал с полдюжины состонцев, вступал в перебранки с сестрой и спорил с матерью. И пришел к выводу, что сделать ничего нельзя, – он не знал, что любовь к истине и просто человеческая любовь иногда одерживают победу там, где любовь к красоте терпит неудачу.
Несколько разочарованный, немного утомленный, но сохранивший свои эстетические идеалы, он продолжал жить безбурной жизнью, все более полагаясь на свой второй дар – чувство юмора. Если он и не мог преобразовать мир, то мог хотя бы осмеивать его, достигая таким путем интеллектуального превосходства. Он где-то вычитал, что смех – признак душевного здоровья, и уверовал в это. И он самодовольно смеялся, пока замужество Лилии не разбило в пух и прах его самодовольство. Италия, страна красоты, погибла для него навсегда. Она не в силах была сделать лучше людей, которые там жили, или их взгляды. Более того, на ее почве произрастали жадность, жестокость, глупость и, что еще хуже, вульгарность. На ее почве, под ее влиянием, глупая женщина вышла замуж за плебея. Филип возненавидел Джино за то, что тот погубил его жизненный идеал, и теперь свершившаяся убогая трагедия причинила ему муки – но муки не сочувствия, а окончательной утраты иллюзий.
Разочарование его было на руку миссис Герритон; она радовалась, что в это нелегкое для нее время семья сплотилась.
– Как вы думаете, должны мы надеть траур? – Она всегда спрашивала у детей совета, если находила это нужным.
Генриетта полагала, что должны. Она безобразно третировала Лилию, пока та была жива, но считала, что мертвые заслуживают внимания и сочувствия.
– В конце концов, она страдала. После того письма я несколько ночей не спала. Вся эта история напоминает одну из отвратительных современных пьес, где нет правых. Если надеть траур, значит, надо сказать Ирме.
– Естественно, надо сказать Ирме! – вставил Филип.
– Естественно, – подтвердила мать. – Но все же незачем говорить ей о замужестве Лилии.
– Не согласен с тобой. И потом, она не могла чего-то не заподозрить.
– Надо полагать. Но она никогда не любила мать, и, кроме того, девятилетние девочки не умеют рассуждать логически. Она воображает, что мать уехала в длительную поездку. Важно, очень важно, чтобы девочка не испытала потрясения. Жизнь ребенка зависит от того идеального представления о родителях, какое у него сложилось! Разрушьте этот идеал, и все пойдет прахом: нравственность, поведение – буквально все. Абсолютная вера во взрослых – вот на чем строится воспитание. Потому-то я и старалась никогда не говорить плохо о бедной Лилии при Ирме.
– Ты забываешь о младенце. Уотерс и Адамсон пишут, что там родился младенец.
– Надо сообщить миссис Теобалд, но она не в счет. Она дряхлеет с каждым днем. Даже не видится теперь с мистером Кингкрофтом. Я слыхала, что он, слава Богу, утешился другой.
– Ведь когда-нибудь девочка должна узнать, – не сдавался Филип, раздосадованный сам не зная чем.
– Чем позднее, тем лучше. Она же все время развивается.
– А вы не боитесь, что все это может плохо сказаться?
– На Ирме? Почему?
– Скорее на нас. На нашей нравственности и нашем поведении. Не уверен, что постоянное утаивание правды повлияет на эти качества благотворно.
– Совершенно незачем все так выворачивать, – недовольно заметила Генриетта.
– Ты права, незачем, – решила мать. – Будем придерживаться главного. Ребенок тут ни при чем. Миссис Теобалд не станет ничего предпринимать, а нас это не касается.
– Но это, несомненно, повлечет разницу в деньгах, – заметил сын.
– Нет, дорогой, почти никакой. Покойный Чарлз предусмотрел в завещании любые случайности. Деньги перейдут к тебе и Генриетте как опекунам Ирмы.
– Превосходно. А итальянец что получит?
– Все деньги жены. Но тебе же известно, какую сумму это составляет.
– Отлично. Значит, наша тактика – не говорить о младенце никому, даже мисс Эббот.
– Вне всякого сомнения, такой путь будет самым правильным, – подтвердила миссис Герритон, заменив слово «тактика» на «путь» ради Генриетты. – И почему, собственно, мы обязаны говорить Каролине?
– Она как-никак замешана в это дело.
– Наивное существо. Чем меньше она об этом знает, тем лучше для нее. Мне ее очень жаль. Вот уж кто страдал и покаялся. Она буквально разрыдалась, когда я ей пересказала самую малость из того ужасного письма. Никогда не видела такого искреннего раскаяния. Простим ей и забудем. Не стоит ворошить прошлое. Не будем ее беспокоить.
Филип не усмотрел логики в рассуждениях матери, но почел за лучшее не поправлять ее.
– Отныне грядет Новая Жизнь. Помнишь, мама, так мы сказали, когда проводили Лилию?
– Да, милый. Но сейчас действительно наступает новая жизнь, потому что мы все единодушны. Тогда ты еще был ослеплен Италией. Ее картины и церкви, безусловно, красивы, но судить о стране мы все-таки можем только по людям.
– К сожалению, это верно, – печально ответил он. И поскольку тактика была определена, пошел побродить в одиночестве.
К тому времени, когда он вернулся, произошли два важных события: о смерти Лилии сообщили Ирме, а также мисс Эббот, которая как раз зашла с подпиской в пользу бедных.
Ирма поплакала, задала несколько вполне разумных вопросов и много вполне бестолковых и удовлетворилась уклончивыми ответами. На счастье, в школе ожидалась раздача наград, и это событие вкупе с предвкушением нового траурного платья отвлекло ее от того факта, что Лилия, которой и так давно нет, теперь и вовсе не вернется.
– Что касается Каролины, – рассказывала миссис Герритон, – то я просто испугалась. Она была совершенно убита и ушла вся в слезах. Я утешала ее как могла, поцеловала ее. Теперь трещина между нами окончательно срослась.
– Она не задавала никаких вопросов? Я имею в виду, о причине смерти?
– Задавала. Но она изумительно деликатна. Заметив, что я о чем-то умалчиваю, она перестала расспрашивать. Видишь ли, Филип, могу сказать тебе то, чего не могла при Генриетте: у Генриетты совсем нет гибкости. Ведь мы не хотим, чтобы в Состоне прослышали о ребенке. Всякий покой и уют будут утрачены, если нам начнут докучать расспросами.
Мать умела с ним обращаться – он горячо с ней согласился.
Несколько дней спустя, едучи в Лондон, он случайно попал в один вагон с мисс Эббот и все время испытывал приятное чувство оттого, что осведомлен лучше ее. В последний раз они вместе совершали путешествие из Монтериано через Европу. От путешествия у него осталось самое отвратительное воспоминание, и теперь, по ассоциации, Филип ожидал повторения того же.
Он был поражен. Мисс Эббот за то время, что они ехали от Состона до Черинг-Кросса, обнаружила качества, которых он не мог у нее и заподозрить.
Не будучи по-настоящему оригинальной, она проявила похвальный ум, и, хотя по временам бывала бестактной и даже невежливой, он почувствовал, что перед ним личность, которую стоило бы развивать.
Сперва она раздражала его. Они поговорили, само собой разумеется, о Лилии, потом она вдруг прервала поток общих соболезнующих слов и сказала:
– Все это не только трагично, но и необъяснимо. И самое необъяснимое во всей этой истории – это мое поведение.
Впервые она упомянула о своем недостойном поведении.
– Не будем вспоминать об этом, – сказал он. – Все кончено. Не стоит ворошить прошлое. Из нашей жизни это ушло.
– Потому-то я и могу сейчас говорить свободно и рассказать вам все, что давно хотелось. Вы считали меня глупой, сентиментальной, безнравственной сумасбродкой, но вы и не представляете себе, до какой степени я виновата.
– По правде говоря, я давно об этом не думаю, – мягко возразил Филип.
Он и так знал, что натура она, в сущности, благородная и честная, она могла и не объяснять ничего.
– В первый же наш вечер в Монтериано, – упорно продолжала она, – Лилия ушла прогуляться одна, увидела итальянца в живописной позе на стене и влюбилась. Одежда на нем была поношенная, и Лилия тогда не знала еще и того, что он сын зубного врача. Надо вам сказать, за время нашего с ней путешествия я и раньше сталкивалась с подобными вещами, раза два мне уже приходилось отгонять от нее поклонников.
– Да, именно на вас мы и рассчитывали, – с неожиданной резкостью проговорил Филип (в конце концов, сама напросилась).
– Знаю, – ответила она так же резко. – Лилия виделась с ним еще несколько раз, и я поняла, что пора вмешаться. Как-то вечером я позвала ее к себе в спальню. Она испугалась, так как знала, о чем пойдет речь и как я умею быть строга. «Вы его любите? – спросила я. – Да или нет?» Она ответила: «Да». – «Почему бы вам не выйти за него замуж, если вы уверены, что будете с ним счастливы?»
– Вот как? Вот как? – взорвался Филип, будто сцена эта произошла лишь накануне. – Вы много лет знали Лилию. Не говоря уже обо всем прочем – разве способна она решить, будет она счастлива или нет?
– А вы хоть раз дали ей решить самой? – вспыхнула мисс Эббот. – Простите, я, кажется, вам нагрубила, – добавила она, стараясь сдержаться.
– Скажем, вы неудачно выразились, – проговорил Филип, всегда прибегавший к сухой саркастической манере, когда бывал сбит с толку.
– Дайте мне кончить. На другое утро я разыскала синьора Кареллу и задала ему тот же вопрос. Он… словом, он изъявил полную готовность. Вот и все.
– А телеграмма? – Филип с презрительным видом уставился в окно.
До сих пор голос ее звучал жестко, то ли из самобичевания, то ли из самозащиты. Сейчас в голосе послышалась несомненная печаль.
– Ах да, телеграмма! То был дурной поступок. И виновата тут больше Лилия. Она струсила. Надо было сообщить правду. Но, солгав, я совсем растерялась. На станцию я ехала с намерением открыть всю правду по дороге, но из-за нашей первой лжи у меня не хватило духу. А когда вы уезжали, у меня не хватило духу остаться, и я поехала с вами.
– Вы в самом деле хотели остаться?
– Во всяком случае, на какое-то время.
– А новобрачных такое положение устроило бы?
– Да. Лилия нуждалась во мне… Он же… не могу отделаться от ощущения, что могла бы оказать на него влияние.
– Я в таких вещах профан, – заметил Филип, – но я считаю, что своим присутствием вы не упростили бы создавшегося положения.
Его язвительность пропала втуне. Она с безнадежностью смотрела в окно на густо застроенную, но мало обработанную местность. Потом сказала:
– Ну вот, я все объяснила.
– Простите, мисс Эббот, вы описали, но никак не объяснили свое поведение.
Он ловко поддел ее и ждал, что она смутится и сдастся. К его удивлению, она возразила не без яда:
– Объяснение наскучило бы вам, мистер Герритон, оно затрагивает другие темы.
– Сделайте одолжение!
– Я, знаете ли, ненавидела Состон.
Он пришел в восторг.
– Так и я тоже! И сейчас ненавижу. Великолепно. Продолжайте.
– Я ненавидела праздность, тупость, респектабельность, суетное бескорыстие.
– Суетную корысть, – поправил Филип. Психология жителей Состона давно являлась предметом его изучения.
– Нет, именно суетное бескорыстие, – возразила она. – Я тогда думала, что все у нас заняты принесением жертв во имя чего-то, чего не уважают, чтобы угодить людям, которых не любят. Они просто не умеют быть искренними и, что не менее скверно, не умеют получать удовольствие от жизни. Так я думала, пока жила в Монтериано.
– Помилуйте, мисс Эббот! Почему вы мне раньше этого не сказали? Продолжайте думать так же! Я во многом согласен с вами. Великолепно!
– Ну вот, а Лилия, – продолжала она, – несмотря на кое-какие, с моей точки зрения, недостатки, обладала способностью наслаждаться жизнью с полной искренностью. Джино мне показался замечательным, молодым, сильным, и сильным не только телом. И тоже искренним, как дитя. Если им хотелось пожениться, почему бы им этого не сделать? Почему бы ей не порвать с той иссушающей жизнью, где она обречена идти по одной и той же колее до самой смерти, делаясь все более и более несчастной, а главное – безучастной? Конечно, я была не права. Она просто сменила одну колею на другую – хуже первой. А он… вы знаете его лучше, чем я. Никогда больше не стану судить о людях. И все-таки я уверена: когда мы встретили его, в нем было что-то хорошее. Лилия – и как это у меня язык поворачивается! – вела себя трусливо. Совсем юный, он обещал превратиться в прекрасного взрослого мужчину. Так я считала. Наверное, Лилия испортила его. Единственный-то раз я восстала против общепринятого, и что из этого получилось! Вот вам и объяснение.
– И очень любопытное, хотя мне и не все понятно. Например, вам не приходила в голову разница в их общественном положении?
– Мы как будто с ума сошли, мы были опьянены бунтом. Здравый смысл в нас молчал. А вы, как только вы приехали, так сразу угадали и предугадали все.
– Едва ли. – Филипа покоробило, что его похвалили за здравый смысл. Ему вдруг показалось, что мисс Эббот более чужда условностям, чем он.
– Надеюсь, вы понимаете, – закончила она, – почему я обеспокоила вас таким длинным рассказом. Женщины, как я слышала на днях из ваших уст, не успокоятся, пока во всеуслышание не покаются в своих прегрешениях. Лилия умерла, муж ее изменился к худшему – и все по моей вине. И это удручает меня больше всего, мистер Герритон: единственный раз я вмешалась в «подлинную жизнь», как говорит мой отец, – и смотрите, что наделала! Прошлой зимой я словно открыла для себя красоту, великолепие жизни и не знаю что еще. Когда наступила весна, мне захотелось бороться против всего, что я возненавидела: против посредственности, тупости, недоброжелательства, против так называемого «общества». Там, в Монтериано, я дня два буквально презирала общество. Я не понимала, что все эти вещи незыблемы и, если пойти против них, они сокрушат нас. Благодарю вас за то, что выслушали столько чепухи.
– Отчего же, я вполне сочувствую всем вашим мыслям, – ободряюще проговорил Филип. – И это не чепуха, года два назад я сказал бы то же самое. Но теперь взгляды мои переменились, и надеюсь, что и ваши подвергнутся перемене. Общество действительно незыблемо… до какой-то степени. Но ваша подлинная, внутренняя жизнь целиком принадлежит вам, и ничто не может повлиять на нее. Нет такой силы на свете, которая могла бы помешать вам порицать и презирать посредственность, ничто не может запретить вам укрыться в мир красоты и великолепия, то есть в мир мыслей и взглядов, которые и составляют подлинную жизнь, вашу жизнь.
– Ничего подобного я еще не испытала. Конечно же, я и моя жизнь – там, где я живу.
Типично женская неспособность мыслить философски. Но все-таки она развилась в индивидуальность, надо встречаться с ней почаще.
– Против незыблемой посредственности есть еще одно утешительное средство, – сказал он, – встретить товарища по несчастью. Надеюсь, что сегодня – только первая из наших многочисленных бесед.
Она ответила что-то вежливое. Поезд остановился у Черинг-Кросса, они простились, он отправился на утренний спектакль, она – покупать нижние юбки для дородных жен бедняков. Но мысли ее блуждали далеко: пропасть между нею и мистером Герритоном, которая и всегда-то представлялась ей глубокой, теперь показалась и вовсе непреодолимой.
Все эти события и разговоры происходили на Рождество. Последовавшая Новая Жизнь длилась около семи месяцев. Затем небольшое происшествие, незначительное, но досадное, положило ей конец.
Ирма коллекционировала открытки с картинками, и миссис Герритон с Генриеттой сперва сами проглядывали почту, чтобы девочке не попалось в руки что-нибудь вульгарное. На этот раз сюжет был совершенно безобидный – какие-то полуразвалившиеся фабричные трубы; Генриетта уже собиралась отдать открытку племяннице, как вдруг в глаза ей бросилась надпись на полях. Генриетта вскрикнула и швырнула открытку в камин. Стоял июль, камин, естественно, не топился, поэтому Ирма подскочила к камину и выхватила открытку.
– Как ты смеешь! – взвизгнула тетка. – Гадкая девчонка! Дай сюда!
На ее несчастье, миссис Герритон не было в комнате. Ирма, не очень-то слушавшаяся Генриетту, носилась вокруг стола и читала вслух: «Вид несравненного города Монтериано – от маленького брацца».
Глупая Генриетта поймала племянницу, надрала ей уши и разорвала открытку на клочки. Ирма заревела от боли и принялась негодующе вопить: «Какой такой маленький братец? Почему мне ничего не говорили? Бабушка, бабушка! Где мой маленький братец? Где мой…»
Тут в комнату влетела миссис Герритон со словами:
– Пойдем со мной, милочка, я тебе расскажу. Ты уже теперь большая, пора тебе знать.
После разговора с бабушкой Ирма вернулась вся в слезах, хотя, по правде говоря, узнала немного. Но и это немногое полностью завладело ее воображением. Она дала слово соблюдать тайну, почему – непонятно. Но что плохого болтать про братца с теми, кто о нем знает?
– Тетя Генриетта! – повторяла Ирма. – Дядя Фил! Бабушка! Как вы думаете, что братец делает сейчас? Он уже умеет играть? Итальянские детки начинают говорить раньше, чем английские? Или же он английский ребеночек, только родился за границей? Ой, как мне хочется его посмотреть, я его научу десяти заповедям и катехизису.
Последнее замечание всякий раз повергало Генриетту в торжественную мрачность.
– Право, Ирма несносна! – воскликнула как-то миссис Герритон. – Бедную Лилию она забыла гораздо быстрее.
– Живой брат интереснее мертвой матери, – задумчиво протянул Филип. – Она может вязать ему носки.
– Нет, хватит! Она им просто бредит. Это становится невыносимым. На днях, ложась спать, она спросила, можно ли ей упоминать его в своих молитвах.
– И ты что?
– Разумеется, разрешила, – холодно ответила миссис Герритон. – Она имеет право молиться о ком хочет. Но сегодня утром она меня вывела из себя, и, боюсь, я не сумела этого скрыть.
– Что же случилось утром?
– Она спросила, можно ли ей молиться за ее, как она выразилась, «нового папу». За итальянца!
– И ты ей позволила?
– Я вышла из комнаты, ничего не ответив.
– Наверное, когда в детстве я пожелал молиться за дьявола, ты испытывала то же самое.
– Он и есть дьявол! – выкрикнула Генриетта.
– О нет, он слишком вульгарен.
– Попрошу тебя не глумиться над религией! – с негодованием отрезала Генриетта. – Подумай о несчастном младенце. Ирма права, что молится за него. Какое вступление в жизнь для ребенка английского происхождения!