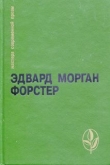Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эдвард Морган Форстер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
– Все образуется, она пойдет на мировую.
– Именно, дорогой мой, она пойдет – а мне что делать? Притворяться, будто все в порядке? У меня после этого скандала будто вся жизнь перевернулась. Я еще раньше сказал себе: врать не буду. А она… только о ней подумаю – тошнота к горлу подступает. Ну вот, теперь вы знаете то, чего не знает ни один человек в мире.
Морис сжал кулак и легонько стукнул Дарема по голове.
– Да, тяжело, – хмыкнул он.
– А у вас дома как дела обстоят? Расскажите.
– Да нечего особенно рассказывать. Живем – и все.
– Везет некоторым.
– Не знаю, везет или нет. Дарем, а вы меня не разыгрываете? Ваши каникулы и вправду превратились в кошмар?
– Чистый ад, кошмарнее не бывает.
Морис разжал кулак и захватил горсть волос.
– Эй, больно! – фыркнул Дарем.
– А что насчет Святого причастия сказали ваши сестры?
– Одна из них замужем за священ… Э-эй, больно, говорю!
– Чистый ад, да?
– Холл, вот не знал, что вы такой любитель подурачиться! – Он схватил Мориса за руку. – А другая обручена с Арчибалдом Лондоном, эсквайром… Ой! Ну-ка! Хватит, а то я сейчас уйду.
Он завалился на пол и очутился у Мориса между колен.
– Ну, что же не уходите?
– Не могу.
Поиграть с Даремом он позволил себе впервые. Религия и родственники отошли на второй план – он закатал Дарема в каминный коврик и стал натягивать ему на голову корзинку для бумаг. На шум прибежал Фетерстонхоу и взялся помогать Морису. После этого на долгое время их общение свелось к возне и взаимным подначкам, причем Дарем дурачился с неменьшим удовольствием, чем Морис. Стоило им встретиться – а встречались они везде, – они начинали пихаться, бодаться и втягивать в эти петушиные бои других. Наконец Дарему это надоело. Физически он был послабее, и иногда ему как следует доставалось, а уж про стулья в его комнате и говорить нечего – почти все они охромели. Перемену в Дареме Морис почувствовал мгновенно. Сидевший в нем резвый теленок сразу успокоился, зато свои отношения они стали выставлять напоказ. Ходили держась за руки или обняв друг друга за плечи. Сидели почти всегда в одном положении – Морис в кресле, а Дарем на полу, примостившись подле ног Мориса. В мире их друзей ничего необыкновенного в этом не было. Иногда Морис поглаживал Дарема по голове.
Вообще их горизонты заметно расширились. Морис, например, в этот весенний триместр стал богословом. Нельзя сказать, что это было чистое очковтирательство. Он искренне считал себя верующим и по-настоящему огорчался, когда критиковали то, с чем он свыкся, – подобные огорчения у среднего класса выдаются за веру. Но вера едва ли бывает пассивной. Поэтому он и не ощущал никакой моральной подпитки, не чувствовал, что как-то шире воспринимает мир. Вера его оживала лишь в ответ на выпад оппозиции, отдавалась болью, как никому не нужный нерв. Эти нервы – божественные нервы – давали о себе знать дома, хотя ни Библия, ни молитвенник, ни причастие, ни христианская этика не находили подлинного отклика в душах таких «верующих». «Как можно?» – восклицали они, когда какая-то из этих святынь подвергалась критике, и вступали в общества сторонников религии. Например, незадолго до смерти отец Мориса стал одним из столпов такого общества. Вообще в неверии было много такого, чему Морис не мог не воспротивиться.
Но сейчас… Он был охвачен сильнейшим желанием поразить Дарема. Хотел показать другу, что его достоинства не ограничиваются грубой силой, и там, где его расчетливый отец предпочел бы промолчать, Морис заставлял себя говорить и говорить. «Думаешь, мне и сказать нечего, да? Представь себе, что есть». Часто Дарем не удостаивал его тирады ответом, и Мориса охватывал ужас – неужели Дарем ускользает от него? Кто-то в разговоре обронил: «Пока Дарему с тобой интересно, все хорошо, а станет чуть скучно – ты ему больше не нужен». Морис знал, что он середнячок, и боялся: будет много говорить, результат получится обратным желаемому. Но остановить себя не мог. Жажда быть замеченным подминала под себя другие чувства, и он говорил без устали.
Однажды Дарем спросил:
– Холл, а ты не пересаливаешь?
– Просто религия очень много для меня значит, – отважно солгал Морис. – Ты, наверное, думаешь: раз я мало это внешне проявляю, значит, и чувствую не больше. А я чувствую, да еще как.
– Тогда после ужина приходи пить кофе.
Они как раз входили в столовую. Дарему, как стипендиату, пришлось читать молитву, и в голосе его слышались циничные нотки. За едой они поглядывали друг на друга. Они сидели за разными столами, но Морис расположился так, чтобы держать друга в поле зрения. Раньше они перебрасывались хлебным мякишем, но этот период ушел в прошлое. Дарем сидел насупившись, даже не говорил с соседями по столу. Морис видел: его друг что-то обдумывает – интересно, что именно?
– Ты хотел поговорить начистоту – сейчас мы это устроим, – объявил Дарем, демонстративно распахивая дверь.
Морис похолодел, лицо его медленно залилось краской. Но когда до его слуха дошел голос Дарема, оказалось, тот критикует его взгляды на религию. Морис всегда считал, что христианство для него – не пустой звук, но сейчас куда важнее казалось другое: Дарем вел по нему огонь прямой наводкой. Враз обессилевший, Морис распластался в кресле, лоб покрылся испариной, ладони вспотели. Дарем готовил кофе, нанося при этом разящие удары.
– Я знал, что тебе это не понравится, но ты сам меня вынудил. Не могу же я сдерживаться до бесконечности. Иногда надо и пар выпустить.
– Валяй, – с запинкой согласился Морис.
– Я не собирался заводить этот разговор – слишком уважаю чужое мнение, чтобы над ним смеяться. Но у тебя, по-моему, его просто нет… что же тут уважать? Все твои мнения – это затертые ярлыки. Затертые до дыр.
Морис, постепенно приходя в себя, возразил: не слишком ли сильно сказано?
– Ты всегда говоришь: «Религия для меня много значит».
– У тебя есть основания считать, что это не так?
– Если что-то для тебя много значит, Холл, то уж никак не религия.
– А что же?
– Регби.
Морис пропустил еще один удар. Рука его затряслась, и он расплескал кофе на подлокотник кресла.
– Ну, это несправедливо, – услышал он собственный голос. – Приличия ради мог бы признать, что для меня кое-что значат люди.
На лице Дарема отразилось удивление, но он сказал:
– Во всяком случае, для тебя ничего не значат ни христианство, ни Святая Троица.
– Черт с ней, с Троицей.
Дарем расхохотался.
– Вот и я про это. Ясно, переходим к следующему вопросу.
– Зачем ты это затеял? У меня и так в голове каша… в смысле, голова раскалывается. Чего ты этим хочешь добиться? Конечно, я ничего тебе не могу доказать… как три Бога существуют в одном, а один – в трех. Но что бы ты ни говорил, для миллионов людей в этом заложен большой смысл, и нашу веру тебе не поколебать. Уж слишком она сильна. Бог – это добро. Вот что самое главное. А ты все сводишь к чему-то побочному.
– Зачем так переживать из-за чего-то побочного?
– Что?
Дарем объяснил свою мысль более доходчиво.
– Просто все складывается в одно целое, – нашелся Морис.
– То есть, если с Троицей у тебя непорядок, целое разрушается?
– Вовсе нет. Совсем не обязательно.
Морис был страшно недоволен собой, но у него вправду раскалывалась голова. Он потер лоб и заговорил снова:
– Конечно, где мне толково выразить мысль, если меня интересует только регби.
Дарем подошел к нему и шаловливо втиснулся рядышком, на край кресла.
– Осторожней, тут же кофе.
– Черт, надо же!
Пока Дарем отряхивался, Морис, надувшись, поднялся и стал смотреть во двор. Ведь есть же другая жизнь! Он словно провел в этой комнате годы. Желание быть с Даремом наедине как рукой сняло. Морис кликнул однокурсников – давайте к нам, на кофе. Ребята посидели, попили кофе и ушли, однако уходить с ними Морис тоже не пожелал. И снова принялся воспевать Святую Троицу.
– Это настоящее таинство, – заявил он.
– Только не для меня, – возразил Дарем. – Хотя если кто-то действительно считает это таинством, я готов отнестись к нему с уважением.
Морис поежился и взглянул на свои руки – красные, грубые. Так что же, для него Святая Троица – таинство? Если когда-нибудь он и задумывался о ней, то только во время конфирмации, да и то через пять минут выбросил эти мысли из головы. Когда пришли однокурсники, голова его очистилась, и он попробовал трезво оценить, на что же способен его мозг. Мозг… им можно пользоваться, он не страдает какими-то отклонениями, его можно развивать. Но, как и его рукам, мозгу не хватает утонченности, он никогда не соприкасался с таинствами, вообще почти ни с чем. Он был грубый.
– Вот что я скажу, – объявил он после паузы. – В Святую Троицу я не верю, тут ты прав, но, с другой стороны, я сказал, что все складывается в одно целое, а это тоже ошибка. Если я не верю в Святую Троицу, это вовсе не значит, что я не христианин.
– Во что же ты веришь? – не долго думая, спросил Дарем.
– Верю… в основы христианского учения.
– Например?
– Спасение души, – выдавил из себя Морис. Раньше он произносил такое только в церкви, и что-то в нем всколыхнулось. Однако он тут же понял: в спасение души он верит не больше, чем в Святую Троицу, и от Дарема это не скроешь. Он выложил самую сильную свою карту, но она не была козырной, и Дарем наверняка побьет ее какой-нибудь несчастной двойкой.
Но Дарем сказал лишь:
– А Данте в Святую Троицу верил. – И, подойдя к полке и открыв последнюю часть «Рая», зачитал Морису отрывок о трех кругах радуги, которые переплетаются, а изнутри сквозь дымку смотрит человеческое лицо.
Поэзия Мориса утомила, но ближе к концу он воскликнул:
– И чье же это было лицо?
– Бога, разве не ясно?
– Разве эта поэма – не сон?
Дарем не стал цепляться к этому вопросу, догадываясь, что у Холла в голове настоящий кавардак. Откуда он мог знать, что Морис вспоминает свой школьный сон и голос, поведавший ему: «Это твой друг»?
– Данте скорее назвал бы это не сном, а пробуждением.
– То есть в подобных мыслях нет ничего дурного?
– В вере вообще нет ничего дурного, – ответил Дарем, ставя книгу на место. – Когда человек верит, это замечательно, и подлинную веру сразу видно. Вообще в каждом живет какая-то вера, за которую он готов умереть. Но только эта вера – его собственная, а не навязанная родителями или опекунами. Если человек во что-то верит, это часть его плоти и крови. Вот ты мне это и покажи. А размахивать ярлыками вроде «спасения души» и «Святой Троицы» нечего.
– От Святой Троицы я уже отказался.
– И спасение души туда же.
– Ох, как с тобой тяжело, – признался Морис. – Я и так знал, что большим умом не отличаюсь, ничего нового ты мне не открыл. Компания Рисли тебе ближе – с ними и общайся.
Дарем смутился, наконец-то замешкался с ответом и даже не остановил Мориса – тот, ссутулившись, побрел прочь. Но на следующий день они встретились как ни в чем не бывало. Это была даже не размолвка, а крутой перевал, преодолев который они зашагали еще быстрее. Снова разговоры на религиозные темы, Морис снова отстаивал спасение души. Безуспешно. Он понял, что не способен обосновать для себя существование Иисуса, христианской доброты, и если бы такой человек существовал, Морис его наверняка бы не принял. Его нелюбовь к христианству крепла и углублялась. Через десять дней он прекратил причащаться, через три недели стал пропускать богослужения, если это не было чревато наказанием. Дарема столь быстрая перемена немало озадачила. Да и самого Мориса тоже – он поступился всеми своими убеждениями… Однако его не покидало чувство, что чаша весов склоняется в его сторону и в кампании, начатой в начале семестра, он одерживает победу.
Потому что Дарему больше не было с ним скучно. Наоборот, он не мог провести без Мориса и минуты; свернувшись калачиком в кресле его комнаты, он то и дело ввязывался в спор. Для человека сдержанного и отнюдь не диалектика это было более чем странно. Свои нападки на убеждения Мориса он объяснял тем, что «у тебя не убеждения, а кошмар, все остальные здесь верят благочестиво». Но так ли обстояло дело в действительности? Не было ли в этом яростном иконоборстве какой-то позы? В глубине души Морис чувствовал: он принес веру в жертву, как пешку в шахматной партии. И извлек выгоду: приняв эту жертву, Дарем раскрылся, обнажил свое сердце.
К концу семестра они прикоснулись к теме еще более деликатной. На уроке перевода, когда они неспешно вгрызались в пласты греческого, мистер Корнуоллис вдруг ровным безразличным тоном заметил: «Дальше речь идет о неслыханном пороке греков – это можете опустить». Дарем потом возмутился – да за такое лицемерие Корнуоллиса надо лишить права на преподавание!
Морис засмеялся.
– Зря смеешься! Он дает нам чисто книжные знания, в отрыве от реальности. Между тем для греков, по крайней мере для большинства из них, это была часть культуры, и опустить такое – значит извратить сами основы афинского общества.
– Ты это серьезно?
– Ты разве не читал «Симпозиум»?
Увы, признался Морис, хотя не стал добавлять, что внимательно проштудировал энциклопедию семейной жизни.
– Там все есть – это, конечно, не детские сказочки, но прочитать надо. Займись на каникулах.
Больше ничего сказано не было, но Морис освободился от еще одного табу, да какого – на эту тему он не рискнул бы заговорить ни с кем на свете. Даже представить не мог, что ее можно коснуться, и когда Дарем выпустил эту трепетную птицу в залитом солнцем дворе, на Мориса словно пахнуло свежим дыханием свободы.
8
Вернувшись домой, он только о Дареме и говорил, и наконец до сознания членов его семьи дошло: у него появился друг. Ада спросила: не брат ли это ее знакомой мисс Дарем? Тут же выяснилось, что нет, та была единственным ребенком. А миссис Холл вообще спутала его с преподавателем по фамилии Камберленд. Мориса это оскорбило. Одно сильное чувство рождает другое, и в душе его поселилось глухое раздражение против своих женщин. До сих пор его отношения с ними были пусть не пылкими, но вполне ровными… однако перепутать фамилию человека, который для него дороже всех на свете, – разве это не чудовищно? В этом доме способны выхолостить все.
И его атеизм в том числе. Как выяснилось, никто в семье особой верой не отличался. Отозвав маму в сторонку, он со свойственной молодости категоричностью заявил: он всегда будет уважать ее религиозные предрассудки, ее и сестер, но его собственные убеждения больше не позволяют ему ходить в церковь. Она огорчилась: ах, как это прискорбно.
– Мамочка, дорогая, я знал, что ты расстроишься, но ничего не могу с собой поделать. Так уж я устроен, и спорить тут бесполезно.
– Твой бедный отец всегда ходил в церковь.
– Мой отец – это не я.
– Морри, Морри, как ты можешь?
– А что, так оно и есть, – со свойственной ей дерзостью влезла в разговор Китти. – Мама, что ты к нему пристала?
– Китти, зачем ты вмешиваешься! – воскликнула миссис Холл, чувствуя, что следует выразить неодобрение, но обрушивать его на сына не хотелось. – Мы говорили о вещах, неугодных Богу, к тому же ты совершенно не права, потому что Морис – копия отца… так сказал доктор Барри.
– Доктор Барри, между прочим, сам в церковь не ходит, – заметил Морис, следуя семейной привычке ляпать невпопад.
– Мистер Барри – умнейший мужчина, – отрезала миссис Холл. – Как и его жена.
Ада и Китти дружно расхохотались: миссис Барри – мужчина! Мама оговорилась, и дочери долго надрывали животы, напрочь позабыв об атеизме Мориса. Он не стал причащаться в Пасхальное воскресенье, внутренне подготовившись к скандалу, как было у Дарема. Но никто даже внимания не обратил – соблюдать христианские обряды в провинциальных местечках больше не требовалось. Это же надо! Общество словно открылось Морису в новом свете. Выходит, ему, этому обществу, на все наплевать, а благочиние и нравственность – так, для отвода глаз?
Он часто писал Дарему, пытался выразить все оттенки чувств – письма выходили длинные. Дарем высокой оценки им не давал, но отвечал не менее длинными посланиями. Морис всегда держал его письма при себе, перекладывал из одного костюма в другой и даже зашпиливал в пижамном кармане, когда ложился спать. Иногда просыпался среди ночи и поглаживал их… на потолке поигрывали отблески уличного фонаря, и он вспоминал, как в детстве эти блики приводили его в трепет.
Эпизод с Глэдис Олкотт.
Мисс Олкотт была одной из немногих, кто приходил к ним в гости. Она подружилась с миссис Холл и Адой в какой-то водолечебнице и, получив приглашение, с радостью его приняла. Обитательницы дома были от нее в восторге – она просто прелесть! – а визитеры шутливо намекали молодому хозяину дома: не теряйся! Мол, везет же некоторым! Он лениво отшучивался и поначалу не обращал на нее внимания, но потом стал за ней слегка приударять.
Между прочим, сам того не осознавая, Морис превратился в интересного молодого человека. От неуклюжего увальня не осталось и следа – помогли занятия спортом. Он был крепко сшит, но при этом ладно скроен, а лицо тоже не отставало от тела. Миссис Холл все приписала его усам: «Усы сделают из Мориса мужчину». Это замечание оказалось куда глубже, чем она предполагала. Безусловно, темная щеточка придавала его лицу оформленность, выгодно оттеняла зубы, когда он улыбался. Шла ему и одежда: по совету Дарема он носил фланелевые брюки даже по воскресеньям.
Разговаривая с мисс Олкотт, он не скупился на улыбку – что тут плохого? Она улыбалась в ответ. Он позволял себе поиграть в ее присутствии мускулами, когда брал с собой на прогулку на новом мотоциклете с коляской. Он растягивался подле ее ног. Выяснив, что она курит, задерживал ее в столовой и заставлял смотреть себе в глаза. Прозрачные занавеси из сизого дыма подрагивали, рвались в клочья и растворялись, с ними путешествовали мысли Мориса, но с ними же и исчезали, стоило открыть окно. Он видел, что его внимание ей приятно, а все домочадцы, включая слуг, заинтригованы. Что ж, сказал он себе, – вперед.
И сразу что-то разладилось. Морис стал рассыпаться в комплиментах: ах, какие у вас волосы и так далее. Она пыталась его остановить, но он утратил чувство меры и не понимал, что начинает ее раздражать. Он где-то вычитал: от комплиментов девушки млеют, а их недовольство – не более чем поза. Он буквально не давал ей прохода. Когда в последний день она отказалась ехать с ним на прогулку, он проявил настойчивость – эдакий властный самец. Деваться ей было некуда, все-таки она у них в гостях. Он отвез ее в какое-то романтическое, на его взгляд, место и там заключил ее ручку в свои лапищи.
В принципе мисс Олкотт не возражала, когда ее брали за руку. Она позволяла это другим, позволила бы и Морису, знай он, как это надлежит делать. Но тут… От его прикосновения мурашки побежали у нее по коже. К ней словно прикоснулся труп. Подскочив, она воскликнула:
– Мистер Холл, оставьте эти глупости! Оставьте, прошу вас. А то совсем глупо получится.
– Мисс Олкотт… Глэдис… я скорее умру, чем позволю себе вас обидеть, – взвыл бедный Морис, пытаясь спасти положение.
– Мне пора на поезд, – сказала она со слезами в голосе. – Пора, извините меня, пожалуйста.
С прогулки она вернулась раньше его, сославшись на головную боль и соринку в глазу, но все тотчас поняли: что-то случилось.
Если не считать этого эпизода, каникулами Морис остался доволен. Он много читал, подбирая книги, которые рекомендовал Дарем, а не его наставник. Он явно повзрослел – и сам прекрасно это чувствовал. Он настоял, чтобы мама уволила Хауэллов, из-за которых жизнь на участке вокруг виллы давно захирела, и сменил экипаж на авто. Это произвело впечатление на всех, включая Хауэллов. Морис также навестил старого партнера отца. Он унаследовал от отца деловые навыки, равно как и некоторую сумму денег, и было решено: место в фирме – поначалу младшего служащего – ему уготовано, надо только закончить учебу в Кембридже. Хилл и Холл, биржевые брокеры. Морис занимал место в нише, которую предназначила для него Англия.
9
В прошлом семестре умственные способности Мориса достигли впечатляющих высот, но каникулы отбросили его назад, к уровню средней школы. Он вернулся слегка заторможенный и снова вел себя так, как, на его взгляд, ему полагалось себя вести, – рискованный путь для человека, не наделенного воображением. Мозг его не был затуманен полностью, однако частенько тонул в облаках, и хотя от мисс Олкотт в голове не осталось и следа, сохранилась приведшая к встречам с ней надуманность. Главной причиной всего этого была семья. Ему еще предстояло понять: они сильнее его, их влияние на него неизмеримо. Из трехнедельного общения с семьей он вышел расхлябанным, вялым, победившим по всем пунктам в отдельности, но проигравшим в целом. Короче говоря, он вернулся в Кембридж, думая и даже разговаривая как мать и Ада.
Этой своей деградации он не заметил, пока не приехал Дарем. Дарем приболел и на несколько дней задержался дома. Когда в приоткрытом дверном проеме появилось его побледневшее лицо, Мориса охватило отчаяние: он не мог вспомнить, в каких отношениях они расстались. Надо было брать игру на себя, а его охватил страх, он не мог заставить мозг работать. Худшее в нем поднялось на поверхность, и радости он предпочел спокойствие.
– Привет, старина, – выдавил из себя он.
Дарем проскользнул в комнату, не поздоровавшись.
– Что с тобой?
– Ничего.
Морис все-таки понял: контакт утрачен. В прошлом семестре такой молчаливый приход был бы весьма многозначительным.
– Давай садись.
Дарем уселся прямо на пол, подальше от Мориса. Была вторая половина дня. В окно вплывали звуки майского семестра, запахи кембриджского цветения, словно сообщая Морису: «Ты нас недостоин». Он чувствовал себя на три четверти мертвецом, чужаком, деревенщиной среди афинян. Что ему здесь делать? С таким другом?
– Послушай, Дарем…
Дарем приподнялся, подвинулся ближе. Морис протянул руку… и голова Дарема вписалась в изгиб ладони. Он враз забыл, что хотел сказать. Звуки и запахи нашептывали: «Ты – это мы, мы – это молодость». Он нежно потрепал волосы Дарема, запустил в них пальцы, словно желая погладить мозг.
– Ну, Дарем, каникулы провел хорошо?
– А ты?
– Я нет.
– А писал, что хорошо.
– Плохо.
Он вздрогнул – до него дошло, что он говорит правду.
– Каникулы прошли мерзее некуда, а я даже этого не понял.
Интересно, надолго ли очистился его мозг? Наверняка снова затуманится… Он тяжело вздохнул и притянул голову Дарема к колену, словно талисман, без которого нет ясной жизни. Он вдруг преисполнился нежностью и стал поглаживать этот талисман, ровными движениями, от виска до горла. Потом убрал руки, и они бессильно повисли вдоль туловища. Еще раз тяжко вздохнул.
– Холл.
Морис пошевелился.
– Что-нибудь случилось?
Он снова погладил голову, снова убрал руку. Так есть у него все-таки друг или нет?
– Дело в этой девушке?
– Нет.
– Ты писал, что она тебе нравится.
– Нет… какое там.
В горле его снова заклокотали тяжкие вздохи. Они выходили наружу со скрежетом, превращались в стоны. Голова откинулась назад, он забыл, что к колену его прижался Дарем, что этот горестный и смутный вулкан исторгается на его глазах. Он уставился в потолок – рот искривлен, в глазах мука, – понимая только одно: человек создан для страданий и одиночества, и ждать помощи с небес нечего.
Теперь уже Дарем потянулся к нему, погладил волосы. Они обнялись. И вот они лежат, нежно прижавшись друг к другу, голова одного покоится на плече другого, щеки вот-вот встретятся… но тут кто-то крикнул со двора: «Холл!», и он откликнулся. Он всегда откликался на зов. Оба вскочили с пола, Дарем отбежал к камину, облокотился о полку и подпер голову рукой. Грохоча по ступенькам, в комнату ворвались какие-то весельчаки. Потребовали чай. Морис проявил гостеприимство, увлекся общим разговором и почти не обратил внимания на уход друга. Ничего страшного, сказал он себе, пообщались, и ладно, хоть и не обошлось без сантиментов. В нем свежим ветерком поселилось ожидание новой встречи.
Она не заставила себя ждать. После занятий с большой компанией он направлялся в студенческий театр, и тут его окликнул Дарем.
– Я знаю, на каникулах ты прочитал «Симпозиум», – сказал он негромко.
Морису стало не по себе.
– Тогда ты понимаешь… я могу ничего не говорить…
– В смысле?
Глаза Дарема переполняла напряженная синева. Ему не терпелось, и, хотя вокруг были люди, он прошептал:
– Я люблю тебя.
Морис остолбенел, его охватил первобытный ужас. Потрясенный до глубины своей провинциальной души, он воскликнул:
– Что за бред! – Потом, не владея собой, невнятно забормотал: – Дарем, ты из благородного рода, я попроще. Не пори чушь! Я не обижаюсь, знаю, ты не это хотел сказать, просто это же запретная тема, преступление, хуже какого нет… никогда больше ничего такого не говори! Дарем! Что за бредовая идея…
Но его друг уже испарился, исчез без единого слова, пронесся через двор и хлопнул за собой дверью – словно раздался выстрел на фоне радостных звуков весны.
10
Люди заторможенные, вроде Мориса, – как правило, натуры толстокожие, потому что и на чувства им требуется время. Им свойственно делать вид, что ничего – хорошего либо плохого – не случилось, и всякому вторжению в свою жизнь давать инстинктивный отпор. Но, проникнув, чувства у таких натур, если дело касается любви, оказываются особенно глубокими. Со временем они способны на всепоглощающую и пылкую страсть, сердце их может познать все муки ада. Поэтому первой реакцией Мориса на случившееся была лишь легкая досада, но бессонные ночи и тоскливые дни породили захлестнувшую его бурю. Пробившись сквозь защитную оболочку, чувства добрались до самых корней, до самых истоков его души и тела, до его «я», тщательно дотоле скрываемого, и обрели сверхъестественную, сметающую все на своем пути силу. Неужели он лишил себя великой радости? Перед ним открылись неизведанные миры, и по силе разрушений он понял, в каком наслаждении себе отказал, порвав узы дружбы.
Два дня они не разговаривали. Дарем предпочел бы не встречаться и долее, но у них имелось много общих друзей, и встреча была неизбежна. Поэтому Дарем написал Морису сухую записку: для общего блага будем вести себя так, будто ничего не произошло. В конце добавил: «Буду весьма признателен, если оставишь мое преступное поведение в тайне. Уверен, что так ты и поступишь, поскольку обрушившуюся на тебя новость ты воспринял весьма здраво». Морис не ответил, но сперва приложил эту записку к письмам, полученным за время каникул, а потом всю переписку сжег.
Он надеялся, что вершина страданий уже позади. Но оказалось, что подлинные страдания, как и знакомство с подлинной жизнью, ему только предстоят. Встретились они довольно быстро. Через два дня сошлись в парной игре на теннисном корте, и душа его отозвалась яростной болью. У него подкашивались колени, глаза застилал туман; когда приходилось принимать подачу Дарема, Мориса трясло, будто он прикасался к источнику высокого напряжения. Потом им пришлось стать партнерами; в какой-то момент они столкнулись, Дарем поморщился, но заставил-таки себя улыбнуться.
Потом как-то вышло, что Дарему удобнее всего возвращаться в колледж вместе с Морисом, на его мотоциклете. Он и бровью не повел, сел в коляску. У Мориса, не спавшего две ночи кряду, голова пошла кругом, он свернул в переулок и погнал машину на всех парах. Впереди появился фургон, полный женщин. Он помчался прямо на них, женщины завизжали, но он успел нажать на тормоза и отвести беду. Дарем не проронил ни слова. В записке он написал: говорить с тобой буду только в присутствии других и в случае необходимости. Всем прочим отношениям – конец.
В тот вечер Морис лег спать в обычное время. Но едва голова коснулась подушки, горло сдавили рыдания. Он ужаснулся – мужчинам не положено плакать! Вдруг услышит Фетерстонхоу? Чтобы скрыть слезы, он зарылся в простыни, потом сбросил их, заметался, стукнулся головой о стенку и разбил вазочку. Вдруг на лестнице послышались шаги. Он тут же затаился, и вскоре шаги стихли. Зажег свечу… Боже, пижама порвана, руки трясутся. Он не смог сдержаться и снова заплакал, хотя мыслей о самоубийстве уже не было; он растянулся на кровати и уснул. Когда открыл глаза, в комнате находился уборщик – уничтожал последствия пронесшегося урагана. Только его здесь не хватало. Вдруг он что-то заподозрил? Морис снова уснул. Пробудившись во второй раз, он обнаружил на полу почту: письмо от дедушки, мистера Грейса; старик писал, что Морис вступает в пору зрелости и в честь его двадцать первого дня рождения надо устроить вечеринку; приглашение на ленч от жены преподавателя («мистера Дарема мы тоже пригласили, так что скучно Вам не будет») и письмецо от Ады, в котором, среди прочего, упоминалась Глэдис Олкотт. Сон снова забрал Мориса в свои объятия.
Яростный взрыв чувств – лекарство не для всякого, но для Мориса он оказался ударом грома, разогнавшим облака. Выплеснувшаяся наружу лава копилась в нем не три дня, как ему казалось, а целых шесть лет. Все эти годы она тихо бурлила в темных закоулках его души, куда нет доступа стороннему наблюдателю, а среда, в которой он жил, делала эту лаву только гуще. Но вот извержение вулкана произошло – и Морис остался в живых. Он стоял на вершине утеса, в тени которого прошла его юность, и видел яркие краски дня.
Почти весь день он просидел с широко открытыми глазами, словно глядя в оставленную им долину. Что же, все стало ясно. Вся его прежняя жизнь была пронизана ложью. По собственному выражению, он «питался ложью»… для отроческих лет эта пища естественна, и он поглощал ее с жадностью. Прежде всего он сказал себе: впредь будь осторожнее. Надо жить открыто и честно, не потому, что тебя волнует чье-то мнение, просто таковы правила избранной тобой игры. С самообманом покончено. Самое главное, хватит притворяться, будто его волнуют женщины… потому что его привлекает только один пол, его собственный. Он любит мужчин и любил их всегда. Его заветное желание – обнять их, слиться с ними всем своим существом. Он признался себе в этом только теперь, когда потерял человека, ответившего ему взаимностью.
11
После этого кризиса Морис ощутил себя мужчиной. До сих пор – если считать, что человека можно оценивать по какой-то шкале, – он едва ли был достоин чьей-то любви, сам никого не воспринимал всерьез, с сокурсниками вел себя нейтрально и не слыл человеком надежным – потому что именно так относился и к себе самому. Но теперь он мог предложить высший из даров. Идеализм и грубость – спутники отрочества – наконец сомкнули ряды, сплелись – и возникла любовь. Возможно, такая любовь никому не была нужна, но он и не думал ее стыдиться, потому что тут проявлялось его «я», не тело или душа, но именно «я», объединявшее то и другое. Он все еще страдал, но откуда-то взялось ощущение торжества и победы. Боль позволила ему укрыться от мнения света в особой нише, предназначенной только для него.