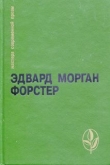Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эдвард Морган Форстер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
Ему предстояло сделать еще много открытий, и, прежде чем он познал некоторые, глубоко скрытые тайны – жуткие тайны его натуры, – прошли годы. Но метод постижения он освоил, и каракули на песке его больше не волновали. Он слишком долго пребывал во сне и не мог быть полностью счастлив, но тело его налилось силой, и он испытывал некую аскетическую радость – как воин, у которого нет дома, зато в избытке оружия.
Учеба шла своим чередом, и вскоре Морис решил поговорить с Даремом. Возможности слов открылись ему поздно, поэтому он ценил их весьма высоко. Почему он должен страдать, заставлять страдать друга, если словами все можно поправить? Он уже слышал, как говорит: «Я люблю тебя не меньше, чем ты меня», а Дарем в ответ: «Правда? Тогда я тебя прощаю». Пылкой молодости такой разговор представлялся вполне возможным, хотя Морис сомневался, что все тут же встанет на свои места. Он, однако, предпринял несколько попыток, но отчасти из-за его робости, а отчасти из-за робости Дарема они не увенчались успехом. Несколько раз он натыкался на безжалостно запертую дверь, либо в комнате Дарема оказывались люди; иногда он входил, но, когда гости удалялись, Дарем исчезал вместе с ними. Морис приглашал его вместе пообедать – безрезультатно. Предлагал подвезти на теннис – у Дарема всегда находилась отговорка. Когда их пути пересекались во дворе, Дарем делал вид, будто что-то вспомнил, и стремглав убегал прочь. Морис удивлялся – как это ребята ничего не замечают? Но студенты, как правило, народ ненаблюдательный, им дай Бог в себе разобраться. То, что Дарем перестал сюсюкать с этим Холлом, заметил разве что один преподаватель.
Случай Морису все-таки представился – после заседания дискуссионного общества, в которое входили оба. Дарему предстоял экзамен на степень бакалавра с отличием, и он официально сообщил: на заседания пока ходить не будет, нет времени. Но очередную встречу предложил провести у него в комнатах – хотелось проявить гостеприимство. Этот поступок был вполне в его духе – он терпеть не мог быть кому-то обязанным. Морис тоже пришел и просидел целый вечер, хотя тоска была смертная. Когда все, включая хозяина, высыпали во двор глотнуть свежего воздуха, Морис остался – ему вспомнился первый проведенный в этой комнате вечер… интересно, можно ли вернуть прошлое?
Дарем вошел, сразу не заметив, кто именно находится в комнате. Не обратив на Мориса ни малейшего внимания, он принялся готовиться ко сну.
– Однако ты суров, – озлился Морис. – Тебе непонятно, каково это, когда в голове полная сумятица, оттого с тобой так трудно.
Дарем покачал головой, как бы не желая слушать. Вид у него был такой болезненный, что у Мориса возникло неукротимое желание схватить его, обнять.
– Ну что ты меня избегаешь? Дай мне возможность высказаться, ничего другого я не хочу.
– Мы высказывались целый вечер.
– Я имею в виду «Симпозиум», как в Древней Греции.
– Холл, сколько можно дурью маяться? Неужели не ясно, что оставаться с тобой наедине я не хочу? Мне это неприятно. И не надо заводить старую песню. Что было – то прошло. Все. – Он ушел в другую комнату и начал раздеваться. – Извини, может, это невежливо, но за последние три недели нервы у меня стали совсем ни к черту.
– У меня тоже! – воскликнул Морис.
– Ах, бедненький!
– Дарем, я страдаю, как в аду!
– Ничего, скоро отпустит. Это всего лишь ад презрения. Тебе ведь нечего стыдиться? Стало быть, истинные муки ада тебе неведомы.
Боль была настолько невыносимой, что Морис всхлипнул. Тут не было никакой фальши, и Дарем, уже собиравшийся закрыть между ними дверь, смилостивился:
– Ладно, хочешь – давай поговорим. Но о чем? Ты намерен за что-то извиниться? Но за что? Можно подумать, это ты мне надоел. Но ты не совершил ничего плохого. Вел себя достойно с первого до последнего дня.
Морис запротестовал, но впустую.
– Настолько достойно, что обычное дружелюбие я принял за что-то другое. Ты был так рад видеть меня, особенно в день моего приезда, что я неправильно истолковал твои чувства. И очень казню себя за это. Я не имел права прерывать свои занятия – я был погружен в книги и музыку, когда ты появился первый раз. Едва ли тебе нужно мое извинение, Холл, но я приношу его со всей искренностью. Меньше всего на свете я хотел тебя оскорбить.
Голос его звучал негромко, но четко, лицо походило на разящий меч. Морис стал что-то лепетать о любви.
– Ладно, хватит. Быстро женись, и обо всем забудешь.
– Дарем, но я люблю тебя.
Дарем горько засмеялся.
– Правда… и всегда…
– Спокойной ночи.
– Говорю же тебе, правда… я затем и пришел, чтобы сказать… я к этому отношусь, как ты… я всегда был такой, как греки, только не знал…
– Поподробней, если можно.
Все слова тут же выветрились из головы. Старая болезнь: когда его просили что-то растолковать, язык словно завязывался узлом.
– Холл, не надо перегибать палку. – Дарем поднял руку, потому что у Мориса вырвался всхлип. – Ты пришел меня утешить – это очень порядочно с твоей стороны, но всему есть предел: кое от чего меня просто воротит.
– Я и не перегибаю…
– Извини, я сказал лишнее. Во всяком случае, уходи. Слава Богу, что я попал в твои руки. Любой другой доложил бы обо мне декану или полиции.
– Ну и черт с тобой, чего еще от тебя ждать! – воскликнул Морис, пулей вылетел во двор и услышал, как стукнула наружная дверь. Снедаемый яростью, он стоял на мосту… ночь напоминала ту, первую ночь – моросил мелкий дождик, тускло поблескивали звезды. Он не думал о том, что у Дарема были свои три недели страданий, что яд, выделяемый одним человеком, для другого вовсе не яд. Его бесило другое: друг его теперь не тот, каким был раньше. Пробило двенадцать часов, час, два, а он все прикидывал, что же сказать, когда сказать уже нечего и языковые ресурсы напрочь исчерпаны.
А потом… обезумевший, безрассудный, насквозь промокший, в первом мерцании рассвета он увидел окно комнаты Дарема, и сердце подскочило до неба, сотрясая основы самого его существа. Оно вскричало: «Ты любишь и любим!» Он дико огляделся по сторонам. «Ты сильный, – кричало сердце, – а он слаб и одинок». И сердце взяло верх над рассудком. В ужасе от того, что он собирается сделать, Морис ухватился за средник и запрыгнул в окно.
– Морис…
Он опустился на пол комнаты – и имя его донеслось из далеких грез. Буря враз отбушевала в его сердце, и воцарился неведомый дотоле чистейший штиль. Его друг позвал его во сне. Минуту он стоял, околдованный, потом дар речи вернулся к нему, и, мягко положив руку на подушки, он выдохнул:
– Клайв!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
12
В отроческие годы Клайва почти не терзали какие-то мрачные загадки. Он ясно мыслил, обладал обостренным восприятием добра и зла и вскоре пришел к выводу: ему ниспослано проклятие свыше. Человек глубоко религиозный, искренне желавший найти путь к Богу и ублажить Его, он в раннем возрасте понял, что над ним довлеет и другое желание, свойственное еще жителям Содома. В природе этого явления он не сомневался: мир его чувств был очерчен яснее, нежели у Мориса, его не раздирали противоречия между идеалом и грубой реальностью; соответственно, ему не понадобились годы, чтобы перекинуть мостик через разделявший эти два берега пролив. Судьба наделила его влечением, которое привело к уничтожению Содома, этого погрязшего в грехах города. До плотских утех дело, конечно, не дойдет, но почему, почему из всех христиан так наказали именно его?
Сначала он решил, что Господь испытывает его и, если он не будет богохульствовать, Бог воздаст ему за страдания, как Иову. Поэтому он преклонял голову, постился и сторонился тех, кто вызывал у него симпатию. Шестнадцатый год жизни принес ему бесконечные муки. Он ни с кем ими не делился, но нервы в конце концов не выдержали, и его пришлось даже забрать из школы. Но во время выздоровления он, посиживая в кресле-каталке, влюбился в своего двоюродного брата, ходившего мимо. Между прочим, женатого. Он был проклят, надеяться было не на что.
Подобные мучения не обошли стороной и Мориса, но не столь явно: у Клайва они были определенными, непрерывными и возникали не только в день причастия, но и в другие дни. Он никогда не заблуждался на этот счет, хотя свою предрасположенность никак не проявлял. Тело он держал в узде. Зато порочная душа посмеивалась над читаемыми им молитвами.
Клайв с детства любил филологию, преклонялся перед печатным словом, и ужасы, которые раскрывала перед ним Библия, находили подтверждение у Платона. Он всегда помнил, какая волна чувств захлестнула его при первом прочтении «Федра». Его болезнь была описана там изысканно, достойно – страсть, которую, как и любую другую, можно использовать на благо и во зло. Платон не предлагал ничего узаконить, и все же… Поначалу он не мог поверить, что сделал столь вдохновляющее открытие, – наверное, тут какое-то недопонимание, они с Платоном думают о разных вещах. Но вскоре уразумел: этот умеренный безбожник все-таки говорил на одном с ним языке, он не бросался на веру с открытым забралом, скорее, ловко обходил ее стороной и предлагал подойти к жизни иначе. «Используй то, что тебе отпущено». Не подавляй свое «я», не желай для себя другой судьбы, не терзай себя тщеславными помыслами, но выпестывай то, что свойственно именно тебе, – только не обижай при этом ни Бога, ни человека.
Однако от христианства Клайву пришлось отказаться. Если человек ведет себя как хочет, а не как должен, христианство он рано или поздно вынужден отринуть, к тому же между страстью Клайва и этой религией – вековая вражда. Ни один трезвомыслящий человек объединить их не может. Страсть его, если следовать библейской формуле, «не должно упоминать среди христиан», и по легенде все, кто ее разделял, умерли в канун Рождества Христова. Клайв отказался от христианства с сожалением. Он вырос в семье сквайров и адвокатов, в большинстве своем людей добропорядочных и физически нормальных, и предавать семейные традиции ему не хотелось. Неужели христианство не может пойти с ним на компромисс? Он искал поддержки в Библии. Были ведь там Давид и Ионафан. Или даже «ученик, которого любил Иисус». Но церковное толкование было явно против него, и библейские легенды, если не передергивать, не могли успокоить его душу, поэтому он достаточно рано обратился к классической литературе.
В восемнадцать лет он был человеком необычайно зрелым, прекрасно держал себя в руках и мог позволить себе сближаться с любым, кто привлекал его внимание. Гармония вытеснила аскетизм. В Кембридже он стал выказывать нежные чувства по отношению к однокурсникам, и жизнь его, до этого серая, слегка расцветилась и окрасилась изысканными тонами. Пассы его были осторожными и здравыми, при этом ничего низменного и мелкого в этой осторожности не было. Он сумел бы сделать и следующий шаг, представься такая возможность.
На втором курсе он познакомился с Рисли, тоже «из таких». Тот без особых колебаний раскрыл перед ним карты, но Клайв не стал доверяться ему в ответ, вообще Рисли с компанией не пришлись ему по нутру. Однако сигнал был получен. Приятно было сознавать, что он не один такой, и откровенность других помогла ему собраться с силами и поведать матери о своем неприятии христианства. Большего он сказать ей не мог. Миссис Дарем, женщина земная, особенно протестовать не стала. Скандал разразился под Рождество. Даремы были единственным аристократическим родом в приходе и причащались отдельно, всей семьей преклоняли колени на длинной скамеечке; что же, ей придется на глазах всей деревни причащаться вместе с дочерьми, а Клайва среди них не будет? Как это так? Она вспылила, и они поссорились. Мать предстала перед ним в своем истинном свете: сухая и черствая пустышка. Испытав горькое разочарование, он все свои помыслы направил на Холла.
Холл… он был лишь одним из нескольких привлекавших его мужчин. Да, его семья тоже состояла из матери и двух сестер, но делать вид, будто их связывает только это, – нет, Клайв привык мыслить здраво. Наверное, он и сам не понимал, как сильно ему нравится Холл… не исключено, он был даже в него влюблен. И как только они встретились, он не смог сдержать нахлынувшие чувства и поведал ему сокровенное.
Но этот тип оказался аморфным и скудоумным, полным буржуазных предрассудков – как он мог такому довериться? Ведь именно ему Клайв рассказал о домашних неурядицах, безмерно тронутый тем, как Холл разделался с Чэпменом. Клайв пришел в восторг, когда Холл начал поддразнивать его. Остальные как-то сторонились, считая его человеком степенным, и ему нравилось, когда Холл, парень крепкий и красивый, начинал с ним возиться. И когда гладил его по голове. Лица их словно стирались, он откидывался назад, щека его легонько скользила по брючине Мориса, тело переполнялось теплом. В эти минуты он не обманывал себя. Он знал, какого рода удовольствие получает, и честно предавался ему – ведь ни одному из них вреда от этого нет. Холл из тех, кому нравятся только женщины, – это ясно с одного взгляда.
К концу семестра он заметил, что лицо Холла озаряется каким-то странным, чудесным взглядом. Взгляд этот появлялся изредка, едва различимый, и было в нем что-то утонченное. Впервые Клайв заметил его, когда они препирались из-за религии. В нем читалась ласковая доброта, как бы вполне естественная, но примешивалось и что-то еще, чего он раньше за Холлом не числил, – легкий вызов? Точно не скажешь, но ему нравилось. Этот взгляд возникал, когда они внезапно встречались либо когда нависало молчание. Морис словно посылал ему приглашение, говоря: «Знаем, знаем, все хорошо, ты умен – и все-таки иди сюда!» У Клайва даже возникло навязчивое ожидание, мозг и язык трудились, а сам он ждал – когда же появится этот взгляд? И когда он наконец появлялся, Клайв словно отвечал: «Приду, приду – я ведь не знал».
«Теперь тебе некуда деваться. Приходи».
«Что значит некуда деваться?»
«То и значит, что приходи».
И он пришел. Уничтожил на своем пути все барьеры – не сразу, потому что дом, в котором он жил, нельзя было уничтожить за один день. Весь семестр, а потом и с помощью писем он расчищал себе путь. Убедившись во взаимности, он дал волю своей любви. До сих пор их отношения были безобидной игрой, мимолетным удовольствием для тела и души. Теперь он вспоминал об этих играх с чувством стыда. Ведь любовь гармонична, всеохватна. Он наполнял ее достоинством, богатством своего внутреннего мира – и правда, в его уравновешенной душе то и другое сливались воедино. В нем не было никакой робости. Он знал себе цену и, когда думал, что ему предстоит прожить жизнь без любви, винил в этом не себя, а обстоятельства. Однако Холл, красивый и привлекательный, снизойти до него отказался. Что ж, в следующем семестре они встретятся на равных.
А случилось вот что: книги для него значили так много, что он забыл, сколь многих они приводят в замешательство. Доверяй он своему телу – катастрофы не произошло бы… а так он, связав их любовь с прошлым, перенес ее в настоящее, в результате его друг вспомнил обо всех условностях света – и в испуге отпрянул. Холл сказал именно то, что хотел. Иначе зачем было говорить? Холл презирал его, и не скрывал этого. «Что за бред» – эти слова ранили больнее любого оскорбления, они так и звенели в ушах. Холл – нормальный здоровый английский джентльмен, он и на секунду представить себе не мог, что в действительности происходит.
Какая жуткая боль, какое жуткое унижение! Но если бы это было все! Клайв настолько слился со своим возлюбленным, что стал презирать себя самого. Вся его жизненная философия рухнула, и мирно дремавшее чувство греха пробудилось среди обломков, пробудилось и поползло по коридорам души. Холл назвал его преступником; что ж, он прав. На нем печать проклятья. Он больше никогда не осмелится сойтись с мужчиной… зачем? Чтобы того совратить? Ведь это благодаря ему Холл потерял веру в христианство. А он, злодей, еще и покусился на его непорочность!
За эти три недели Клайв сильно переменился и уже не мог поддаться на уговоры Холла, когда тот – добрый христианин, едва не сбившийся с пути, – вошел в комнату, чтобы его утешить. Безуспешно испробовав то и се, он исчез, оставив после себя облачко гнева. «Ну и черт с тобой, чего еще от тебя ждать!» Как верно, но как жестоко услышать такое от любимого человека! Клайв совсем пал духом; жизнь его разбилась вдребезги, у него не было сил перестроить ее, очиститься от зла. И он сказал себе: этот малый просто смешон. Я никогда его не любил. Создал в своем воспаленном мозгу образ, вот и все. Пусть Господь поможет мне от него избавиться.
Но этот образ нагрянул к нему во сне, заставил прошептать свое имя.
– Морис…
– Клайв…
– Холл! – Рот его приоткрылся от изумления, сон как рукой сняло. Вокруг волнами колыхалось тепло. – Морис, Морис, Морис… О-о, Морис…
– Не говори ничего.
– Морис, я люблю тебя.
– А я – тебя.
Они поцеловались, едва того желая. И тут же Морис исчез, как и появился, – через окно.
13
– Я уже две лекции пропустил, – заметил Морис, завтракавший в пижаме.
– И вообще не ходи, самое страшное, что он сделает, – не выпустит тебя за ворота.
– Поедем кататься на мотоциклете?
– Да, – согласился Клайв, закуривая, – только подальше. Не могу в такую погоду болтаться в Кембридже. Поедем куда-нибудь далеко, искупаемся. Возьму учебники, в коляске почитаю… Черт!
На лестнице раздались шаги. В комнату заглянул Джои Фетерстонхоу – нет желающих после обеда сразиться с ним в теннис? Морис принял приглашение.
– Морис! Ты что, сдурел?
– Иначе от него не отделаешься. Клайв, через двадцать минут встречаемся у гаража, бери свои дурацкие книги и выуди у Джои мотоциклетные очки. Я переоденусь. И поесть прихвати.
– Может, лучше на лошадках?
– Очень медленно.
В назначенное время они встретились. Забрать у Джои очки оказалось нетрудно – того просто не было в комнате. Но когда они на мотоциклете пересекали Джизус-лейн, их окликнул декан:
– Холл, разве у вас нет лекции?
– Я проспал, – вызывающе ответил Морис.
– Холл! Холл! Остановитесь, я с вами разговариваю.
Морис как ни в чем не бывало ехал дальше.
– Какой смысл спорить, – обронил он.
– Ни малейшего.
Они проскочили через мост и поехали в направлении Эли.
– Мчимся прямо в ад! – воскликнул Морис.
Машина мощно урчала, он гнал ее с непринужденным безрассудством. Она подпрыгивала на тряской дороге вдоль болот, стремясь догнать уходящий купол неба. Они превратились в облачко пыли, мотоциклет чадил и ревел на весь мир, но вдыхаемый ими воздух был чист, а в ушах весело посвистывал ветер. Они отрешились от всех и вся, выбрались за пределы человечества, и даже если бы внезапно нагрянула смерть, они продолжали бы гнаться за убегающим горизонтом. Позади остались башня, город Эли, а впереди – все то же небо, оно наконец-то посветлело, словно возвещая близость моря. Направо, еще раз направо, налево, снова направо – все, чувство направления было потеряно. Что-то в машине хрюкнуло, заскрежетало. Морис не обратил внимания. Но скрежет усилился, будто в моторе застучали мелкие камушки. Аварии не произошло, но машина остановилась – среди мрачных, почерневших полей. Послышалось пенье жаворонка, пыль за их спинами потихоньку улеглась. Они были одни.
– Пообедаем, – предложил Клайв.
Они перекусили на поросшей травой обочине. Под ними тянулась насыпь, вдоль которой медленно, недвижно текли воды канала, отражая выстроившиеся шеренгой ивы. Пейзаж был творением рук человеческих, но самого человека нигде не было видно. Покончив с трапезой, Клайв решил: надо позаниматься. Он разложил книги… и через десять минут спал крепким сном. Морис растянулся у воды и лежал, покуривая. Вскоре появился крестьянин на телеге, и Морис подумал: надо бы спросить, какое это графство. Но ничего спрашивать не стал, да и крестьянин его словно не заметил. Клайв проснулся только в четвертом часу.
– Скоро чайку захочется, – пробормотал он.
– Захочется. Починить этот дурацкий драндулет сможешь?
– Попробую… там что-то заклинило? – Он зевнул и подошел к машине. – Нет, Морис, это я не потяну. А ты?
– Едва ли.
Они нежно потерлись щеками – и расхохотались. Им стало до чертиков смешно – угробили мотоциклет! К тому же дедушкин подарок! Так он откликнулся на двадцать первый день рождения Мориса.
– Оставим его здесь и пойдем пешком, – предложил Клайв.
– Давай, никто ему ничего не сделает. А в коляску запихни куртки и все прочее. И очки Джои туда же.
– А книги?
– И книги.
– Разве вечером они не понадобятся?
– Ну, не знаю. Сейчас самое главное – чай. Если пораскинуть мозгами – что ты хихикаешь? – дорога вдоль насыпи, скорее всего, и приведет нас к какому-нибудь бару.
– Этой водой они разбавляют свое пиво!
Морис двинул его под ребра, и минут десять они носились среди деревьев, дурачились и, пыхтя, волтузили друг друга. Потом утихомирились и, стоя рядом, попробовали оценить обстановку. Спрятав мотоциклет в шиповнике, наконец отправились в путь. Клайв взял с собой тетрадь, но, как вскоре выяснилось, напрасно – канал разветвлялся.
– Придется перейти вброд, – решил он. – Если пойдем в обход, вообще неизвестно куда придем. Надо двигаться строго на юг, понимаешь?
– На юг так на юг.
Такой уж выдался день: кто бы из них что ни предлагал, другой обязательно соглашался. Клайв снял туфли, носки, закатал брюки. Ступил на коричневую поверхность насыпи – и, съехав вниз, исчез под водой. Потом появился – оказалось, пришлось плыть.
– Представляешь! – фыркнул он, вылезая. – Я думал, тут мелко. А ты?
– Раз такое дело, – воскликнул Морис, – надо как следует искупаться!
И, оставив одежду Клайву, нырнул в воду. На поверхности резвились солнечные блики. Переплыв на другую сторону, друзья скоро добрались до фермы.
Хозяйка оказалась женщиной негостеприимной и неприветливой, но потом они вспоминали ее самыми добрыми словами – «просто чудо»! В конце концов она напоила их чаем и позволила Клайву посушиться возле огня в кухне. «Платите, сколько не жалко», – сказала она и в ответ на их щедрость недовольно заворчала. Но ничто не могло испортить им настроение. Радостью оборачивалось буквально все.
– До свидания, огромное вам спасибо, – поблагодарил Клайв. – А если кто из ваших наткнется на мотоциклет… даже не знаю, как поточнее объяснить, где мы его оставили. В общем, вот визитка моего друга. Кто найдет, пусть прикрепит ее к мотоциклету и отвезет его на ближайшую станцию. Что-то в этом роде. А уж начальник станции даст нам знать.
До станции пришлось топать около пяти миль. Когда они добрались до нее, солнце уже садилось, и в Кембридж они вернулись после ужина. Эта последняя часть их приключения прошла чудесно. По какой-то причине поезд оказался набит битком, и они сидели рядышком, шушукались под перестук колес и рокот голосов, улыбались друг другу. Но расстались спокойно, никак не проявляя свои чувства, сказать что-нибудь особенное желания не возникло. Вроде бы день как день, и все-таки в их жизни такого еще не было – и повториться ему тоже не суждено.
14
Декан вызвал Мориса к себе.
Особая строгость не была свойственна мистеру Корнуоллису, да и больших грехов за Морисом не водилось, но оставлять без внимания столь вопиющее нарушение дисциплины – тоже не дело.
– Почему вы не остановились, Холл, когда я вас окликнул?
Холл не ответил, даже не сделал вид, что ему неловко. В глазах его тлел недобрый огонь, и мистер Корнуоллис, весьма этим недовольный, однако же понял: ему противостоит мужчина. Он даже смутно о чем-то догадывался, хотя на лице его не дрогнул ни один мускул.
– Вчера вы пропустили богослужение, четыре лекции, включая мой урок по переводу, не были на ужине. Вы и раньше позволяли себе такое. Зачем же в придачу еще и вести себя дерзко? Что скажете? Не хотите разговаривать? Что ж, вам придется поехать к вашей матушке и сообщить ей, почему вы вернулись. И я ей об этом сообщу. Пока не напишете письмо с извинениями, я не буду рекомендовать директору допускать вас к занятиям в октябре. Поезд отходит в двенадцать часов.
– Хорошо.
Мистер Корнуоллис жестом велел ему выйти.
Дарема наказывать он не стал вовсе. Тому предстояли экзамены на получение степени бакалавра с отличием, и от лекций он был освобожден. Но и прогуляй он, декан все равно не стал бы его карать – как-никак, по классическим наукам ему на курсе не было равных, особое отношение к себе он заработал. Вот и хорошо, что Холл не будет отвлекать его от занятий. К дружбе подобного рода мистер Корнуоллис всегда относился с подозрением. Когда мужчины – у каждого свои привычки, свои вкусы – вот так сближаются, это противоестественно; и хотя студентов, в отличие от школьников, принято считать людьми самостоятельными, преподаватели все-таки бдят, и если где-то вспыхивает костер пылкой дружбы, они по возможности стараются его загасить.
Клайв помог Морису собрать вещи, проводил его до станции. Боясь огорчить друга, все еще ходившего гоголем, он почти ничего не говорил, хотя сердце его сжималось. Он учился последний семестр – остаться здесь на четвертый год мама не позволит, – а это означало, что встретиться с Морисом в Кембридже ему больше не суждено. Их любовь принадлежала Кембриджу, в частности их комнатам, и Клайв даже думать не мог о встречах в другом месте. Лучше бы Морис не вел себя с деканом так вызывающе. Впрочем, что теперь об этом говорить? И еще обидно, что мотоциклет с коляской потерялся. В его сознании он был связан с яркими событиями: напряженной атмосферой на теннисном корте, немыслимой радостью вчерашнего дня. При езде на мотоциклете их объединял единый порыв, они были близки друг к другу как никогда. Мотоциклет сыграл важную роль, стал местом их встречи, на нем они поняли, что означает воспеваемое Платоном единство. И вот этих колес нет… Когда увозивший Мориса поезд тронулся, заставив их расцепить руки, Клайв не сдержался… вернувшись к себе в комнату, он написал письмо, полное страсти и отчаяния.
Морис получил это письмо на следующее утро. Оно довершило то, что было начато его семьей, и в бессильной злобе он сжимал кулаки, грозя всему миру.
15
– Не буду я извиняться, мама, я же вчера объяснил – извиняться не за что. Они не имели права меня отправлять, потому что лекции прогуливают все. Это он просто по злобе, кого хочешь спроси… Ада, я тебя просил принести кофе, а не воду.
– Морис, – всхлипнула сестра, – ты так огорчил маму. Как можно быть таким бесчувственным, таким бессердечным?
– Во всяком случае, не нарочно. Не понимаю, при чем тут бесчувственность? Раз так вышло, займусь бизнесом, как отец, чем раньше – тем лучше. А их дурацкие дипломы никому не нужны. Обойдемся.
– Отца мог бы оставить в покое, – возразила миссис Холл. – Вот уж кто не был таким ершистым! Морри, дорогой, мы так надеялись, что ты закончишь Кембридж.
– Хватит вам причитать, – заявила Китти, решив сработать тонизирующим средством. – А то Морис прямо раздулся от важности. Только важничать ему нечего: едва вы от него отстанете, он сразу напишет декану.
– И не подумаю. Ни за что, – жестко парировал брат.
– Почему? Не понимаю.
– Маленькие девочки много чего не понимают.
– Еще как понимают!
Он взглянул на нее. Но она сказала лишь, что разбирается в жизни гораздо больше некоторых маленьких мальчиков, которые вообразили себя мужчинами. Она просто болтала языком, и страх вперемешку с уважением, шевельнувшийся было в нем, тут же сошел на нет. Извиняться он не будет – и точка. Ничего дурного он не сделал и каяться попусту не станет. Впервые за много лет он попробовал на вкус честность, а честность – вещь заразная. Он решил, что впредь будет проявлять стойкость и отринет всякие компромиссы, главное – его отношения с Клайвом, а все, что идет с этими отношениями вразрез, – побоку! И письмо Клайва привело его в ярость. Любовник, наделенный здравым смыслом, извинился бы перед деканом и вернулся, чтобы успокоить, утешить друга… но эта глупость объяснялась пылкой страстью, которой требовалось либо все, либо ничего.
Между тем женщины продолжали причитать и лить слезы. В конце концов он не выдержал, поднялся и сказал:
– Под такой аккомпанемент мне кусок в горло не лезет.
И вышел в сад. Матушка пошла за ним с подносом. Сама ее безропотная нежность привела его в ярость – у человека, который влюблен, кровь в жилах закипает быстро. Ей бы только сюсюкать да подкармливать его, другой заботы нет. Но ей лишь хотелось, чтобы он был с ней понежнее.
Она спросила: неужели она не ослышалась и он действительно не собирается извиниться? Что скажет дедушка? Тут же выяснилось, что дедушкин подарок на день рождения валяется где-то возле дороги в Восточной Англии. Тут она всерьез обеспокоилась – потеря мотоциклета была для нее более осязаема, чем потеря степени. Не понравилось это и девочкам. Они оплакивали мотоциклет все утро, и хотя Морис всегда мог цыкнуть на них или услать подальше вместе с их стенаниями, он чувствовал: их назойливая близость может высосать из него все силы, как это случилось во время пасхальных каникул.
Под вечер на него накатило отчаяние. Ведь они с Клайвом пробыли вместе всего один день! И весь этот день дурачились – вместо того, чтобы провести его в объятиях друг друга! Морис не понимал, что тот день был прекрасен именно легкостью и бесшабашностью, ему еще не дано было уразуметь, что объятия ради объятий – вещь банальная. Даже сдерживаемый другом, он бы пересолил со страстью. Только позже, когда у его любви открылось второе дыхание, он понял, какую услугу тогда оказала им судьба. Одно объятие во тьме, один долгий день под солнцем и ветром – это были парные колонны, бесполезные одна без другой. И мука от переживаемой им сейчас разлуки была не разрушающей силой, она была силой созидающей.
Он попробовал ответить Клайву. И сразу испугался – вдруг в его письме зазвучат фальшивые ноты? Вечером он получил второе письмо, всего несколько слов: «Морис! Я люблю тебя». Он ответил: «Клайв, я люблю тебя». Они стали писать друг другу каждый день и, сами того не ведая, наполнили друг другу сердца новыми образами. Ведь письма искажают истину еще легче, чем молчание. Клайв перепугался – неужели что-то случилось? Перед экзаменом ему удалось вырваться, и он примчался в город. Морис встретился с ним за ленчем. Лучше бы этой встречи не было. На плечи каждого давила усталость, к тому же они выбрали ресторан, где нельзя было услышать звук собственного голоса. Расставаясь, Клайв сказал, что ожидал от этой встречи большего. А у Мориса словно камень с души свалился. Он заставил себя поверить, что все у них хорошо… на самом деле страдания его только усилились. Они договорились: впредь писать лишь о фактах, да и то если есть что-то срочное. Все это время в голове у Мориса царил невероятный хаос, а тут эмоциональная нагрузка спала, и после нескольких бессонных ночей он исцелился. Но в каждодневной жизни ему похвастаться было нечем.