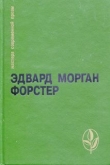Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эдвард Морган Форстер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
ЧАСТЬ III
Отчужденные
В годы, последовавшие за побегом Куно, с Машиной произошло два важных события. Внешне они могли показаться неожиданными, но в обоих случаях людей давно готовили к ним исподволь, и события эти только выразили уже наметившиеся тенденции.
Сначала были отменены респираторы.
Передовые мыслители, к числу которых принадлежала Вашти, всегда считали глупыми экскурсии на поверхность земли. Воздушные корабли, пожалуй, могут еще пригодиться, но что хорошего в том, чтобы из простого любопытства лезть наверх, а потом еще несколько миль тащиться в наземном автомобиле? Этот обычай был вульгарен и даже немного неприличен. Он ничего не давал в смысле новых идей и не имел никакого отношения к истинно важным обычаям. Итак, респираторы были отменены, а с ними, разумеется, и наземные автомобили. Постановление было принято спокойно, ворчали только немногочисленные лекторы, которым был теперь закрыт доступ к материалу для их лекций. Но ведь те, у кого сохранилось еще желание знать, как выглядит Земля, могли послушать мофон или посмотреть кинематофото. В конце концов даже лекторы примирились с положением дел, так как обнаружили, что лекция о море будет ничуть не менее действенна, если ее составить из других, уже прочитанных на эту же тему лекций.
– Остерегайтесь идей из первых рук! – провозгласил один из самых передовых лекторов. – Идей из первых рук вообще не существует. Они – всего лишь физические ощущения, порожденные страхом или желанием; а разве можно построить философию на столь грубом фундаменте? Пусть ваши идеи будут из вторых, а еще лучше – из десятых рук, чтобы они как можно дальше отстояли от такого сомнительного элемента, как личное наблюдение. Не старайтесь что-нибудь узнать о предмете моей лекции – о Французской революции. Достаточно будет, если вы узнаете, что я думаю о том, что Энихармон думал о том, что думал Юрайзен о том, что думал Гатч о том, что думал Хо-Юнь о том, что думал Чи-Бо-Син о том, что Лафкадио Хёрн думал о том, что Карлейль думал о том, что сказал Мирабо о Французской революции. Пройдя через эти восемь великих умов, кровь, пролитая в Париже, и окна, разбитые в Версале, сублимируются в идею, которую вы сможете с успехом применить в повседневной жизни. Но сперва обеспечьте многочисленных и разнообразных посредников, ибо в истории один авторитет существует для того, чтобы нейтрализовать другой. Юрайзен нейтрализует скепсис Хо-Юня и Энихармона, а я нейтрализую энтузиазм Гатча. Вы, слушающие меня, сможете уже лучше судить о Французской революции, чем я. А ваши потомки окажутся в еще лучшем положении, потому что они узнают, что вы думали о том, что думаю я. К цепи посредников прибавятся новые. И наступит время, – он возвысил голос, – когда появится поколение, которое отрешится от фактов, отрешится от чувственных впечатлений, – поколение совершенно бесцветное, поколение «ангельски чистым ставшее, себя из себя изгнавшее», поколение, которое увидит Французскую революцию не такой, какой она была, и не такой, какой они хотели бы ее видеть, а такой, какою бы она могла быть, если бы свершилась в эпоху Машины.
Оглушительные аплодисменты приветствовали эту лекцию: лектор выразил вслух мысль, уже таившуюся в людских умах, – мысль, что все наземное надо отвергнуть и что отмена респираторов – положительный шаг на этом пути. Кое-кто даже предложил упразднить воздушные корабли. Предложения эти не были проведены в жизнь, так как корабли стали уже неотъемлемой частью Машины. Но год от году на кораблях летали все реже, и мыслящие люди все реже говорили о них.
Вторым важным событием было восстановление религии. И это также нашло свое отражение в упомянутой выше знаменитой лекции. Ни от кого не ускользнуло значение благоговейного тона, с каким была произнесена заключительная часть речи. Он пробудил отклик в сердцах всех слушателей. Те, кто поклонялся Машине втайне, начали поклоняться явно. Они описывали неизъяснимое чувство покоя, нисходившего на них уже от одного прикосновения к Книге Машины, удовольствие от повторения определенных цифр из этой Книги, хотя, быть может, для постороннего уха эти цифры значили очень мало; они описывали восторг, охватывавший их, когда они нажимали любую, самую маловажную кнопку или звонили в электрический звонок, даже если это им было совсем не нужно.
– Машина, – восклицали они, – кормит нас, одевает и дает нам приют. Через нее мы говорим друг с другом, через нее видим друг друга, в ней обретаем свое бытие. Машина – друг идей и враг предрассудков. Машина всемогуща и вечна. Будь благословенна, Машина!
И вот прошло немного времени, и эта речь была напечатана на первой странице Книги, а в последующих изданиях ритуал разросся в сложную систему молитв и славословий. Термина «религия» старательно избегали, так как в теории Машина по-прежнему считалась творением и орудием человека. Но фактически все, за исключением некоторых ретроградов, поклонялись ей как божеству. Ее почитали не как нечто единое. Один из верующих поклонялся голубым зрительным пластинкам, с помощью которых он видел прочих верующих; другой – Ремонтирующему Аппарату, который грешник Куно уподобил червям; третий поклонялся лифтам; четвертый – Книге. И каждый обращал молитвы к своему божку, надеясь с его помощью заручиться благоволением Машины в целом. Возникли также гонения на неверующих. Они не были гласными по причинам, о которых речь впереди. Но в скрытом виде они существовали, и все те, кто не признавал минимума, получившего название «Системы без уклонений», жили под угрозой Отчуждения, означавшего, как мы уже знаем, смерть.
Приписать эти две великие реформы Центральному Совету значило бы дать весьма ограниченное представление о цивилизации. Центральный Совет, правда, объявил о свершившемся, но был повинен в нем не более, чем монархи эпохи империализма были повинны в войнах. Он скорее подчинялся некоему неодолимому давлению, исходившему неизвестно откуда, а каждая его уступка сопровождалась новым нажимом, в равной степени неодолимым. Такое положение вещей обычно ради удобства именуют прогрессом. Никто не решался признаться, что Машина давно вышла из повиновения. Год за годом ее обслуживали со все большим искусством и все с меньшим разумением. Чем лучше человек знал свои обязанности по отношению к Машине, тем хуже понимал, в чем заключаются обязанности его соседа. Во всем мире не было никого, кто представлял бы себе устройство громадины в целом. Те выдающиеся умы, которые отдавали себе в этом отчет, давно умерли. Они, правда, оставили после себя многочисленные инструкции, и их преемники справлялись каждый со своей частью инструкций. Но человечество в своем стремлении к комфорту перешло всякие границы. В своей эксплуатации природных богатств оно зашло слишком далеко. Теперь оно тихо и самодовольно вырождалось. Прогресс стал означать прогресс Машины.
Тем временем жизнь Вашти мирно шла своим чередом, пока не разразилась окончательная катастрофа. Вашти выключила свет и спала. Она просыпалась и включала свет. Она читала лекции и слушала их. Она обменивалась мыслями с бесчисленными друзьями и верила в свой духовный рост. Время от времени кому-нибудь из ее друзей дарили Легкую Смерть, и он или она покидали свою комнату ради Отчуждения, непостижимого для человеческого разума. Вашти это не особенно огорчало. После неудачной лекции она и сама не раз просила Легкой Смерти. Но смертность не должна была превышать рождаемость, и Машина до сих пор отказывала Вашти в просьбе.
Неприятности начались незаметно, задолго до того, как Вашти осознала их. Однажды, к своему удивлению, она услышала вызов сына. Она не поддерживала с ним никакой связи, не имела с ним ничего общего и только стороной слышала, что он еще жив и переселен из северного полушария, где так недостойно вел себя, в южное; его комната находилась неподалеку от комнаты Вашти.
«Неужели он опять хочет, чтобы я посетила его? – подумала она. – Нет, ни за что. Да у меня и времени нет».
Нет, теперь безумие его приняло иную форму. Он не пожелал показаться на голубой пластинке и говорил из темноты. Он сказал торжественно:
– Машина останавливается.
– Что такое ты говоришь?
– Машина останавливается. Я знаю это, я вижу признаки.
Она громко рассмеялась. Он услышал, рассердился и замолчал. Больше они не разговаривали.
– Можете себе представить такую нелепость? – сказала она какому-то знакомому. – Человек, который был моим сыном, считает, что Машина останавливается. Если бы это говорил не помешанный, его слова были бы кощунством.
– Машина останавливается? – переспросил знакомый. – Что это значит? Я не улавливаю смысла.
– Я тоже.
– Вряд ли он говорит о неполадках с музыкой, которые так всем мешают в последнее время?
– Нет, конечно, нет. Давайте поговорим о музыке.
– А вы заявили властям?
– Да, мне ответили, что требуется ремонт, и просили обратиться в Комитет Ремонтирующего Аппарата. Я пожаловалась на непонятные звуки, похожие на прерывистые вздохи, точно от боли. Они уродуют симфонии брисбенской школы. Комитет Ремонтирующего Аппарата обещал срочно все исправить.
Она продолжала жить как всегда, но почему-то испытывала неясную тревогу. Во-первых, дефект в музыкальных передачах раздражал ее, а во-вторых, она не могла забыть слова Куно. Если бы он знал, что Музыкальный Аппарат вышел из строя… Он, разумеется, не мог это знать: он терпеть не может музыки. Но если бы он знал об этом, то сделал бы именно такое ядовитое замечание: «Машина останавливается». Он сказал это, конечно, наобум, но совпадение обеспокоило ее; на этот раз она разговаривала с Комитетом Ремонтирующего Аппарата довольно раздраженно. Ей, как и раньше, ответили, что неисправность скоро будет ликвидирована.
– Скоро! Сейчас же! – возразила она. – Почему мой слух должен страдать от испорченной музыки? Неполадки всегда исправлялись сразу. Если вы не возьметесь за дело немедленно, я обращусь в Центральный Совет.
– Центральный Совет не принимает индивидуальных жалоб, – ответили ей.
– Тогда через кого же я должна жаловаться?
– Через нас.
– Ну так я жалуюсь.
– Ваша жалоба будет передана, когда наступит ее очередь.
– Значит, другие жаловались тоже?
Вопрос был нетехничным, и Комитет Ремонтирующего Аппарата не ответил.
– Это невыносимо, – сказала Вашти знакомой. – Нет женщины несчастнее меня. Теперь, когда хочешь послушать музыку, не знаешь, чего ожидать. С каждым разом она становится все хуже и хуже.
– У меня тоже неприятности, – ответила знакомая. – Иногда мои мысли нарушает какой-то скребущий звук.
– Что же это такое?
– Не знаю, не могу понять, где он – у меня в голове или в стене.
– Непременно заявите об этом.
– Я заявляла. Мою жалобу передадут в Центральный Совет, когда до нее дойдет очередь.
Время шло. Недостатки больше не вызывали возмущения. Правда, их не устранили, но человеческий организм за последнее время стал таким покорным, что без труда приспосабливался ко всем причудам Машины. Вздохи во время кульминации брисбенской симфонии больше не раздражали Вашти. Она воспринимала их как часть мелодии. Скребущий звук не то в стене, не то в голове больше не возмущал ее знакомую. Так же обстояло дело и с заплесневелыми искусственными фруктами, и с протухлой водой в ванне, и с плохими рифмами, которые выпускал Поэтический Аппарат. На все это сначала горько жаловались, потом примирились с этим и забыли. Дела шли все хуже и хуже, и никто не пытался задержать ход событий.
Куда серьезнее было то, что отказал Спальный Аппарат. Настал день, когда во всем мире – на Суматре, в Уэссексе, в бесчисленных городах Курляндии и Бразилии – кровати перестали являться по требованию усталых владельцев. Как ни смешно, но этот факт следует считать началом упадка человеческого рода. Комитет, отвечавший за исправность подачи кроватей, отсылал, как обычно, недовольных в Комитет Ремонтирующего Аппарата, а тот, в свою очередь, заверял, что жалобы будут переданы в Центральный Совет. Но недовольство росло, так как человечество еще не приспособилось к тому, чтобы обходиться без сна.
– Кто-то препятствует работе Машины… – начинал один.
– Кто-то вздумал заделаться монархом, возродить единоличную власть, – подхватывал другой.
– Покарать его Отчуждением!
– На помощь! Отомстите за Машину! Отомстите за Машину!
– Объявите войну! Убейте его!
Тогда выступил Комитет Ремонтирующего Аппарата и прекратил панику несколькими обдуманными словами. Он признал, что Ремонтирующий Аппарат сам нуждается в починке. Эффект такого откровенного признания был поистине магическим.
– Разумеется… – заявил знаменитый лектор, тот самый, который произнес речь о Французской революции, а теперь с ораторским блеском оправдывал каждый новый изъян Машины, – разумеется, отныне мы прекратим наши надоедливые жалобы. Ремонтирующий Аппарат так хорошо до сих пор справлялся с работой, что мы сочувствуем ему и будем терпеливо ждать его выздоровления. Он не замедлит вернуться к своим обязанностям. А пока попробуем обойтись без кроватей, без таблеток и других мелких удобств. Этого, я уверен, от нас хочет Машина.
На расстоянии тысяч миль слушатели ответили аплодисментами. Машина все еще связывала людей. Глубоко под морями и горами проходили провода, с помощью которых люди видели и слышали, – огромные глаза и уши, доставшиеся им по наследству. Гул множества механизмов обволакивал их мысли единым покровом покорности. Лишь старые и больные не проявляли благодарности, так как прошел слух, будто Легкая Смерть тоже вышла из строя и снова воскресла боль.
Стало трудно читать. Мгла проникла в атмосферу, и освещение потускнело. Иногда Вашти с трудом различала стены своей комнаты. Воздух загрязнился. Еще громче стали жалобы, еще безуспешнее – попытки борьбы с неисправностями, еще проникновеннее – тон лектора, провозглашавшего:
– Мужайтесь, мужайтесь! Машина работает, все остальное не страшно. Она работает и со светом, и без.
Хотя через некоторое время повреждения были исправлены, былое великолепие не восстановилось, и человечество так и не смогло выйти из сумерек. Началась истерическая болтовня о «мерах предосторожности», о «превентивной диктатуре»; обитателям Суматры предложили на всякий случай ознакомиться с работой центральной силовой установки, расположенной во Франции. Однако большинство было охвачено паникой, и люди растрачивали силы, молясь Книге, зримому воплощению всемогущества Машины. Страх то усиливался, то ослабевал. Иногда проходил слух, что еще есть надежда, что Ремонтирующий Аппарат почти исправлен, с врагами Машины покончено, создаются новые «Нервные центры», которые будут работать еще лучше, чем прежние. Но наступил день, когда совершенно неожиданно, без всяких предварительных сигналов, система коммуникаций во всем мире разом распалась и мир, в понимании людей той эпохи, перестал существовать.
Вашти в это время читала лекцию; ее предыдущие высказывания сопровождались аплодисментами, но постепенно слушатели затихли, а когда она кончила, последовало полное молчание. Немного недовольная, Вашти вызвала знакомого – специалиста по отзывчивости; в ответ ни звука. Очевидно, знакомый спал. Так же неудачна была попытка связаться с другим знакомым, и еще с одним… Наконец она вспомнила загадочные слова Куно: «Машина останавливается».
Фраза все еще не доходила до ее сознания. Если бы даже вечность остановилась, ее, несомненно, скоро опять привели бы в движение. К тому же оставалось еще немного света и воздуха; несколько часов назад атмосфера даже улучшилась. С Вашти по-прежнему Книга, а пока есть Книга, есть и уверенность.
Но очень скоро нервы ее не выдержали, так как с прекращением работы механизмов неожиданно наступила ужасающая тишина. Вашти никогда не знала ее, и теперь внезапная тишина едва ее не убила (а много тысяч людей она убила наповал). С самого рождения Вашти окружал непрерывный гул Машины. Он стал для уха тем же, чем искусственный воздух для легких, и сейчас острая мучительная боль пронзила ее мозг. Почти не сознавая, что делает, Вашти шагнула вперед и нажала непривычную кнопку, ту самую, которая открывала дверь. Надо сказать, что двери комнат не соединялись с центральной силовой установкой, угасавшей где-то во Франции, – каждая открывалась и закрывалась с помощью собственного механизма. Дверь отворилась, и это возбудило в Вашти неумеренные надежды: она решила, что Машина исправлена. Вашти увидела тускло освещенный туннель, уходивший вдаль, к свободе. Увидела – и отпрянула, потому что туннель был полон людей: Вашти одной из последних в городе поняла, что случилось неладное.
Люди и всегда вызывали в ней отвращение, а сейчас они показались ей порождением какого-то чудовищного кошмара. Они ползли в полумраке, кричали, стонали, задыхались, сталкивались, терялись во тьме и то и дело падали с платформы на рельсы, находившиеся под током. Одни толпились у электрических звонков, отталкивая друг друга, пытаясь вызвать поезд, который уже нельзя было вызвать. Другие вопили, требуя Легкой Смерти или респираторов или проклиная Машину. Третьи стояли в дверях своих ячеек, не зная, как и Вашти, оставаться там или выйти в туннель, – страшась того и другого. А за всем этим хаосом звуков притаилась тишина – истинный голос Земли и ушедших поколений.
Нет, это хуже одиночества! Вашти снова закрыла дверь, села и стала ждать конца. Разрушение продолжалось, сопутствуемое оглушительным треском и грохотом. Створки, придерживавшие Медицинский Аппарат, должно быть, ослабли; он провалился между ними и безобразно свисал с потолка. Пол вдруг поднялся и опустился, сбросив Вашти с кресла. Откуда-то медленно возникла трубка и по-змеиному протянулась к ней. И, наконец, нависла последняя грозная опасность: начал угасать свет. И тогда Вашти поняла, что долгому дню цивилизации пришел конец.
Она закружилась на месте, нажимая кнопку за кнопкой, целуя Книгу, моля уберечь ее от этого последнего несчастья. Шум за стеной усилился настолько, что даже проник в комнату. Мало-помалу свет потускнел, с металлических выключателей исчезли блики. И вот уже Вашти не видит пюпитра, вот она уже не может читать Книгу, хотя держит ее у самых глаз. Свет унесся вслед за звуком, воздух последовал за светом, и наконец-то первозданная пустота заполнила вместилище, из которого была так надолго изгнана. Вашти все кружилась и кружилась, словно фанатик древних времен в религиозном экстазе, – вскрикивая, молясь, ударяя по кнопкам кровоточащими руками. Случайно она открыла дверь своей тюрьмы и вырвалась из нее – вырвалась душой, так по крайней мере представляется все это мне к концу моих раздумий. Вырвется ли она телом – этого мне предвидеть не дано. Нечаянно она задела кнопку, открывавшую дверь, и спертый воздух, дохнувший ей в лицо, громкий, прерывистый шепот сказали ей, что перед нею снова туннель и та ужасная платформа, по которой метались люди. Теперь они больше не метались. Слышны были только шепот и слабые стоны. Там, в темноте, умирали сотни людей.
Вашти расплакалась.
В ответ она услышала чей-то плач.
Они плакали не о себе, эти двое, – они плакали о человечестве. Они не могли примириться с тем, что это конец. Еще до того, как наступила полная тишина, сердца их раскрылись. Они поняли, что важнее всего на свете. Человек, цвет всего живущего, благороднейшее из видимых созданий, человек, который некогда создал Бога по своему образу и подобию и воплотил в нем свою силу, вознес его к звездам, – этот прекрасный нагой человек теперь умирал, задохнувшись в сотканных им самим одеждах. Он трудился век за веком, и вот какова была ему награда. Правда и то, что одежды сперва казались ему дивными, они переливались красками культуры, они были затканы нитями самоотречения. Они и были дивными, эти одежды, пока оставались только одеждами, пока человек мог сбросить их, когда хотел, и жить той сущностью, которая есть душа, и другой, столь же божественной сущностью, которая есть его тело. Преступление против плоти – вот о чем плакали эти двое, о веках зла, причиненного мышцам и нервам и тем пяти чувствам, с чьей помощью мы воспринимаем мир, о столетиях зла, до тех пор прикрывавшегося болтовней об эволюции, пока тело не сделалось рыхлой, бледной массой, обиталищем бесцветных идей и последних вялых движений духа, когда-то достигавшего звезд.
– Где ты? – простонала она.
Голос из темноты произнес:
– Здесь.
– Есть еще надежда, Куно?
– Для нас – нет.
– Где ты?
Она пробралась к нему через мертвые тела. Кровь его обрызгала ей руки.
– Скорее, – выдохнул он, – я умираю. Но мы касаемся друг друга, мы говорим не через Машину.
Он поцеловал ее.
– Мы вернулись к самим себе. Мы умираем, но мы вернулись к той жизни, какая была в Уэссексе, когда Альфред победил датчан. Мы знаем то, что знают люди, живущие в облаке жемчужного цвета.
– Неужели это правда, Куно? Неужели на поверхности земли еще есть люди? А этот туннель, отравленный мрак – значит, это еще не конец?
Он ответил:
– Я видел их, говорил с ними, любил их. Они прячутся в тумане и папоротниках и ждут, когда прекратится наша цивилизация. Сегодня они Отчужденные, но завтра…
– А завтра… завтра какой-нибудь глупец снова пустит в ход Машину.
– Никогда, – сказал Куно, – никогда. Человечество получило хороший урок.
Едва он произнес эти слова, как весь город развалился, словно пчелиные соты. Воздушный корабль влетел в туннель и приземлился на разрушенную площадку. Он рухнул вниз, сокрушая одну галерею за другой своими стальными крыльями. И в самом низу взорвался. На какое-то мгновение перед Вашти и Куно предстали многие поколения мертвых, но, прежде чем присоединиться к ним, они увидели в проломах безоблачное небо.