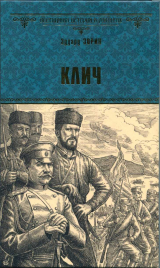
Текст книги "Клич"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
– Вы дальше, дальше читайте, – поймал генерал-губернатор изумленный взгляд Ивана Львовича.
"В то время как лучшие из лучших представителей отечественной интеллигенции отдаются делу освобождения народа, князь Долгоруков, тоже именующий себя русским интеллигентом, со спокойной совестью пьет подаваемый ему по утрам в постель кофий и разглагольствует о справедливости, утверждая между двумя сигарами приговоры на ссылку и каторгу людям во сто крат его порядочнее и достойнее, но не имеющим возможности подкрепить свои достоинства столь же древней родословной… Распоряжаясь целой сворой полукрепостных слуг, спешащих с рабской готовностью исполнить любую прихоть своего высокородного хозяина, князь изображает из себя либерала и друга униженных и оскорбленных. Но внешность обманчива. Милейший генерал-губернатор, как и все его предки, которыми он так гордится и благодаря которым вознесся столь высоко на государственной службе, был и остался обыкновенным русским барином, и французский лоск, и английские обычаи, и славянская широта души – не более как чужие атрибуты, за которыми легко угадывается хищная физиономия бездушного угнетателя и эксплуататора…"
– Чушь какая-то, – пробормотал Иван Львович и удрученно посмотрел на Долгорукова.
– Чушь?.. Заблуждаетесь, далеко не чушь, – сказал князь. – Такие методы действуют безотказно. Кто поручится, что все в этой статейке гнусная ложь? Согласитесь, что там, где искусно переплетены правда и вымысел, всегда остается местечко для сомнительных размышлений. – Долгоруков помолчал, вертя в руке золотую табакерку. – Меня уверяли, – продолжал он, неприязненно рассматривая Ивана Львовича, – что с арестом господина Долгушина всякая возможность продолжения кем бы то ни было преступной деятельности в Москве исключена и что типография, которая так счастливо была раскрыта, навсегда прекратила свое существование.
– Но это действительно так, князь.
– Следовательно, доставленный мне документ, – Долгоруков постучал ногтем по столу, – свалился с неба?
Генерал смущенно промолчал.
– Такое объяснение, как вы понимаете, меня не устраивает, – взорвался князь. – Должен вам заметить, милейший Иван Львович, что ваше ведомство в последнее время работает из рук вон плохо и положение в Москве далеко не столь благополучно, как это явствует из ваших донесений. Да будет вам известно, что предполагаемая близость войны возбудила к жизни не только патриотические чувства… В конце концов я решительно требую, чтобы вы незамедлительно водворили спокойствие в Первопрестольной.
Иван Львович вернулся в свой кабинет в совершенно испорченном настроении. Генерал-губернатор вел себя с ним недопустимо грубо («Есть, есть правда в этом паршивом листке, – подумал Слезкин, нервно перебирая на столе скопившиеся за день бумаги. – Экий, право, индюк!»), но выработанная с годами счастливая привычка к повиновению помогла ему тотчас же взять себя в руки: как бы то ни было, но генерал-губернатор был прав, и это следовало признать без оговорок. В какой бы форме он ни выразил своего неудовольствия, гнусный листок существовал и жег генералу руки.
А виноват в этом больше всего был он сам. Но не мог же Слезкин признаться князю, что давно уже знает о существовании печатного станка и до сих пор не брал конспираторов, чтобы накрыть их всех разом!..
Иван Львович выдвинул ящик стола и достал донесение своего агента.
"Имею честь доложить вашему высокопревосходительству, – писал агент, – что вышеозначенные господа приобрели у какого-то негоцианта подержанный печатный станок и намерены оборудовать типографию для свободного размножения противуправительетвенных изданий. Цель их поистине чудовищна: всеми силами, а паче сочинением сомнительных листков, возбудить в обществе недоверие к высокопоставленным особам, дабы тем самым подготовить оное к мысли о необходимости изменения существующего государственного устройства. Произношу слова сии с трепетом и молю Бога и вас, ваше высокопревосходительство, о пресечении их преступной деятельности. О местонахождении станка мною доложено начальнику Арбатской части, по до сих пор никаких распоряжений не получено и, в чем должно заключаться мое участие, мне не разъяснено…"
Донесение было датировано августом, и весь прошлый месяц никаких сообщений о работе типографии не поступало. Станок бездействовал, но тем не менее его ни на минуту не упускали из виду. Слезкин успокоился: под столь надежным присмотром ни о каких неожиданностях не могло быть и речи. Оставалось лишь выявить весь круг корреспондентов, которые неизбежно слетятся к станку, как мухи на сладкое…
И вот – этот листок. Появление его – и не где-нибудь, а в кабинете самого генерал-губернатора – было как удар грома среди ясного неба.
Сейчас, когда репутация Слезкина была на волоске (Долгоруков не бросал слов на ветер), Иван Львович не видел иного для себя выхода, как немедленно представить князю вещественные доказательства своего высокого профессионализма.
В тот же день им отданы были соответствующие распоряжения…
9
Иван Дымов угнал пролетку от трактира на Сухаревке и теперь, поставив ее на углу возле аптеки, сидел на облучке, поглядывая по сторонам и нервно поеживаясь.
Добровольский с Кобышевым исчезли в подъезде большого пятиэтажного дома, в подвальном помещении которого вот уже две недели как была временно оборудована типография (какая уж там типография – один рассыпающийся на части старенький ручной станок!).
Сумасшедшая идея приобрести оборудование и шрифты принадлежала Добровольскому: Тимофей слыл человеком предприимчивым и даже сорвиголовой; чтение запрещенных цензурой книг и брошюр очень скоро ему наскучило, неудачей закончилась и попытка взбунтовать мужиков одной из подмосковных деревень – его слушали хоть и со вниманием, но туманные речи облаченного в косоворотку городского человека так и не дошли до темного сознания жителей села Блудова, что на Пекше; однажды вечером они явились вязать его, и незадачливый пропагатор едва унес ноги через выходящее на огороды окно.
"Забитый народ наш не созрел для просвещения, – убежденно говорил Тимофей, – и я вполне с теми, кто призывает начинать прямо с бунта. Нам нужна типография, чтобы возбуждать листками недовольные правительством умы. Люди должны проникнуться ненавистью к тем, кто находится на вершине власти".
Добровольский был ровесником Дымова, они оба учились на медицинском отделении Московского университета, но привычка к самостоятельности (решительно разойдясь с отцом во взглядах, Тимофей рано покинул родительский дом) как-то естественно выдвинула его на руководящую роль в кружке. Мягкий и болезненно застенчивый Иван сразу же совершенно подпал под его влияние – они были неразлучны, так что окружающие в шутку называли их одной фамилией: Добродымов. "Добродымов сказал, Добродымов подумал…" Иван не обижался за прозвище и даже гордился им, стараясь во всем подражать Тимофею; Тимофей же в свою очередь гордился тем, что обрел в лице Дымова верного товарища; он относился с уважением к завидной эрудиции сокурсника и всячески подчеркивал это, оставляя за ним безусловное первенство в вопросах теории (в практических делах он не терпел никакого соперничества).
Идея Добровольского пришлась Дымову по душе, хотя кое в чем он с ним не согласился: Тимофей полагал, что в деле их не должно быть места интеллигентской щепетильности ("Недостающие факты можно выдумать", – говорил он; Иван возражал: "Правда и только правда. Нельзя начинать святое дело со лжи"). Наедине они часто спорили, в присутствии посторонних были единодушны. В конце концов решили так: главное – начать, дальнейшее покажет, кто из них прав. Это было соломоново решение, втайне Добровольский надеялся, что со временем ему удастся переубедить Дымова: уж очень привлекательной была мысль о возможности близкого государственного переворота. Разгоряченное воображение Тимофея рисовало картины одна другой соблазнительнее.
На первых порах решено было посвятить в задуманное лишь самый узкий круг лиц. После долгих обсуждений и споров выбор пал на Аскольда Кобышева: он был давнишним и активным членом их кружка. К тому же как-то случайно Кобышев проговорился, что близко знавал Ишутина и лишь по счастливому стечению обстоятельств уцелел после повальных арестов: этого оказалось вполне достаточно, чтобы Тимофей проникся к нему особым доверием.
Сразу же была оговорена и возможность провала; к этому их обязывала печальная судьба Долгушина, угодившего на каторгу. Если типография будет раскрыта, предполагалось, что уцелевшие или все вместе (последнее было маловероятно) в тот же день покинут Москву и выедут на юг, чтобы, перебравшись через границу, примкнуть к русским волонтерам, сражающимся в Герцеговине. Помочь им в этом обещал Степан Орестович Бибиков, человек молчаливый и загадочный, несколько раз посещавший их кружок и отличавшийся основательными познаниями в экономике и самостоятельностью взглядов. Его как-то привел с собой Дымов, познакомившись с ним на одном из невинных студенческих собраний. Не вдруг и не сразу они почувствовали к нему симпатию, да судя по всему и сам Бибиков не спешил открыться перед незнакомыми молодыми людьми. Однако же, когда речь зашла о балканских делах и выяснилось, что кое-кто из членов кружка с сочувствием относится к освободительной борьбе сербов, болгар и черногорцев и видит в этом их движении часть общей борьбы против всякой тирании (в ту пору о событиях на Балканах говорили всюду и не скрывали своих взглядов), Бибиков намекнул о связях с людьми, которые, в отличие от Аксакова, видят в происходящем нечто большее, о чем не пишут в официальной печати, но что можно прочесть в газетах, запрещенных царской цензурою. Словом, Бибиков оказался именно тем человеком, которого они искали. Но далее посвящать его в свои замыслы и тем более вводить в круг единоверцев они не стали (на этом с присущей ему убежденностью настоял Тимофей).
Итак, колесо закрутилось. Долго искали станок (то, что считали самым простым, оказалось едва ли не самым трудным), Добровольский вышел на какого-то купчишку, заломившего за свой товар неслыханную цену; нещадно торговались, пока не сошлись на сорока рублях (купчишка прозрачно намекнул, что берет за риск); со всеми возможными предосторожностями отвезли свое приобретение в запущенный подвал одного из доходных домов на Петровке, где жил Тимофей. Здесь же отпечатали и первую листовку, которая уже на следующий день попала на стол московского генерал-губернатора. Однако дальше дело застопорилось: шум станка вызвал подозрение хозяина. Добровольский спустился вместе с ним в подвал, якобы для того, чтобы помочь ему выяснить причину шума, отвлек внимание от кучи хлама, под которой был спрятан станок, а наутро уже был за городом, в Кунцеве, где подыскал бесхозное строение, которое на первых порах могло стать (хотя бы до холодов) надежным убежищем для типографии…
Неожиданно припустил дождь: улица быстро опустела, на город наползали ранние сумерки. Дымов поднял воротник, защищая лицо от налетавшего порывами мокрого ветра, пальто набрякло, рысак недовольно пофыркивал и натягивал поводья.
Пока что все шло по плану: вот-вот появятся Добровольский с Кобышевым, станок займет свое место в пролетке, а там ищи ветра в поле, никому и в голову не придет обыскать припозднившихся ездоков.
И тут снизу, со стороны Столешникова переулка, показалась неторопливо и валко погромыхивающая по брусчатке одинокая карета. Дымов, напрягшись, приподнялся на облучке: карета появилась некстати, Добровольский с Кобышевым должны были выйти из подъезда с минуты на минуту.
Дождь мирно постукивал по обитому железом навесу, у кромки тротуара, пузырясь и урча, низвергался в решетку канализации неожиданно вспучившийся грязный поток.
Карета уже достигла поворота, ровный перестук копыт сменился глухим разнобоем, ободья колес подпрыгнули на брусчатке, и вдруг наступила тишина. Карета остановилась.
Все дальнейшее было настолько непредвиденно и нелепо, что Дымов даже не сразу осознал случившееся; он все еще неподвижно сидел на облучке, натянув поводья, словно и в самом деле поджидал седока. Дверь кареты распахнулась, из нее выпрыгнули двое, а с противоположной стороны улицы приближался еще один человек – в темном до пят пальто и нахлобученной на уши шляпе. Голова Дымова вдруг сразу отяжелела, сжимавшие поводья руки онемели; почувствовав послабление, лошадь тронулась, и в это мгновение из подъезда выскочил Добровольский, а вслед за ним – Кобышев. Но странная несообразность поразила в этом движении Дымова: они словно бы отделились друг от друга, и хотя оба бежали к пролетке, но один из них явно убегал, а другой столь же явно пытался его настичь.
Они были уже совсем близко, и Дымов выделил из темноты их лица: растерянное Добровольского и – хищное Кобышева. Последующее было еще несообразнее и чудовищнее: Кобышев настиг Добровольского, схватил его за плечи, и оба они покатились по мостовой; двое, выпрыгнувшие из кареты, стали помогать Кобышеву, но тут же один из них выпрямился и указал кому-то на пролетку – Дымов обернулся, дернул поводья, напуганная лошадь рванула, и незнакомец в нахлобученной на лоб шляпе, уже приподнявший было ногу, чтобы вскочить на сиденье, дернулся, закричал и упал на мостовую. Колесо переехало через что-то мягкое и круглое, пролетка задребезжала и, быстро набирая скорость, покатилась вниз к Столешникову переулку.
Недавней слабости, только что сковывавшей все тело Дымова, как не бывало. Он рвал вожжи, стегал рысака кнутом, кажется, даже кричал, но не слышал собственного голоса; пролетка свернула с освещенной Петровки в лабиринт незнакомых переулков и гулких сырых дворов. И лишь когда загнанная лошадь уткнулась в какой-то грязный и затхлый тупик со сваленными в кучу старыми бочками и разбитыми ящиками, Дымов пришел в себя и в изнеможении опустился на сиденье.
Тишина оглушила его. Во дворе было безмолвно и одиноко. По-прежнему шел дождь, ударяясь в жестяные выступы подоконников; журчала невидимая вода. Дымов сидел сгорбившись, мысли путались, его била нервная дрожь. "Только не распускаться", – подумал он.
Превозмогая слабость, Дымов вылез из пролетки, швырнул за ящики ненужный кнут и двинулся по узкой щели между домами, в конце которой брезжил едва видимый слабый свет.
Щель вывела его на пустынную площадь, за площадью вкривь и вкось расходились двухэтажные особняки, еще украшенные кое-где сохранившейся богатой лепкой, но уже давно потерявшие весь свой торжественный и внушительный вид. Скособочившись, словно бездомные старички, они обреченно мокли под осенним дождем; окна были темны, стекла кое-где выбиты, на мостовой поблескивали грязные лужи.
Поплотнее запахнувшись в пальто и озираясь, Дымов пересек площадь и свернул в ближайший переулок. Места эти, между Петровкой и Тверской, были ему хорошо известны, в конце переулка находился трактир, где по вечерам собирались ямщики, лотошники и мастеровые. Из полуподвала доносились неразборчивые пьяные голоса и фальшивые звуки гармоники.
Дымов потянул на себя обитую войлоком набухшую дверь и сошел вниз по выщербленной ногами кирпичной лестнице. И сразу же в ноздри ему ударил кислый запах борща, жареного мяса и перегоревшей сивухи. В спертом, густом воздухе, в клубах едкого махорочного дыма сидели завсегдатаи, между столиками суетились половые, балансируя подносами, уставленными дымящимися мисками, графинчиками и пузатыми пивными кружками.
Дымов остановился в недоумении: что привело его сюда? И почему эти люди так равнодушно скользят по нему пустыми взглядами? Или все только что случившееся – жандармская карета, лежащий на земле со скрученными за спиной руками Добровольский, Кобышев с перекошенным лицом, прыгающий в пролетку шпик – лишь привиделось ему в бреду или кошмарном сне?
Нужно было успокоиться, собраться с силами.
Столик в углу был свободен, Дымов сел и заказал пива.
Когда он снова вышел на улицу, дождь перестал. Теперь Дымов уже твердо знал, как ему следует действовать: "Кобышев – провокатор. Добровольский схвачен, нужно предупредить товарищей…"
На Тверской он поймал лихача и велел гнать на Сивцев Вражек, к Бибикову. Степан Орестович снимал комнату на первом этаже старинного деревянного дома. Дымов бывал у него не раз; Бибиков жил по-спартански строго: железная кровать, этажерка с книгами, стол да два стула, на стене – французская литография с изображением одного из уютных уголков Парижа, на подоконнике – старенькая спиртовка, под кроватью стояла двухпудовая гиря: перед завтраком Бибиков занимался входившей тогда в моду шведской гимнастикой ("Революционер должен обладать железным здоровьем", – говорил он Дымову).
Все внешнее промелькнуло в сознании мимолетно, а мысль была лишь одна – успеть предупредить Бибикова, отвести нависшую над ним опасность. В то же время он понимал, что надежд не было почти никаких: скорее всего ловушка, в которую угодил Добровольский и чуть не угодил сам Дымов, уже захлопнулась и за остальными членами кружка, а также за всеми, кто был с ним связан и чьи адреса были известны Кобышеву.
Не доезжая до Сивцева Вражка, он отпустил извозчика, а сам осторожно пошел по неосвещенной стороне улицы. Его опасения оправдались: у дома, где снимал комнату Бибиков, стояла хорошо известная москвичам тюремная карета, и по тротуару, заложив руки за спину, прохаживался городовой.
Вскоре свет в окне Бибикова погас, дверь подъезда распахнулась, и на крыльце появился Степан Орестович в сопровождении двух жандармов. Один из них проворно вскочил на козлы, другой сел с арестованным в карету, колеса, удаляясь, прогрохотали по мостовой, и все стихло.
Снова припустил мелкий и настырный дождь. Промокший до нитки, усталый и продрогший, Дымов проехал еще и по другим адресам – всюду было одно и то же: судя по всему аресты были произведены почти одновременно.
Из картотеки начальника Московского губернского жандармского управления генерал-лейтенанта И.Л. Слезкина:
"Иван Прохорович Дымов, 1858, вероисповедания православного, из разночинцев. Родился в Рязани, отец Прохор Гаврилович – жестянщик, мать Пелагея Силовна – из крестьян деревни Софрино той же губернии.
Закончил гимназию с похвальным листом, после чего поступил в университет. Университетским начальством характеризован с положительной стороны. В преступном обществе состоит с сего года января месяца. В высказываниях осторожен, хотя и разделяет противуправительственные взгляды своих товарищей. Характер нервический, имеет склонность к созерцательности, но тверд в убеждениях. В силу своей широкой начитанности и разносторонних знаний способен пагубно влиять на окружающих.
При обнаружении подлежит немедленному задержанию…"
10
Как-то раз весной, вскоре после всколыхнувших всю Москву апрельских событий в Болгарии[1], Дымов присутствовал на одной из студенческих сходок и познакомился там с некоей Щегловой, учившейся в пансионе благородных девиц у Дорогомиловской заставы и жившей на Конной площади за Москвой-рекой. Щеглову звали Варей, у нее была толстая коса, маленький пухлый рот и нежный румянец, который привел его в тот вечер в совершеннейшее умиление. Он даже пытался ее поцеловать, и, кажется, поцеловал в розовое ухо – неловко и сильно смущаясь. Она отстранилась, смутилась тоже, но тем не менее позволила ему проводить ее на третий этаж в небольшую каморку; дома ее ждала подруга, учившаяся в том же пансионе. Они сидели втроем, пили чай, подруга, тощая и какая-то желтая с лица, полная противоположность Вареньке, курила длинные папиросы, строила Дымову глазки и нудно рассуждала об эмансипации женщин и еще о чем-то в том же роде, что тогда только-только входило в моду и обсуждалось во всех кружках и на каждой вечеринке.
Потом они встречались еще не раз.
Однажды Дымов застал у Вари в комнате незнакомого, слегка прихрамывающего мужчину в годах, – это был ее отец, недавно возвратившийся из-за границы. Звали его Петром Евгеньевичем.
Молодость безоглядчива. Разговоры, в которые его вовлекал Петр Евгеньевич, становились все более и более откровенными. Дымов не скрывал своих взглядов, Щеглов во многом разделял их. Постепенно между ними возникло взаимопонимание, которое так редко встречается среди людей разного возраста. Они часто совершали загородные прогулки, сиживали с удочками у реки, ходили на спектакли (Щеглов был завзятым театралом), а вечерами спорили до хрипоты об освобождении крестьян, о путях русской истории и новых романах Достоевского.
Скоро отношения их сделались настолько искренними, что скрывать что-либо было уже невозможно. И тогда Щеглов поведал ему историю своей жизни, что делал впервые: в порядочности Дымова он не сомневался.
Они сидели в полутемной комнате, Щеглов поминутно курил и нервно сминал в пепельнице окурки.
"Родился я неподалеку от Владимира, – говорил он, – учился в тамошней гимназии, потом в университете, но и первого курса не дотянул, как попал под следствие по делу Петрашевского…"
Хотя Петр Евгеньевич в кружок и не входил, но кто-то назвал его, он был судим и сослан в Туринск, в места суровые и дикие, где только тем и спасался, что усиленно занимался самообразованием.
К тому времени, когда он возвратился, старых друзей почти никого не осталось, те же немногие, что уцелели, переменились так, что дружбу с ним продолжать не желали, а иные просто отказывали от дома. Он перебивался уроками и прочей мелочишкой, едва сводил концы с концами, пока не познакомился с семьей Игнатия Федоровича Акимушкина, человека во всех отношениях безупречного, ума необыкновенного и трезвого. Впоследствии Щеглов узнал, что Акимушкин был знаком с Герценом и Огаревым; наезжая в Лондон, посещал их и доставлял из России материалы, использовавшиеся на страницах "Колокола". Игнатий Федорович был весьма заметной фигурой в министерстве иностранных дел и успешно продвигался по службе, пока не был выдан одним из своих сослуживцев, который официально засвидетельствовал о его связях с эмиграцией. Бедный Акимушкин не вынес унизительных допросов и, спасая честь семьи, покончил с собой на своей квартире в Хамовниках. Незадолго до смерти он просил Щеглова не оставить жену и дочь. Жена его Настасья Сергеевна ненадолго пережила мужа, а дочь их Елизавета Игнатьевна вскоре стала женой Петра Евгеньевича. В наследство от Акимушкина у Щеглова остались кое-какие бумаги, что удалось спасти во время обыска, и рекомендательное письмо в Лондон, в котором он просил Герцена принять участие в судьбе Петра Евгеньевича. Письмо это долго хранилось в ящике письменного стола, и Щеглов уже совсем было забыл о нем, как вдруг возникли обстоятельства, заставившие его с благодарностью вспомнить о предусмотрительном тесте. Короче, появилась необходимость срочно покинуть Россию, в связи с покушением на Александра II в Петербурге… Щеглов был дружен с Ишутиным. К счастью, Петр Евгеньевич избежал печальной участи своего друга и среди весьма и весьма немногих не был заключен в крепость. Но все еще ждало его впереди – Третье отделение, напуганное покушением, действовало энергично, следствие вели люди опытные, и каждый день всплывали все новые и новые имена. Оставалось одно – бежать. И тут Щеглов вспомнил о письме. Но вместе с Елизаветой Игнатьевной осуществить это рискованное предприятие было далеко не так просто, как представлялось вначале. Он не мог хлопотать о заграничном паспорте, нелегальный же переход границы был связан со многими опасностями, а у них к тому времени уже подрастала дочь Варенька. Тогда и решено было, что он едет один, а Елизавета Игнатьевна переберется к нему с дочерью чуть позже, когда улягутся страсти, к тому же необходимо было продать дом и кое-какое имущество… Он уехал, но радостное ощущение свободы вскоре было нарушено известием о смерти жены. Вареньку взяла на воспитание сестра Игнатия Федоровича, женщина крутого нрава, но справедливая и честная. Девочка получила неплохое образование, но в пансионе – сестра Игнатия Федоровича была ограничена в деньгах. А когда она неожиданно скончалась, девочку каким-то чудом разыскал отец Щеглова и весь последний год обучения содержал на свои скудные средства, о чем Варенька сообщила в письме Петру Евгеньевичу. Теперь ему непременно хотелось повидать отца, а потом забрать Вареньку и возвратиться в Лондон, где его ждали дела, товарищи по работе, жизнь, полная опасностей и смысла…
…Дымов ответил откровенностью на откровенность: он хотел увлечь Петра Евгеньевича идеей Добровольского – Щеглов выслушал его холодно. Он попытался предостеречь Дымова: "Ваша уловка с листками, увы, не нова. И вообще я глубоко убежден, что тактика политических авантюр не только изжила себя, но и опасна для нашего дела".
Они горячо поспорили и расстались недовольные друг другом.
С того дня Дымов не появлялся в доме на Конной площади, хотя и тосковал: для этого были еще и другие, особые, причины, о которых Щеглов догадывался по тем взглядам, которые Дымов бросал на его дочь…
Прошло две недели.
И вот Дымов снова стоял перед знакомым домом.
Из донесения генерал-лейтенанту ИЛ. Слезкину.
"…По делу П.Е. Щеглова, о коем вы изволили сделать запрос, имею доложить следующее. По сведениям, поступившим от нашего агента из Лондона, стало известно, что вышепоименованный господин выехал в неизвестном направлении. Возможно предположить, что Щеглов либо попытается перейти, либо уже перешел границу и находится на территории империи. Его связи в Петербурге и в Москве не установлены…"
11
Из дневника Д.А. Милютина:
"31 августа, вторник, Ливадия.
…Вот четвертый день, что я веду жизнь по установленным здесь порядкам и обычаям. Три раза в день все общество собирается в столовой (она же зала): к завтраку (в 12 ч.), к обеду (в 7 ч.) и на вечернее собрание (в 9 ч.). С первых же дней уже заметна написанная на всех лицах скука. Сам государь мрачен и озабочен; императрица нездорова, не выходит из комнаты и не принимает; между лицами свиты, особенно женского пола, – разлад. Для меня, впрочем, есть некоторое утешение – присутствие дочери. В самый день нашего приезда в Ливадию жена моя приезжала сюда повидаться со мной, т. к. я не мог отлучиться накануне торжественного дня 30 августа. Только сегодня, в день доклада моего, я отпросился навестить свою семью; сейчас отправляюсь в Симеиз, где надеюсь пробыть до пятницы, т. е. до следующего дня доклада…"
Надо сказать, что Дмитрий Алексеевич был человеком пунктуальным и щепетильным до мелочей. Впрочем, регулярное заполнение дневника он не считал мелочью, ибо, хотя и вел его тайно, надеялся все-таки, что его прочтут потомки. И нетрудно понять причины, двигавшие его пером: не все в его положении можно было высказать вслух, и так, как хотелось бы…
Короткий отдых вдали от Ливадии кое-что значил для Милютина: крепче стал сон, лучше аппетит, на щеках появился легкий осенний загар. Даже его супруга Наталья Михайловна, обычно скуповатая на комплименты, вынуждена была отметить случившуюся в нем перемену:
– Да ты помолодел, дорогой. На тебя стали заглядываться здешние красотки.
В ее устах это была шутка на грани непристойности. Урожденная Понсэ, она была воспитана в лучших аристократических традициях, старалась отучить мужа от солдатских манер, особенно когда его приблизили к особе его величества, и то, что их дочь Елизавета стала вскоре после этого фрейлиной императрицы Марии Александровны, пожалуй, тешило ее самолюбие даже в большей степени, нежели высокий пост военного министра, которого был удостоен ее супруг.
– А что, – принимая ее шутливый тон, отозвался Милютин, – ты, пожалуй, права. Во всяком случае, мне еще ой как далеко до этой развалины – князя Горчакова…
– Бедный князь, – грустно посетовала Наталья Михайловна. – Ты, Митя, не всегда к нему справедлив. Доживи прежде до его лет, а уж после суди. Давеча, на балу в Петербурге, Александр Михайлович произвел на меня очень приятное впечатление: сразу чувствуется порода, не то что какой-нибудь выскочка из нынешних.
– Порода действительно чувствуется, – согласился Дмитрий Алексеевич, – и умен Александр Михайлович, и начитан, и прекрасно разбирается во всех тонкостях дипломатической службы, разве я отрицаю? Но пора бы все-таки поставить у кормила внешней политики человека помоложе и более энергического. Старость осторожна – и это хорошо, но когда она осторожна сверх меры – уже плохо. Горчаков, как черт ладана, боится, всяческих перемен, а мы живем в мире, который постоянно меняется.
Наталья Михайловна снисходительно улыбнулась и махнула рукой – спорить с мужем было просто невозможно, в особенности если разговор касался Государственного канцлера…
В этот день вместо обычной генеральской формы Дмитрий Алексеевич надел просторный полотняный костюм и, поцеловав в лоб сидевшую на веранде жену, отправился на свою обычную утреннюю прогулку к берегу моря. Так было заведено издавна, еще со времени его первого пребывания в Симеизе.
В Петербурге в эту пору, как правило, пакостно и сыро – с Финского залива ползут на город тучи, идут серые липкие дожди, и все торопятся с дач под крыши своих домов, к печам и каминам; в Крыму же начинался бархатный сезон, и неспроста государь избрал сентябрь для отдыха – здесь еще держалось лето, еще можно было поплескаться в море, подышать запахом зелени и цветов.
По узенькой тропинке, пробитой в скалах, Дмитрий Алексеевич спускался к воде, садился на выступающий в море теплый камень и, наблюдая просторно открывавшуюся перед ним живую морскую гладь, предавался размышлениям. Но какова же была его досада, когда, спустившись на этот раз к галечному пляжу, он увидел на своем камне мужчину в широкополой соломенной шляпе и накинутом на плечи выгоревшем сюртуке! Мужчина сидел неподвижно, будто сросся с камнем, и взгляд его был обращен к морю.
Милютин смущенно потоптался за спиной незнакомца и собрался уж было повернуть назад, справедливо считая, что утро потеряно безвозвратно, но мужчина обернулся, и Милютин увидел перед собой волевое лицо, изрезанное глубокими шрамами, бледный лоб с залысинами и по-детски чистые голубые глаза под седеющими лохматыми бровями.
– Простите, – сказал незнакомец виновато, – я занял ваше место?
– Пустое, – отмахнулся Милютин. – Однако же кто вы и как сюда попали? Я знаю всех местных жителей, а вас вижу впервые.
– Меня вы и не могли видеть, потому что я нездешний и пришел сюда единственно ради того, чтобы встретить вас.
– С кем имею честь?
Незнакомец встал с камня, приподнял шляпу и представился:
– Зиновий Павлович Сабуров.








